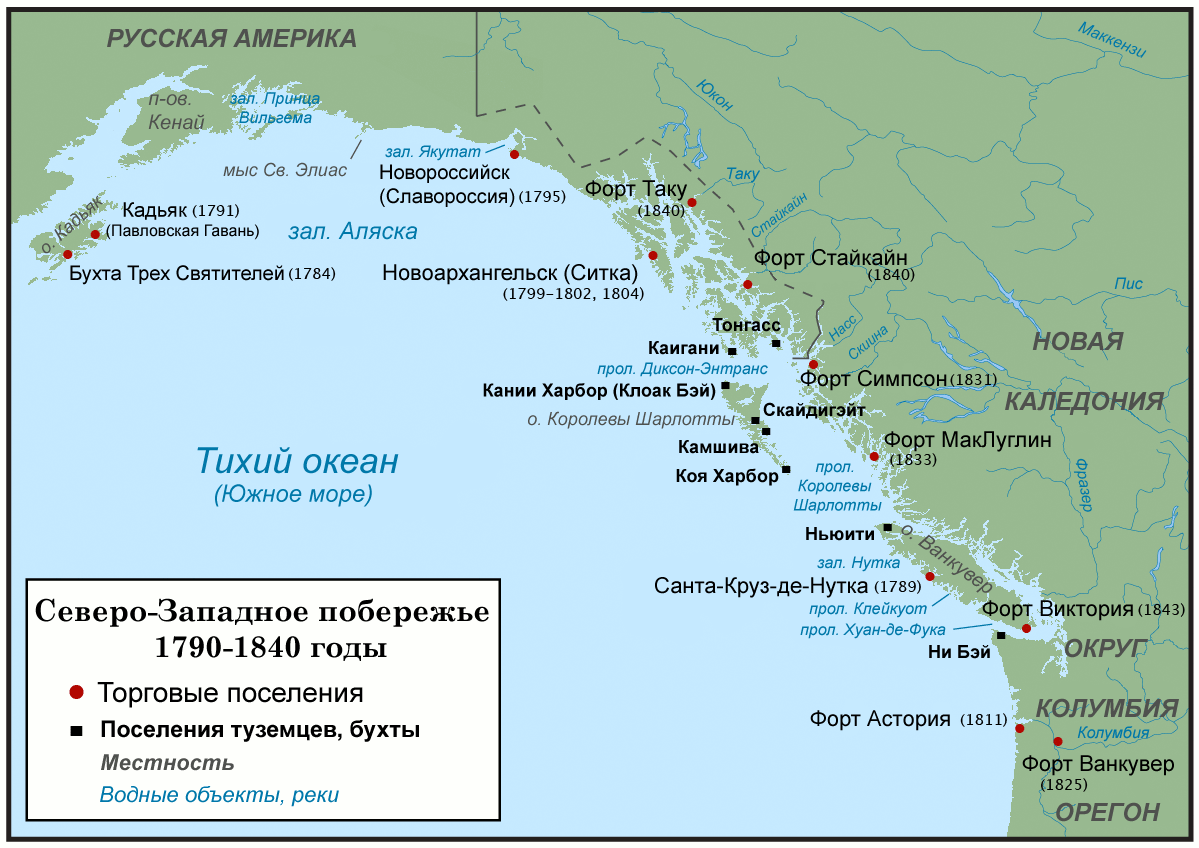Морской пушной промысел
Морской пушной промысел — морская торговля мехом калана (морской выдры) и других животных, которая велась с коренными народами Аляски и индейцами северо-западного побережья Северной Америки. Пушнина в основном шла в Китай, где она обменивалась на чай, шёлк, фарфор и другие китайские товары, после чего эти товары потом продавалась в Европу и США. Впервые морским промыслом пушнины начали заниматься русские: он вёлся на востоке от Камчатки, вдоль Алеутских островов и на южных берегах Аляски. Англичане и американцы начали вести торговлю в 80-х годах XVIII века, на побережье нынешней Британской Колумбии. Пик промысла пришелся на начало XIX столетия. В 10-х годах того же века начался долгий период спада. По мере уменьшения популяции калана, морской пушной промысел начал охватывать новые рынки и товары, но при этом он продолжал по большей части вестись на северо-западном побережье и в Китае. Промысел велся почти до конца XIX столетия. За все его время русские контролировали большую часть побережья нынешней Аляски. На побережье к югу от Аляски среди английских и американских торговых судов велась сильная конкуренция. Англичане первыми начали вести промысел в южной части, но они не смогли соперничать с американцами, которые занимали доминирующую позицию с 90-х годов XVIII века по 30-е годы XIX века. Английская Компания Гудзонова залива начала вести торговлю мехом в 20-е годы XIX века с целью вытеснения американцев. К 1840 году ей это удалось сделать. На закате морского пушного промысла им в основном занимались Компания Гудзонова залива и Российско-американская компания.
Чтобы разделять прибережную морскую торговлю мехом и материковую наземную торговлю, которой, например, занималась Северо-Западная компания и Американская меховая компания, историки придумал термин «морской пушной промысел»: в прошлом он был более известен как «Северо-западный прибережный промысел».[1]
Благодаря морскому промыслу северо-западное тихоокеанское побережье стало частью новой огромной сети международной торговли, охватывавшей Тихий океан. Она велась на основе капитализма (но не колониализма). Образовалась сеть треугольной торговли, которая соединила северо-западное тихоокеанское побережье, Китай, Гавайские острова (в то время недавно открытые западным миром), Англию и США (особенно Новую Англию). Промысел значительно повлиял на коренные народы северо-западного тихоокеанского побережья, особенно на алеутов, тлинкитов, народности алутиик, хайда, нутка и чинуки: резко увеличилось их благосостояние, но в то же время произошла депопуляция из-за эпидемических болезней, возросло рабство, потлач и военные столкновения. Однако туземная культура не была затронута резкими переменами: она, наоборот, процветала. Например, возросла важность тотемов и головных уборов,[2] появился чинукский жаргон, который является отличительной чертой культуры северо-западного тихоокеанского побережья. Гавайцы также схожим образом подверглись неожиданному притоку богатства, технологий и эпидемических болезней западного мира. На Китай и Европу морской пушной промысел оказал минимальное влияние, но на Новую Англию он оказал оживляющее воздействие, и помог превратить этот регион из сельскохозяйственного, в промышленный. Состояния, заработанные благодаря морскому промыслу пушнины, инвестировались в промышленное развитие, особенно в текстильное производство. В свою очередь текстильная промышленность Новой Англии оказала значительное влияние на рабство в США: большой спрос на хлопок привел к стремительному расширению хлопковых плантаций в глубоком юге США.[3]
Самой дорогой пушниной был мех калана, особенно его северного вида Enhydra lutris kenyoni, обитавшего в прибережных водах между рекой Колумбия на юге, и Алеутскими островами на севере. На калана охотились больше всего в период с XVII по XVIII века. Калан обладает самым густым мехом из всех млекопитающих. Благодаря уходу за шерстным покровом, калан никогда не линяет. Их шкурки приносили приличную выручку тем, кто ими торговал. В Китае шкурки каланов пользовались популярностью и считались модными — это была одна из причин, почему этот вид оказался практически истребленным. В данный момент тихоокеанские каланы занесены в канадский список видов, подверженных риску.[4] Их ареал крайне широк и удален: он простирается от севера Японии до мексиканского острова Седрос, образовывая непрерывную дугообразную полосу. В результате промысла Каланы были вынуждены перебраться в более северные регионы Тихого океана. Падение их популяции началось после того, как русские совершили экспедиции в местах их обитания. Охотники-алеуты снабжали русских торговцев и «американских авантюристов» шкурками калана.[5] До начала промысла популяция данного вида составляла 150—300 тысяч особей. Несмотря на такое поголовье, каланы размножались медленно: один выводок мог насчитывать одну, реже две, особи — такой темп размножения не может спасти популяцию во время массовой охоты.[6] Китайцы приобретали мех этого млекопитающего круглый год, так как он отличался превосходными свойствами и имел высокую ценность. Мех использовался богатыми китайцами в качестве украшения (им отделывали одеяния), а русские использовали его как декоративную деталь. Остальная пушнина, продаваемая в Европу и Америку, переделывалась под воротники и шляпы.[7] Благодаря огромному спросу на пушнину калана и её стоимости, издержки Российско-американской компании ежегодно составляли 100 тысяч рублей, а доходы — более 500 тысяч.[7] Мех калифорнийского вида калана, E. l. Nereis, стоил меньше и приносил меньшие доходы. После того как северный калан оказался практически истребленным, морские промышленники начали вести деятельность в Калифорнии и в результате та же самая ситуация повторилась и с южным каланом.[8] Английские и американские промысловики поставляли пушнину в китайский порт Гуанчжоу (Кантон), в котором они работали по Кантонской системе. Пушнина, добытая в Русской Америке, в основном продавалась в Китай через монгольский торговый город Кяхта, который был открыт для Российской империи в результате Кяхтинского договора 1727 года.[9]
Зарождение
Северо-западная территория Тихого океана стала последним важным неполярным регионом мира, который исследовали европейцы.[10] В результате вековых разведок и завоеваний, на земли Северной Америки стали претендовать многие империи. В конце XVIII — начале XIX веков ряд империй и коммерческих компаний устремились к северо-западному побережью через море и материковую сушу.[11] Российская и Испанские империи продвигались к региону одновременно, с противоположных направлений. Российские меховые компании двигались в Северную Америку вдоль Алеутских островов, и к 60-м годам XVIII века они достигли Лисьих островов и полуострова Аляска. В 1763 году Степан Гаврилович Глотов открыл остров Кадьяк.[9] В 1768 году российский флот в составе двух кораблей под командованием Петра Креницина и Михаила Левашова отправился из Камчатки в экспедицию к полуострову Аляска, для того чтобы оценить существующую русскую активность в регионе и возможность её дальнейшего развития.[12] Сообщения о плавании, которое должно было оставаться в секрете, дошли до Европы и вызвали обеспокоенность в Испании. Правительство Испании, озабоченное активностью Российской империи на Аляске, решило колонизировать Верхнюю Калифорнию и отправило исследовательские экспедиции на Аляску, чтобы оценить степень угрозы и усилить Испанское притязание на владения побережьем к северу от Мексики.[12]
Провинция Верхняя Калифорния была основана Хосе Гальвесом в 1769 году, одновременно с окончанием экспедиции Креницина-Левашова.[13] В 1782 году к Верхней Калифорнии отправилось пять отдельных экспедиций. К 1782 году в Сан-Диего, Монтерей, Сан-Франциско и Санта-Барбаре были возведены крепости (персидиос), которые были связаны между собой миссионерскими поселениями.[12] В 1774, 1775 и 1779 году Испанцы отправили исследовательские походы далеко на север.[12] В 1784 году центр активности русских сместился на восток от острова Кадьяк, и область охоты расширилась до залива Кука.[12] Две империи непременно столкнулись бы, но ещё до прямого контакта русских с испанцами на северо-западном побережье появились новые державы — Англия и Соединенные Штаты Америки. Первый контакт произошел в 1789 году у залива Нутка, но встретились не Испания и Российская империя, а Испания и Англия.[12] Англичане впервые попали в этот регион по морю в 1778 году, во время третьей экспедиции Джеймса Кука, и по суше в 1793 году, благодаря трансконтинентальной экспедиции Александра Маккензи, достигшей Тихого океана.[14] Первый английский торговец пушниной, Джеймс Хана, попал на северо-западное побережье в 1785 году. Первые американские торговцы, Роберт Грей и Джон Кендрик, прибыли туда по морю в 1788 году.[15] Экспедиция Льюиса и Кларка добралась туда по суше в 1805 году.[16]
Ранние торговцы пушниной были одновременно и торговцами, и исследователями. Северо-западное побережье, со слов Джорджа Симпсона,[17] было «лабиринтом воды»: оно состояло из сотен островов, многочисленных проливов и фьордов и горного, скалистого, и часто пологого побережья. Для навигации серьезную опасность представляли постоянные дожди, сильные ветры, густые туманы, сильные течения, приливы и подводные скалы. Характер ветров постоянно менялся и сбивал с толку, особенно в прибережных проливах и архипелагах, что делало мореходство опасным.[17] Ранние исследования, до начала эпохи морского промысла пушнины, проведенные Хуаном Пересом, Бруно де Хесета, Богеда Куадра и Джеймсом Куком, давали лишь поверхностные представления об особенностях побережья. Более тщательно исследованы были лишь несколько небольших территорий: заливы Нутка, Букарел и Кука.[18] Российские экспедиции до 1785 года в основном давали лишь поверхностные данные; они в основном ограничивались Алеутскими островами и материковой Аляской к западу от мыса Святого Элиоса.[19] Английские и американские торговцы пушниной начали посещать неизведанное в то время северо-западное побережье лишь в 1785 году. Несмотря на то, что Испанский флот и флоты других государств продолжали проводить некоммерческие экспедиции,[20] морские торговцы пушниной сделали ряд важных открытий: пролив Хуан-де-Фука, залив Клейкуот и Барклей (все обнаружены Чарльзом Барклей), пролив Королевы Шарлотты (Джеймс Стрейндж), залив Фитз Хаг (Джеймс Хана), бухта Грейс и река Колумбия (Роберт Грей). Джордж Диксон изучил пролив Диксон-Энтранс и первым установил, что острова Королевы Шарлотты не являлись частью материка.[21]
Российская империя
Российская империя начала вести морской пушной промысел в северной части Тихого океана после экспедиций Витуса Беринга и Алексея Чирикова, имевших место в 1741 и 1742 годах. Их экспедиции показали, что Азия и Северная Америка не соединялись сушей, что морские путешествия были возможны, и что регион был богат пушниной.[22] Промышленники[23] — частные торговцы пушниной — отправлялись в торговые походы из Камчатки; поначалу они сосредотачивались на близлежащих островах, таких как Командорские острова. В отличие от сибирских торговых предприятий пушниной, эти морские походы требовали такие капиталовложения, которые были не по карману промышленникам. Купцы из Иркутска, Тобольска и прочих городов европейской части Российской империи стали главными инвесторами.[9]
Один из ранних торговцев, Емельян Басов, в 1743 году вел промысел на острове Беринга, собирая огромное количество пушнины калана, морских котиков и песца.[22] Басов четыре раза отправлялся к острову Беринга и близлежащему Медному острову и заработал на этом состояния, тем самым вдохновив многих других промышленников.[23][24] В период с 1743 года и до 1799 года, когда была основана Российско-американская компания, от берегов Камчатки в сторону Северной Америки отправилось более ста частных охотничьих и промысловых экспедиций. В целом, все эти походы принесли прибыль на сумму в восемь миллионов серебряных рублей.[9] На раннем этапе морского промысла пушнины корабли традиционно останавливались у Командорских островов для забоя Стеллеровых коров и консервации их мяса. Стеллеровы коровы были безобидными морскими млекопитающими, чей ареал ограничивался этими островами. За ними охотились не только ради мяса, но и ради шкуры, из которой изготовлялись лодки, и подкожного жира, использовавшегося для масляных ламп. К 1768 году Стеллеровы коровы были полностью истреблены.[9] По мере уменьшения добычи пушнины, русские промысловики двигались вдоль Алеутских островов дальше на восток. В 60-х годах XVIII века они уже регулярно плавали к острову Кадьяк. Среди выдающихся русских промышленников того времени можно отметить Никифора Трапезникова (который в период с 1743 по 1768 год профинансировал и поучаствовал в десяти экспедициях), Максимовича Соловьева, Степана Глотова и Григория Шелихова.[25]
По мере того, как промышленники углублялись дальше на восток, экспедиции становились более длинными и дорогими, и поэтому маленькие артели объединялись в более крупные. В 80-х годах XVIII века Григорий Шелихов начал становиться одним из самых важных промышленников. В 1784 году Шелихов основал первое постоянное русское поселение в Северной Америке, в бухте Трех Святителей на острове Кадьяк. Шелихов предвидел, что российский морской пушной промысел будет постоянно расширяться и что торговые поселения будут создаваться все дальше и дальше вдоль побережья, аж вплоть до Калифорнии. Он хотел получить право контроля над промыслом; в 1788 году императрица Екатерина II предоставила его компании монополию, но только на тех территориях, которые она в тот момент занимала: прочие промышленники могли спокойно работать в других местах. Решение Екатерины было издано в качестве указа 28 сентября 1788 года.[22]
На момент издания указа Екатерины II морская деятельность русских в Северной Америке уже насчитывала сорок лет, в то время как другие государства только начинали заниматься морским промыслом пушнины. На огромной территории, простирающейся от Алеутских островов до заливов Кука и Принца Вильгельма, был основан ряд поселений. Каждый год от Камчатки к Аляске отправлялись множество кораблей.[22] Русские не только начали раньше заниматься промыслом пушнины, они также контролировали ареалы самых ценных видов каланов. Мех курильских, камчатских и алеутских каланов был не только более густым и блестящим, но и более темным, чем меха северо-западных и калифорнийских каланов.[26] На основании цвета, фактуры и густоты были выведены четыре оценки пушнины. Самыми ценными были меха курильских и камчатских каланов, алеутские оценивались двойкой, северо-западные — тройкой. Наихудшей же считалась пушнина калифорнийских каланов.[26] Российская империя также контролировала ареалы соболя, чей мех считался самым ценным среди всех млекопитающих.[26]
Отношение русских к коренным народам отличалось от отношения англичан или американцев. Русские использовали те же методы, что и в Сибири: нанимали или закрепощали алеутов и алутииков.[27] Алеуты и алутиики мастерски охотились на каланов, используя каяки и байдарки. Российские суда использовались в основном для транспортировки местных охотничьих групп и для оказания им помощи. Эта система отличалась от системы англичан и американцев: туземцы охотились на калана, после чего самостоятельно выделывали пушнину — по сути, они являлись независимыми торговыми агентами. Торговля между туземцами и русскими не была свободной: местные облагались ясаком (данью).[28] Ясак, широко использовавшийся в Сибири, по сути, закрепощал местных. В 1788 году он был запрещен в Русской Америке, но на смену ему пришел принудительный труд.[27]
Англия
Англия начала морской пушной промысел в 1778 году, во время третьей экспедиции Джеймса Кука. Когда Кук плыл на север с целью найти легендарный Северо-Западный проход, он открыл Гавайские острова. Он провел месяц, находясь в заливе Нутка северо-западного побережья. За это время он и его команда вели торговлю с народностью Нутка из деревни Юкуот. В итоге они приобрели 300 меховых шкурок, в основном калана, но не посчитали их ценными.[29] Позже, когда Кука убили на Гавайях, экспедиция посетила Кантон и была удивлена тем, что китайцы предлагали огромные деньги за эту пушнину. Доход команды составил 1800 %.[30] Джеймс Кинг, ставший после смерти Кука одним из капитанов, писал следующее: «Выгода, которую можно получить, отправив торговые экспедиции в эту часть американского побережья, представляется мне достаточно важной, чтобы привлечь внимание общественности». Команда двух кораблей настолько горела желанием вернуться в залив Нутка и приобрести пушнину, что она находилась «в шаге от поднятия мятежа».[31] Тем не менее они отплыли в Англию и прибыли туда в октябре 1780 года.[31] В 80-х годах XVIII века были опубликованы отчеты об экспедиции Кука и торговле пушниной калана, что вызвало волну предпринимательских экспедиций к северо-западному побережью.[32]
Пик заинтересованности Англии в морском промысле пушнины пришелся на период с 1785 по 1794 годы, после чего он уменьшился, так как Французские революционные войны сократили людские и денежные ресурсы Англии, и так как империя сосредотачивала свою иностранную торговую деятельность в Индии.[8] Британская Ост-Индская компания и Компания Южных морей мешали английским морским промысловикам пушниной. Несмотря на то, что к концу XVIII столетия Компания Южных морей уже отживала свой век, ей предоставили эксклюзивное право вести торговлю от имени Англии на всем западном побережье Америки — от мыса Горн до Берингова пролива, — и на 300 лиг (1400 км.) вглубь Тихого океана. Если учесть, что Ост-Индская компания обладала монополией на английскую торговлю в Китае, то выходило так, что пушнину калана можно было добыть лишь на территории одной монополии, а продать — на другой. Чтобы работать легально, английским морским промысловикам пушниной приходилось приобретать лицензию у двух компаний, а это было и сложно, и дорого. Некоторые торговцы получали лицензию лишь у Ост-Индской компании: они полагали, что Компания Южных морей не могла контролировать свою монополию. Другие получали лицензию лишь у Компании Южных морей, и везли пушнину в Англию, из которой её морем переправляли в Китай.[33] Некоторые промысловики уклонялись от лицензирования, плавая под иностранными флагами.[34] В Китае Ост-Индская компания в основном торговала чаем и никогда не проявляла особого интереса к морскому промыслу пушнины. Компания обычно разрешала английским судам ввоз пушнины в Кантон, но требовала, чтобы пушнина продавалась через её представителей. За это она получала процент от доходов. Но Ост-Индская компания запрещала английским торговцам пушниной экспорт китайских товаров в Англию, и тем самым они лишались самой прибыльной части морского пушного промысла — транспортировки китайских товаров в Европу и Америку.[34]
В 1785 году «Sea Otter», под командованием Джеймса Ханы, стало первым английским торговым судном, которое отправилось к северо-западному побережью с одной-единственной целью ведения промысла пушнины.[35] Во время краткого посещения побережья они добыли 560 шкурок, и в Кантоне выручили на них 20 тысяч долларов. Перспективы таких доходов обнадеживали других торговцев.[36] В 1785 году Джордж Диксон и Натаниэль Портлок, бывшие члены команды Кука, совместно организовали компанию «Залив короля Джорджа», чтобы исследовать северо-западное побережье и вести там торговлю.[37] Они отплыли из Англии на кораблях «King George» и «Queen Charlotte» и в 1786-87 годах занимались исследованием и промыслом на северо-западном побережье.[38] Они провели зиму на Гавайях, став одними из первых посетителей этих островов после Кука.[39] В 1786-88 годах из Англии к северо-западному побережью плавал ещё один торговец — Чарльз Уильям Баркли.[40] Его сопровождала жена, Франциса Баркли — она стала первой европейской женщиной, которая посетила Гавайские острова,[41] и первой женщиной, совершившей кругосветное плавание без обмана. До неё это удалось сделать лишь двум женщинам: Жанне Барре, переодевшись в мужчину, и Роуз де Фрейсине, жене Луи де Фрейсине, спрятавшись на корабле.[42] Баркли решил совершать поход под флагом Австрии, чтобы не платить за лицензии Ост-Индской компании и Компании Южных морей. Во время остановки на Гавайях он нанял туземку по имени Уини в качестве служанки. Уини стала первой гавайкой, побывавшей в северо-западной части Тихого океана.[42] Баркли исследовал побережье к югу от залива Нутка, и в результате этого открыл пролив Хуан-де-Фука.[41] Он стал первым торговцем, посетившим Ни Бэй — поселение Мака, позже ставшее важным портом захода для морских промысловиков пушниной.[43]
Джон Миарез, также служивший под командованием Кука, отправился к северо-западному побережью в 1786 году.[44] Он провел зиму в заливе Принца Вильгема: корабль оказался заблокированным во льдах, а его люди погибли от цинги. Его спасли вовремя прибывшие Диксон и Портлок. Миарез организовал второй поход на двух кораблях, «Felice Adventurero» и «Iphigenia Nubiana»: капитаном первого был Миарез, а второго — Уильям Дуглас. Миарез решил не приобретать лицензии для кораблей у Ост-Индской компании; вместо этого он попытался скрыть свою незаконную деятельность, используя флаг Португалии.[45] Они прибыли в залив Нутка в мае 1788 года. Позже Миарез утверждал, что вождь Макуина продал ему некоторую землю и что он на ней возвел здание. Это заявление позже стало одной из причин спора за залив Нутка. Испания, хотевшая получить контроль над заливом, отвергала эти притязания. Никто точно не знает об истинном положении вещей этого спора.[46] Однако никто не подвергает сомнению тот факт, что Миарез построил в заливе Нутка шлюп «Северо-западная Америка» — первое судно в северо-западной части Тихого океана, построенное не представителем коренных народов.[46]
В следующем году Миарез и другие организовали ещё один поход. В залив Нутка отправился ряд кораблей, среди которых были «Argonaut», под командованием Джеймса Колнета, «Princess Royal» под предводительством Томаса Хадсона, «Iphigenia Nubiana» и «Северо-западная Америка».[47] Колнет хотел основать в заливе постоянное промысловое поселение.[48] Однако Испания тоже решила занять залив на постоянной основе и провозгласить свою власть над северо-западным побережьем, из-за русской деятельности на Аляске и возможного занятия русскими залива Нутка. Испанский морской офицер Эстебан Хосе Мартинес прибыл в Нутку в мае 1789 года и построил форт Сан Мигель.[49] Когда в залив прибыл «Argonaut», между Колнетом и Мартинесом возник спор, в результате которого несколько английских кораблей были захвачены, а их команды арестованы. Это происшествие привело к спору за залив Нутка — международному кризису между Англией и Испанией. Войну удалось предотвратить благодаря Нуткскому соглашению 1790 года.[50]
Соединенные Штаты Америки
Американские промышленники оказались вдохновлены несанкционированным отчетом Джона Ледьярда, который был опубликован в 1783 году в городе Хартфорд, штата Коннектикут.[51][52] Уже в 90-х годах XVIII века американские промысловики обогнали англичан, и вскоре они занимали господствующее положение в морском промысле пушнины к югу от Русской Америки.[32] Для купцов Новой Англии начало промысла пришлось как нельзя кстати: он позволил прекратить спад, возникший после Войны за независимость США. Он давал новые торговые перспективы, которые с лихвой компенсировали закрытие Англией всех своих портов (в том числе и колониальных) для товаров из США.[53]
Одним из первых знаменитых американских промысловиков пушниной был Роберт Грэй.[54] Он совершил два торговых похода: первый длился с 1787 по 1790 годы, а второй 1790 по 1793 годы. Первый поход он совершил совместно с Джоном Кендриком, на кораблях «Columbia Rediviva» и «Lady Washington». После того, как сезонный промысел 1789 года закончился, Грэй на «Columbia» отправился в Китай, через Гавайи, а затем в Бостон, через Мыс Доброй Надежды. В Бостоне корабль встречали с почестями, поскольку он стал первым американским кораблем, совершившем кругосветное плавание.[55][56] Однако поход не увенчался коммерческим успехом. Владелец судна профинансировал второй поход, и Грэй выплыл из Бостона на «Columbia» всего через шесть недель после своего возвращения. Второй поход Грэя оказался примечательным по нескольким причинам. Прозанимавшись летом промыслом на северо-западном побережье, Грэй остался на нём зимовать. В заливе Клейкуот команда Грэя построила дом, назвав его фортом Дефаянс, и шлюп «Adventure» — первое американское судно, построенное на северо-западном побережье. Оно было спущено на воду в марте 1792 года; командовать им назначили Роберта Хасуэла. Во время промыслового сезона 1792 года Грэй работал в южной части северо-западного побережья, в том числе и на реке Колумбия. Несмотря на то, что устье реки было замечено испанским исследователем Бруно де Хесета в 1775 году, другие исследователи или промысловики пушниной его обнаружить не смогли — Грэй стал первым, кто это сделал. Он назвал реку по названию своего корабля. Данное событие в дальнейшем использовалось Соединенными Штатами Америки в качестве основания для претензий на северо-западное побережье.[57]
Другими выдающимися американскими промысловиками пушнины были Уильям Ф. Старгис,[58] Джозеф Инграхэм,[59] Саймон Меткалф и Дэниэл Крос.[60][61] Одной из самых успешных американских фирм, занимавшейся промыслом на северо-западе, была «Перкинс и компания».[62]
Годы процветания
Американское господство
Американские торговцы доминировали в морском промысле пушнины с 90-х годов XVIII по 20-е годы XIX века. С 1788 по 1826 годы американские торговые суда совершили между США и Китаем, через северо-западное побережье, 127 походов. Промысел был прибыльным: в конце 10-х годов XIX века доходы от инвестиций составляли от 300 до 500 процентов. В первой половине XIX века доходы бывали ещё выше — 2200 процентов и больше, хотя если из них вычесть суммы на постройку и оборудование кораблей, то прибыль приближалась к 525 процентам.[63]
Рассвет промысла окончился примерно в 1810 году, после чего начался долгий период спада, характеризовавшийся проникновением в новые сферы экономической деятельности. К 1810 году приток шкур калана упал из-за перепромысла. Во время Англо-американской войны американская торговля мехами пошла на убыль, но после 1815 года американцы возобновили и расширили морской пушной промысел и продолжили занимать в нём лидирующее положение.[32]
Экспансия русских
Российская империя продвигалась к северо-западному побережью — за залив Принца Вильгема — медленными темпами, из-за нехватки кораблей и моряков. Русские достигли залива Якутат в 1794 году, а в 1795 году они построили там поселение Новороссийск (Славороссия), которое должно было стать колониальным центром.[64] Разведкой побережья вплоть до островов Королевы Шарлотты занимался англичанин Джеймс Шилдс — служащий компании Голикова-Шелихова. В 1795 году Александр Баранов зашел в залив Ситка и провозгласил его частью России. Группы промышленников прибыли сюда в следующем году. К 1800 году три четверти всех выделанных шкурок калана Российско-американской компании добывались на территории вокруг залива Ситка (несколько тысяч в год). В заливе Ситка также впервые возникла серьезная конкуренция между русскими, англичанами и американцами.[65]
В июле 1799 года Баранов вернулся в залив Ситка на бриге «Орел» и основал поселение Архангельск, также известное как крепость Архангела Гавриила.[66][67] В июне 1802 года воины народа тлинкиты напали на это поселение и убили либо захватили большую часть проживавших там русских и алеутов (на тот момент там находилось 150 человек).[68] В июне 1804 года Баранов возглавил вооруженный поход, чтобы силой вернуть Ситку. Возле Ситки к Баранову присоединился боевой шлюп «Нева». Русские основали новую крепость, в то время как тлинкиты готовились к обороне в старой крепости. Напряжение резко переросло в перестрелки, в результате чего сорвались переговоры. В начале октября русские напали на крепость тлинкитов, обстреляв её из пушек «Невы» и с суши. Тлинкиты провели ответный обстрел из своих пушек и орудий. Осада Ситки продолжалась несколько дней, пока тлинкиты не оставили крепость и не покинули регион.[68][69] Русские снесли оставленную тлинкитами старую крепость и переименовали новую русскую крепость в Новоархангельск, (также известна как крепость архангела Михаила и крепость святого Михаила). Столкновения в заливе Ситка в 1802 и 1804 году значительно повлияли на отношение русских и тлинкитов на многие будущие поколения.[66][69]
Новоархангельск вскоре стал главным поселением и столицей Русской Америки. После продажи Аляски он был переименован в Ситку и стал первой столицей образования Территория Аляска.[65]
Российско-американская компания (РАК) была организована в 1799 году; тем самым был положен конец периоду промышленников и начат период централизованной монополии.[70] Её устав был изложен в том же году в указе Павла I. Он предоставлял компании монопольное право на торговлю на Алеутских островах и на материке Северной Америки к югу от 55-й параллели северной широты (примерно нынешняя граница на побережье между Британской Колумбией и Аляской). РАК создавалась по образцу Ост-Индской компании и Компании Гудзонова залива. Правители Российской империи хотели, чтобы компания работала и как торгово-промышленное предприятие, и как государственная организация по расширению влияния империи, подобно вышеназванным компаниям. Они также надеялись, что компания сможет вести морскую торговлю с Китаем и Японией, но этого не произошло.[71] В 1818 году правительство России взяло управление Российско-американской компанией на себя. Исследователь и морской офицер Фердинанд Врангель был первым президентом компании за время правительственного управления. В 1867 году, после продажи Аляски США, коммерческие интересы РАК были проданы компании «Hutchinson, Kohl & Company» из Сан-Франциско, которая впоследствии объединилась с другими группами в Коммерческую компанию Аляски.[52]
Доля русских в населении Америки никогда не превышала тысячу человек: самое большее число их было в 1839 году — 823 человека. Однако РАК нанимала и кормила тысячи туземцев. Согласно официальной российской переписи, население Русской Америки в 1838 году достигало 10 313 человек. Ещё 12 500 составляли местные жители, не внесенные в реестр. Ещё 17 000 в то время были не известны русским правителям. Итого, общее население Русской Америки составляло примерно 40 000 человек.[72]
Изменение и диверсификация
Российско-американская компания
Крепость Росс, сейчас известная как Форт-Росс, была построена в Калифорнии чуть севернее залива Сан-Франциско. Это был самый южный аванпост РАК, действовавший с 1812 по 1841 годы. Она была основана в качестве сельскохозяйственной базы — для обеспечения северных поселений едой, а также для ведения торговли с Верхней Калифорнией.[73] В состав колонии Росс входил ряд поселений, располагавшихся на территории от Пойнт Арена до залива Томалез Бэй.[74] Административным центром был порт Румянцев, находившийся в бухте Бодега, неподалеку залива Бодега. На Фараллоновых островах располагалась охотничья артель. Было основано три ранча: ранча Костромитинова, (возле реки Славянки, рядом с устьем ручья Уилоу), ранча Хлебникова (в долине ручья Салмон, в 1,6 км к северу от нынешнего города Бодега) и ранча Черных (располагавшаяся рядом с нынешним городом Гратон).[74][75] В крепости Росс работали коренные жители Аляски: они охотились на тюленей и каланов на побережье Калифорнии. К 1840 году популяция калифорнийского калана существенно уменьшилась.[76]
В 1821 году российский император Александр I издал указ, в котором северо-западное побережье к северу от 51-й параллели северной широты (чуть северней острова Ванкувер) объявлялось русским владением. Англия и США выразили протест, и переговоры в итоге привели к подписанию в 1824 году Русско-американской конвенции и в 1825 году Англо-русской конвенции. Согласно этим договорам, 54°40′ параллель становилась южной границей Российской территории. Исключение составляла крепость Росс, поскольку она была основана в Калифорнии ранее. Англо-русская конвенция обозначала границу Русской Америки детальным образом. Граница начиналась от 54°40′ сев. шир., потом шла на север, мимо прибережных гор и до 141° зап. дол., после чего граница шла прямо на север к Северному ледовитому океану. За исключением корректировки границы Юго-восточной Аляски, которая произошла в результате спора за границы в конце XIX века, она соответствовала нынешним границам штата Аляска. В 1839 году Компания Гудзонова залива получила в аренду юго-восточный участок территории, который теперь именуется Юго-восточной Аляской. Указ 1821 года был исполнен лишь один раз, когда в 1822 году российский шлюп «Аполлон» захватил бриг США «Pearl». Бриг — торговое судно пушниной — шел из Бостона в Новоархангельск. После протеста правительства США бриг освободили и выплатили за него компенсацию.[77]
Американская стратегия и методы
Американские торговцы разработали торговый путь вокруг света, названный «Золотым кольцом». Корабли выплывали из Бостона и, огибая мыс Горн, направлялись в Тихий океан. Весной или в начале лета они прибывали к северо-западному побережью. Летом и частично осенью они занимались морским промыслом пушнины, в основном между Новоархангельском и рекой Колумбия. В конце осени они отбывали к Гавайским островам, где они обычно проводили зимовку, а потом направлялись в Макао и прибывали туда осенью. Торговля в Кантоне начиналась лишь в ноябре, когда завершалась подготовка к отправке чая. Американцам приходилось нанимать проводников, которые проводили их корабли по Жемчужной реке к «вспомогательному» порту Кантона: тогда действовал запрет на заход иностранных кораблей в сам город. На торговлю уходили недели или даже месяцы, после чего корабли загружались китайскими товарами: чаями, шелком, фарфором, сахаром, кассией и редкими антикварными вещами. Они отплывали зимой и с помощью северо-восточных муссонов Южно-Китайского моря добирались до Зондского пролива. С помощью южно-восточных пассатов корабли пересекали Индийский океан и добирались до мыса Доброй надежды. Из него корабли плыли в Бостон и швартовались в Индийской пристани.[78] Фредерик Уильям Ховэй называл этот путь «золотым кольцом» и писал: «У американцев было идеальное золотое кольцо доходов: первый раз они получали прибыль, когда продавали первоначальный груз за пушнину. Второй раз — когда пушнина конвертировалась в китайские товары. А третий — когда эти товары достигали Америки».[79] В поздние годы северо-западной торговли схема стала более сложной, поскольку в неё добавили дополнительные рынки сбыта и второстепенные походы.[78]
По мере развития северо-западной торговли становилось рискованно зависеть лишь от одной скупки пушнины калана у коренных народов побережья. В первой половине XIX века началось распространение торговой деятельности на новые сферы, и со временем оно лишь увеличивалось. Морские походы больше не предпринимались лишь для перевозки шкурок калана от северо-западного побережья в Кантон. В систему торговли были добавлены другие рынки и товары тихоокеанского региона. Сандаловая древесина, в основном Гавайская, стала важной статьей торговли с Китаем. В то время как пушной промысел калана шел на спад, промысел сандаловой древесиной процветал и достиг своего пика в 1821 году, после чего он начал падать. К 1830 году гавайская сандаловая древесина исчезла.[80] Другими источниками древесины были Фиджи и Маркизские острова — их запасы использовали к 1820 году.[81] Фиджи также были богаты трепангами, считавшимися в Китае деликатесом. Американские торговцы начали приобретать трепанги островов Фиджи в 1804 году, в результате чего там расцвела практика сбора этого плода (трепангинг). К 1830 году трепанга стала лидирующей статьей экспорта Фиджи. Исчерпание данных плодов привело к спаду и окончанию торговли к 1850 году. С 1812 года трепангинг также велся на Гавайях и с 1814 года — на Маркизских островах.[82] Помимо этого американцы также торговали чилийской медью из Вальпараисо, безделушками из китовых зубов, панцирями черепах, мясом из Галапагосских островов, сахаром из Манилы, плодами пальмы катеху из Явы и кофейными зернами. Бельковый промысел процветал на островах Хуан-Фернандес: тамошние морские котики вида Arctocephalus philippii были практически полностью истреблены. Лежбища северного морского котика контролировались Российской империей, поэтому Американцы добывали шкурки северного морского котика через торговлю, а не охоту.[80]
Ещё одним видом торговли была контрабанда по тихоокеанскому побережью Испанской империи (там действовал запрет на иностранную торговлю). Эта торговля достигла своего пика в 10-х года XIX века, и к 20-м годам она пошла на спад. Торговля концентрировалась в Верхней Калифорнии, в которой было перепроизводство зерна, мяса, жира и шкуры, но испытывался недостаток в промышленных товарах. Американские корабли привозили товары миссиям в Верхней Калифорнии, обменивая их на зерно, мясо и пушнину калифорнийского калана. Зерно, мясо и прочая еда доставлялась в Новоархангельск, который постоянно испытывал недостачу в запасах продовольствия. После того как Мексика получила независимость в 1821 году, американская торговля с Верхней Калифорнией продолжилась в несколько ином виде. Американские торговцы привозили одежду, хлопок, шелк, кружево, ножевые товары, алкоголь и сахар, который затем продавались за шкуры и жир. Доходы обычно составляли 200—300 %. Калифорнийская торговля шкурами стала важной самостоятельной отраслью. Однако к 30-м годам XIX века власти Мексики сделали миссии Верхней Калифорнии светскими, а индейцы-рабочие покинули поселения.[80] Торговля стала убыточной. После прекращение американской торговли в Верхней Калифорнии оставалась лишь одна альтернатива для торговли пушниной калана — обеспечение провизией российских поселений в Русской Америке. Торговля велась вплоть до того, как американцы ушли из северо-западного побережья в начале 40-х годов XIX века. С первой половины XIX столетия и вплоть до 1841 года американские корабли на постоянной основе прибывали в Новоархангельск для обмена провизии, текстильных изделий и алкоголя на пушнину калана, древесину и рыбу. Для американцев эта торговля была крайне прибыльной, и российские поселения зависели от неё. Поэтому когда Николай I издал в 1821 году указ, запрещавший вести торговлю северней 51-й параллели, русские поселения в Америке были вынуждены игнорировать запрет и заниматься контрабандой.[80]
На самом северо-западном побережье торговля пушниной уступила место торговле рабами. Торговцы пушниной, особенно американские, увеличили и расширили существовавшую до этого торговлю туземцами. Занимаясь прибережным промыслом пушнины, американские торговцы покупали рабов в округе устья реки Колумбия и пролива Хуана-де-Фука, а потом на северо-западном побережье продавали или обменивали их. Мало кто из торговцев признавался в том, что он был рабовладельцем, хотя некоторые описывали свою деятельность в подробностях. Остальная информация всплывала в отчетах офицеров компании Гудзонова залива. Аэмелиус Симпсон писал в 1828 году, что американские промысловики торговали на побережье рабами: покупали их задешево у одного племени и продавали их другим, получая высокую прибыль. Он предположил, что американские торговцы зарабатывали на продаже рабов, алкоголя и пороха больше денег, чем на продаже пушнины.[83]
Упадок
Огромные экономические проблемы повлияли на спад морского промысла пушнины и на торговлю с Китаем в целом. До XIX столетия в Китае спрос на сырье и промышленные товары запада был низким, но слитки ценных металлов принимались, в результате чего из Запада в Китай происходил основной отток ценных металлов. В начале XIX века по ряду причин ситуация стала зеркальной. Потребность западных стран в китайских товарах упала, по сравнению с новыми предложениями (например, в США чай начал вытесняться кофе из западной Индии), в то время как спрос Китая на западные товары — английские изделия, американские товары из хлопка и опиум, который в Китае был запрещен, но завозился туда в качестве контрабанды — увеличился. Вскоре Китай начал лишаться ценных металлов и насыщаться западными товарами. В то же время английские и американские торговые компании начали активно вкладывать деньги в торговлю с Китаем. Поэтому к 20-м годам XIX века на затоваренном рынке конкурировало слишком много фирм, в результате чего это привело к разорению и объединению компаний. После биржевой паники 1825 года в 1826—1827 годах наступил неизбежный кризис. Цены на чай стремительно упали, а объём китайской торговли сократился. К этому времени морской пушной промысел на северо-западном побережье и старая торговля с Китаем уже уходили в прошлое. Последним ударом стала депрессия 1841-43-х годов, которая возникла в результате финансового кризиса 1837 года.[62]
Со временем промысловики пушниной начали сосредотачивать свою деятельность в других частях северо-западного побережья. В 90-х годах XVIII века они часто посещали западное побережье острова Ванкувер, в особенности залив Нутка. В 10-х годах XIX века они регулярно плавали к островам Королевы Шарлотты и архипелагу Александра, а в 20-х годах — к территории к северу от залива Ситка. К 10-м годам XIX века часто посещаемыми стали острова Королевы Шарлотты и архипелаг Александра, а в 20-х годах — территории к северу от залива Ситка. После 1830 года промысловики перешли на юг, на территорию от залива Диксон-Энтранс до залива королевы Шарлотты. На раннем этапе промысла корабли плыли вдоль побережья, ища любые возможности для торговли. Позже корабли проводили больше времени в конкретных бухтах. По мере истощения ресурсов пушнины и роста цен, команды кораблей сосредотачивались на нескольких портах захода. В итоге настало такое время, когда больше нельзя было получить за один год достаточное количество пушнины для торговли с Китаем. Некоторые торговцы зимовали на Гавайях, возвращаясь к побережью весной, но многие другие оставались на зимовку на северо-западном побережье, обычно в одной из ключевых для торговли бухт: Клеменцит на островах Тонглас,[84] бухтах Каигани в южной части острова Далл,[85] Ньюити на севере острова Ванкувер и Тонгасс в проливе Клоренса[86] (самая популярная зимняя стоянка у американских кораблей в 30-х годах XIX века). На островах Королевы Шарлотты, Массет, Скайдгейт, Самшива, Скеданс и в канале Хьюстон-Стюарт располагалось множество важнейших торговых стоянок.[87]
По мере уменьшение поголовья каланов в XIX веке, капитаны американских кораблей начали принимать пушнину других зверей, в частности бобров, которую доставляли из внутренних районов к побережью через торговые сети туземцев Новой Каледонии. В 20-е годы XIX века английская компания Гудзонова залива, считавшая пушной промысел во внутренних районах своей сферой, начала испытывать значительные убытки из-за поставок шкурок к побережью. Чтобы защитить свои интересы и вытеснить американских торговцев, компания начала заниматься прибережным промыслом. Эта цель была достигнута в 30-е годы того же века: к 1841 году американцы уже не плавали к северо-западному побережью. Некоторое время северо-западный промысел контролировался Гудзоновой и Российско-американской компаниями.[88] После урегулирования спора за Орегон между США и Англией и покупки Америкой Аляски в 1867 году, американские охотники снова начали вести пушной промысел калана в этом регионе — как на суше, так и на море. Промысел, который вели американские коммерческие организации на Алеутских и Курильских островах, также поспособствовал практически полному истреблению данных видов к концу XIX века.
Компания Гудзонова залива
С 1779 по 1821 год две английские промысловые компании мехом — монреальская Северо-Западная компания и лондонская Компания Гудзонова залива — соперничали за контроль над промыслом пушнины на территории нынешней западной Канады.[89] Борьба, которая в итоге вылилась в ряд вооруженных противостояний, в основном велась за земли Руперта, лежавшие к востоку от континентального перевала.[89] На рубеже XVIII и XIX столетий Северо-западная компания расширила сферу своей деятельности на запад, в самую неизведанную часть северо-запада Тихого океана.[89] К 10-м годам компания организовала пушной промысел к западу от Скалистых гор — в Новой Каледонии и Колумбии.[90] Начиная с 1811 года американская Тихоокеанская меховая компания вела соперничество с Северо-западной компанией в этом регионе, но во время Англо-американской войны Тихоокеанская компания, опасаясь захвата со стороны Английского флота, продала все свои активы Северо-западной компании.[90] Американская компания построила в устье реки Колумбия форт Астория. Северо-западная компания его переименовала в форт Джордж и он стал тихоокеанским портом округа Колумбия.[90] Северо-западная компания хотела наладить с Китаем торговлю шкурами бобра. Поскольку Ост-Индская компания контролировала английскую торговлю в Кантоне, Северо-западная компания обратилась к американским судоходным компаниям. С 1792 года американские фирмы начали поставляли её пушнину в Китай. Купив в 1815 году форт Джордж (Астория), Северо-западная компания начала вести поставки в округ Колумбия через бостонскую фирму «Перкинс и компания». Американские корабли, прибыв в форт Джордж, забирали бобровую пушнину Северо-западной компании в Кантон, где она обменивалась на китайские товары, которые после этого перевозились в Бостон на продажу. Несмотря на то, что «Перкинс и компания» брала 25 % с выручки, данная схема все равно была вполовину прибыльней, чем если бы английские корабли доставляли пушнину в Кантон через Ост-Индскую компанию за векселя, а потом возвращались из Китая пустыми.[34]
В 1821 году, после того как противостояние между Северо-западной компанией и компанией Гудзонова залива переросло в насилие, первая компания была вынуждена влиться во вторую. В итоге Гудзонова компания получила округ Колумбию и её торговлю с Китаем. Поначалу действовала схема с американской фирмой «Перкинс и компания», но в 1822 году таможенная служба США начала облагать выручку значительным налогом ad valorem. Гудзонова компания перестала пользоваться посредническими услугами американцев и попыталась продавать пушнину через Ост-Индскую компанию. В 1824-25 годах компания Гудзонова залива продала в Китай через Ост-Индскую компанию 20 тысяч шкурок бобра и 7 тысяч шкурок выдры, но данная схема не принесла выгоды обеим компаниям.[91]
Вслед за насильственным объединением Северо-западной компании с Гудзоновой, Джордж Симпсон реорганизовал деятельность в Новой Каледонии и в округе Колумбия. Его усилия и острое финансовое чутье, плюс возвращение американских промысловиков на побережье после Русско-американской конвенции 1824 года, привели к тому, что Компания Гудзонова залива решила начать заниматься на побережье морским промыслом пушнины и вытеснить оттуда американцев. В конце 20-х годов XIX века американские торговцы ежегодно возили из Новой Каледонии в Кантон от 3 до 5 тысяч шкур бобра. К началу 30-х годов число достигло 10 тысяч — столько же шкурок из Новой Каледонии вывозила и Гудзонова компания. Кроме того, американцы платили большую цену за пушнину, поэтому Гудзоновой компании приходилось делать то же самое.[92] Компания Гудзонова залива начала прилагать усилия для установления контроля за прибережной торговлей пушниной в начале 20-х годов XIX века. На покупку кораблей и товаров для торговли, найм опытных моряков и добычу разведки о прибережной торговле ушло некоторое время. Симпсон решил, что «Лондонские корабли», привозившие товары в форт Ванкувер и возвращавшиеся в Англию с мехами, должны прибывать раньше, чтобы перед своим уходом иметь время на прибережные походы. Первым лондонским кораблем, совершившим такое плавание в 1827 году, была шхуна «Cadboro». Однако она не ушла дальше пролива Джорджии и добыла всего две шкуры калана и 28 шкур выдр и бобров. В 1828 году Гудзонова компания решила отправить на торговлю три корабля, но из-за происшествий их уход был задержан. В 1829 году компания потеряла судно «William and Ann» на отмелях реки Колумбия, в 1830 — «Isabella», там же. Только к середине 30-х годов судоходство Гудзоновой компании стало отвечать требованиям прибережной торговли.[93] В 1835 году в прибережный флот Гудзоновой компании вошли два корабля. Одним из них был пароход «Beaver», который отлично справлялся с переменчивыми ветрами, сильными течениями и длинными, узкими заливами.[94]
С целью усиления прибережного промысла Компания Гудзонова залива возвела ряд укрепленных торговых поселений. Первым стал форт Лэнгли, основанный в 1827 году на реке Фрейзер,[95] в 50 километрах от её устья.[96] Следующим был форт Симпсон, основанный 1831 году в устье реки Насс. В 1833 году был основан форт МакЛуглин, на острове в заливе Милбанк, и форт Ванкувер: теперь суда Гудзоновой компании, занимавшиеся промыслом вдоль северного побережья, могли выгружать пушнину и забирать на борт товары для торговли, не заплывая в реку Колумбию с её опасными отмелями.[94] В дальнейшем появились другие поселения: форт Стайкайн (1840 год), форт Дёрхем (1840 год) и форт Виктория (1843 год).[97]
Невыгодное положение Американцев
Компании Гудзонова залива было не легко вынудить американцев уйти с северо-западного побережья. За плечами у американцев были десятилетия опыта и знания о комплексной географии побережья и его населении. Гудзонова компания накопила этот опыт лишь к 1835 году, но у американцев все равно были преимущества. По ряду причин американцы по собственному желанию платили высокую цену за пушнину — Гудзонова компания могла конкурировать с ней, но лишь за счет больших финансовых потерь. Американские предприятия были масштабными: они охватывали множество рынков — северо-западное побережье было лишь одним из многих. В 20-х годах XIX века американские корабли могли находиться в Тихом океане годами, совершая несколько походов между различными точками: Калифорнией, Гавайями, Филиппинами и Кантоном. На американских кораблях всегда был избыток торговых товаров, предназначавшихся для промысла на северо-западном побережье. Им перед отплытием непременно нужно было за любую цену избавиться от лишних товаров на западном побережье: освободившееся место использовалось для получения прибыли в других местах. Поэтому даже когда в компании Гудзонова залива узнали информацию о географии побережья и коренных народах, перед ней все равно стояли серьезные вызовы. Американская система не только повышала закупочные цены на пушнину, но и снижала отпускную цену торговых товаров. Более того, туземцы поняли, что увеличившаяся конкуренция была в их интересах и давала им возможность торговаться. Они совершенно не были заинтересованы в уходе американцев с северно-западного побережья. Поэтому если Гудзонова компания хотела выжить американцев, им нужно было превысить их цены. Закупочная цена на шкуры бобров оказалась бы намного выше, чем во внутренних районах, в которых работала Гудзонова компания. Получить прибыль представлялось невозможным. Чтобы быть конкурентными на побережье, компании Гудзонова залива нужно было понести огромнейшие финансовые убытки.[94]
Главным преимуществом Гудзоновой компании перед американцами было то, что она могла понести такие убытки. Поскольку она была огромной корпорацией с большим капиталом, она могла вести продажи в убыток многие годы. К середине 30-х годов XIX века целью компании была скупка пушнины за любую цену — лишь бы она не доставалась американцам. Вскоре для американцев прибережная торговля стала нерентабельной; Гудзонова компания сумела перехватить торговлю. Но американцы продолжали вести торговлю с русскими в Новоархангельске и изредка заходить к побережью для торговли. Пока эта практика продолжалась, Гудзоновой компании приходилось платить огромную цену за пушнину и терпеть убытки. В итоге торговля в Новоархангельске стала рискованной с финансовой точки зрения. Срок действия Русско-американской конвенция от 1824 года, согласно которой американцам разрешалось торговать на юго-восточной Аляске, окончился в 1834 году, и её не продлили. В 1839 году Компания Гудзонова залива заключила с Российско-американской компанией договор: первая поставляла второй провизию и товары в обмен на десятилетнюю аренду части юго-восточной Аляски. Это стало последним ударом для американских торговцев; в итоге они полностью прекратили вести морской пушной промысел на северо-западном побережье.[94]
Гудзоновой компании пришлось значительно снизить закупочные цены на пушнину, во многих случаях вполовину. Однако к этому моменту пушной промысел начал падать — как на побережье, так и на материке — из-за переистребления меховых животных и из-за снизившегося спроса на шкуры бобров. Финансовая паника 1837 года привела к значительному падению торговли пушниной и торговли с Китаем, завершив период полувекового процветания отрасли. В 40-х годах Компания Гудзонова залива закрыла большинство своих прибережных торговых поселений, оставив лишь форт Симпсон, пароход «Beaver» и новый склад в форте Виктория.[94]
Значение
Примерно полвека морской промысел пушнины и торговля на северо-западном побережье обогащала бостонских судовладельцев, производя капитал, который способствовал превращению Новой Англии из сельскохозяйственного региона в индустриальный. Торговля дала толчок культурам коренных народов северо-западного побережья, сделала Гавайцев известными и подвергла их западному влиянию. Она играла важную роль в нарастающем коммерческом давлении на Китай (через Кантон). Популяция меховых животных сильно пострадала, особенно каланов: к 1850 году они были истреблены практически по всему северо-западному побережью, и теперь их можно было найти лишь на Алеутских островах и в Калифорнии.
Северо-западное побережье
Морской пушной промысел дал коренным народам северо-западного побережья материальное богатство, благосостояние и технологии. Он расширил и изменил межплеменные отношения, торговлю, войну и «колонизацию» туземцев из внутренних районов. Многие коренные народы из внутренних районов начали заниматься потлачингом.[98] В начале торговля привела к росту влияния некоторых вождей: Макуина, Уиканиниш, Татуш, Конкомли, Колтеан, Ког, Кании и Камшива. После этого началось увеличение числа вождей и общее падение их власти, частично из-за распространения богатства, которое давало отдельным охотникам возможность бросать вызов традиционным вождям. Увеличилась практика потлачинга, с помощью которой нувориши оспаривали роль вождей. В ответ потомственные вожди кланов защищали свою традиционную власть, став чаще давать тотемы, уборы и знатные имена предков, подтверждая их через потлачинг.[98]
Минусами прибережного промысла были волны эпидемических болезней, особенно оспы, распространение алкоголизма, туберкулеза, венерических заболеваний, в том числе сифилиса и бесплодия. Промысел также усилил существовавшую ранее систему рабства и торговли туземцами: возросло общее количество рабов и их распространение, увеличилась их эксплуатация. Несмотря на эти отрицательные влияния, коренные народы северо-западного побережья в целом избежали тех проблем, которые появились бы, если бы велось политическое управление и миссионерство и количество постоянных поселений было бы большим. Первые торговцы в основном располагались там сезонно, а поселения Гудзоновой компании были маленькими и их было немного. Миссионерство и прямое колониальное правление коренными народами проявилось в полную силу лишь в конце XIX века. В начале XIX века местные культуры не только выжили, но и начали процветать.[98]
Морской промысел также повлиял на схему сезонной миграции коренных народов и расположения поселений. Прибережные народности оказались «космополитизированными» — они стали частью глобальной рыночной экономики. Сперва они экспортировали меха, которые позже были вытеснены лососем, древесиной и произведениями искусства. В конце XIX века северо-западное побережье славилось своим ремеслом, особенно большими тотемами. В результате расцвело местное искусство. Туземцы импортировали множество западных товаров и вскоре стали зависеть от многих из них, например, от огнестрельного оружия и металлических орудий. Текстильные изделия стали важным предметом торговли во время раннего этапа морского промысла пушнины. Цена пушнины и истребление дающих её животных привело к тому, что местные народы для одежды вместо мехов стали использовать текстиль. Огнестрельное оружие имело положительное и отрицательное влияние: оно сделало охоту более эффективной, но в то же время сделало войны более беспощадными.[98]
Русская Америка
Русские, в отличие от англичан и американцев, попытались обратить местное население в христианство. Многие алеуты стали прихожанами Русской Православной церкви.[99] Русские миссионеры организовали для туземцев ряд церквей, таких как Церковь Вознесения Господня в Уналашке. Одним из выдающихся русских миссионеров был святой Иннокентий.[100] Он был канонизирован за служение в качестве миссионера, епископа и архиепископа на Аляске и Дальнем востоке.[101] Одним из самых первых христианских мучеников Северной Америки был святой Пётр Алеут.[102] Другими важными русскими миссионерами были Герман Аляскинский и Иоасаф Болотов.[103]
Гавайи
Влияние морского промысла пушнины на коренных гавайцев было похоже на влияние промысла на народности северо-западного побережья, но оно привело к большим изменениям. Гавайцы обычно были восприимчивы к западному нашествию и поселениям. Становление Камеамеа I в качестве короля и объединение островов под его властью оказалось возможным частично благодаря влиянию морского промысла пушнины и его масштабов. Приток богатств и технологий способствовал тому, что новое Королевство Гавайи оказалось относительно сильным, как в политическом, так и в экономическом плане.[104] Во время раннего периода промысла жители Гавайев познакомились со многими неместными продуктами питания: фасолью, капустой, огурцами, скуошем, тыквами, арбузами, апельсинами, а также товарными культурами: табаком, хлопком и сахаром. Среди завозимых животных были лошади, скот, овцы и козы. Благодаря своему плодородию, остров Оаху стал самым важным из всех островов. К 20-м годам XIX века население Гонолулу превысило 10 тысяч человек.[104] Гавайцы подверглись волнам ряда эпидемических болезней, в частности холеры. Доступ к алкоголю, особенно к грогу и джину, привел к распространению пьянства и использованию местного пьянящего перца. Данные угрозы здоровью, а также войны (связанные с объединением островов), засухи, а также приоритезация производства сандалового дерева над фермерством, послужили причиной возникновения голода и общего падения численности населения. К 1850 году местное население сократилось почти вполовину.[104]
Южный Китай
Влияние морского промысла пушнины на южный Китай само по себе было незначительным. Кантонская торговля в целом мало влияла на Китай: в основном она ограничивалась чаеводами Фуцзяня, изготовителями шелка Нанкиня, ремесленниками Кантона, различными посредниками и торговцами. Правящие маньчжуры держали морскую иностранную торговлю под контролем: она была разрешена лишь в Кантоне, но и даже в нём она велась за городской чертой. Китай в целом был самодостаточным. Влияние старой китайской торговли заключалась в основном в увеличении ввоза опия и имевшего к нему отношения вывозу специй. В результате этого Китай после 1830 года оказался интегрированным в мировую капиталистическую систему. Однако морской пушной промысел практически не играл в этом роли.[58]
Новая Англия
Для США морской пушной промысел был частью ост-индской торговли, которая базировалась в городах Салем, Бостон, Провиденс, Нью-Йорк, Филадельфия и Балтимор. Промысел сосредотачивался на азиатских портах: Кантоне, Калькутте, Ченнаи, Маниле, Джакарте и островах Маврикий и Суматра. Экспортировались следующие товары: пушнина, алкоголь, боеприпасы, женьшень, древесина, лёд, соль, испанские серебряные доллары, железо, табак, опиум и смола. Из Азии возились муслин, шёлк, нанка, специи, кассия, фарфор, чай, сахар и лекарства. Морской пушной промысел был лишь частью этой системы. В целом торговля с Азией играла важную роль на раннем этапе становления Соединенных Штатов, особенно на этапе становления Новой Англии. Накапливание огромного количества капитала за короткий срок способствовало промышленному и производственному росту Америки, которое также усиливалось резким ростом популяции и технологическим прогрессом. В Новой Англии текстильная промышленность стала доминирующей в середине XIX столетия. В свете падения торговли пушниной и упадка в коммерции после Наполеоновских войн, капитал ушел «с верфей, к водопадам» — от судоходных предприятий, к текстильным фабрикам (они изначально располагались поблизости источников гидроэнергии).[58] Текстильная промышленность, в свою очередь, оказала огромное влияние на рабство в США: она увеличила спрос на хлопок и поспособствовала стремительному расширению системы хлопковых плантаций в глубоком юге США.[3]
Напишите отзыв о статье "Морской пушной промысел"
Примечания
- ↑ Mackie Richard Somerset. [books.google.com/?id=VKXgJw6K088C Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific 1793–1843]. — Vancouver: University of British Columbia (UBC) Press, 1997. — P. 123. — ISBN 0-7748-0613-3.
- ↑ For more on the use of crests on the North West Coast, see: Reynoldson Fiona. [books.google.com/?id=jte28Ep3BoUC Native Americans: The Indigenous Peoples of North America]. — Heinemann, 2000. — P. 34. — ISBN 978-0-435-31015-8.
- ↑ 1 2 Farrow Anne. [books.google.com/?id=plYsNsZWZI0C Complicity: How the North Promoted, Prolonged, and Profited from Slavery]. — Random House, 2006. — P. xiv, 25–26, 35–37. — ISBN 978-0-345-46783-6.
- ↑ Edward J. Gregr, Linda M. Nichol, Jane C. Watson, John K. B. Ford and Graeme M. Ellis. Estimating Carrying Capacity for Sea Otters in British Columbia. Pub. Wiley on behalf of the Wildlife Society.The Journal of Wildlife Management, Vol. 72, No. 2 (Feb., 2008). P. 382
- ↑ Arthur Woodward. Sea Otter Hunting on the Pacific Coast. Publ. University of California Press on behalf of the Historical Society of Southern California. The Quarterly: Historical Society of Southern California, Vol. 20, No. 3 (SEPTEMBER,1938).P.120
- ↑ Arthur Woodward. Sea Otter Hunting on the Pacific Coast. Publ. University of California Press on behalf of the Historical Society of Southern California. The Quarterly: Historical Society of Southern California, Vol. 20, No. 3 (SEPTEMBER,1938).P.129
- ↑ 1 2 Web- Alaska History and Cultural Studies
- ↑ 1 2 [www.nwcouncil.org/history/FurTrade.asp Fur trade], Northwest Power & Conservation Council
- ↑ 1 2 3 4 5 Haycox Stephen W. [books.google.com/?id=8yu3pYpzLdUC Alaska: An American Colony]. — University of Washington Press, 2002. — P. 53–58. — ISBN 978-0-295-98249-6.
- ↑ Hayes Derek. [books.google.com/?id=sl57oHrVXGoC&pg=PA7 Historical Atlas of the Pacific Northwest: Maps of exploration and Discovery]. — Sasquatch Books, 1999. — P. 7. — ISBN 1-57061-215-3.
- ↑ Meinig D.W. [books.google.com/?id=yeyR0Ds6k58C&lpg=PP1&dq=shaping%20of%20america&pg=PA424#v=onepage The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History, Volume 1: Atlantic America, 1492–1800]. — Yale University Press, 1986. — P. 422–426. — ISBN 0-300-03548-9.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Haycox, pp. 58-62
- ↑ Weber David J. [books.google.com/?id=KOPdX2qaVrkC The Spanish Frontier in North America]. — Yale University Press, 1994. — P. 236–246. — ISBN 978-0-300-05917-5.
- ↑ Laut Agnes Christina. [books.google.com/?id=bekNAAAAIAAJ Pioneers of the Pacific Coast: a Chronicle of Sea Rovers and Fur Hunters, Volume 22]. — Glasgow, Brook & Company, 1915. — P. 46, 84.
- ↑ Laut, pp. 55-58
- ↑ [www.lewisandclarktrail.com/section2/ndcities/timeline1805.htm Lewis and Clark Timeline 1805], LewisAndClarkTrail.com
- ↑ 1 2 Gibson James R. [books.google.com/?id=lrOpy39-OhMC Otter Skins, Boston Ships, and China Goods: The Maritime Fur Trade of the Northwest Coast, 1785–1841]. — McGill-Queen's University Press, 1992. — P. 142–143. — ISBN 0-7735-2028-7.
- ↑ Hayes (1999), pp. 35-45
- ↑ Hayes (1999), pp. 29-32, 52-53, 63, 66
- ↑ Hayes (1999), pp. 67-81
- ↑ Hayes (1999), pp. 55-58, 62, 82
- ↑ 1 2 3 4 Pethick Derek. First Approaches to the Northwest Coast. — Vancouver: J.J. Douglas, 1976. — P. 26–33. — ISBN 0-88894-056-4.
- ↑ 1 2 Oleksa Michael. [books.google.com/?id=r6iwMR-xoEIC Orthodox Alaska: A Theology of Mission]. — St Vladimir's Seminary Press, 1992. — P. 82. — ISBN 978-0-88141-092-1.
- ↑ Bancroft Hubert Howe. [books.google.com/?id=ZHgpAAAAYAAJ History of Alaska: 1730–1885]. — A. L. Bancroft & Company, 1886. — P. 99–101. — ISBN 0-665-14184-X.
- ↑ Oleksa, pp. 84-89
- ↑ 1 2 3 Gibson James R. Imperial Russia in Frontier America: The Changing Geography of Supply of Russian America, 1784–1867. — Oxford University Press, 1976. — P. 33–34.
- ↑ 1 2 Gibson (1976), pp. 32-33
- ↑ Gibson (1992), pp. 14-15
- ↑ Pethick (1976), pp. 59, 63-64, 70-71
- ↑ Gibson (1992), pp. 22-23
- ↑ 1 2 Pethick (1976), pp. 72-76
- ↑ 1 2 3 Bockstoce John R. [books.google.com/?id=bAYNAAAAIAAJ The Opening of the Maritime Fur Trade at Bering Strait: Americans and Russians meet the Kan̳hiġmiut in Kotzebue Sound]. — American Philosophical Society, 2005. — P. 1–2. — ISBN 978-0-87169-951-0.
- ↑ Dodge Ernest Stanley. [books.google.com/?id=RE5vls1XeEgC Islands and Empires: Western Impact on the Pacific and East Asia]. — University of Minnesota Press, 1976. — P. 56. — ISBN 978-0-8166-0788-4.
- ↑ 1 2 3 Gibson (1992), pp. 25-28
- ↑ Robert J. King, «Heinrich Zimmermann and the Proposed Voyage of the KKS Cobenzell to the North West Coast in 1782—1783», The Northern Mariner/Le Marin du Nord, vol.21, no.3, July 2011, pp.235-262.
- ↑ [books.google.com/books?id=8ZTBawkiwBgC&pg=PA173 Native People, Native Lands: Canadian Indians, Inuit and Métis], by Bruce Alden Cox. Chapter 13 «Women Traders in the Maritime Fur Trade», by Loraine Littlefield. Pages 173—174, 180—181
- ↑ Robert J. King, «'The long wish’d for object' — Opening the trade to Japan, 1785—1795», The Northern Mariner / le marin du nord, vol.XX, no.1, January 2010, pp.1-35.
- ↑ Pethick (1976), pp. 97-100
- ↑ Henry B. Restarick (1928). «Historic Kealakekua Bay» (The Bulletin Publishing Company). .
- ↑ Barry M. Gough and Robert J. King, «William Bolts: An Eighteenth Century Merchant Adventurer», Archives: the Journal of the British Records Association, vol.xxxi, no.112, April 2005, pp.8-28.
- ↑ 1 2 [www.gordonmiller.ca/03_northwest_coast/Imperial-Eagle-1787.htm Capt. Barkley in IMPERIAL EAGLE in Barkley Sound], The Maritime Paintings of Gordon Miller
- ↑ 1 2 [www.abcbookworld.com/view_author.php?id=3313 BARKLEY, Frances], ABCBookWorld
- ↑ Tovell Freeman M. [books.google.com/?id=E8_LXicsIlEC At the Far Reaches of Empire: The Life of Juan Francisco De La Bodega Y Quadra]. — University of British Columbia Press, 2008. — P. 212. — ISBN 978-0-7748-1367-9.
- ↑ Robert J. King, «John Meares: Dubliner, Naval Officer, Fur Trader and would-be Colonizer», Journal of Australian Naval History, vol.8, no.1, March 2011, pp.32-62.
- ↑ Colnett James. [link.library.utoronto.ca/champlain/item_record.cfm?Idno=9_96874&lang=eng&query=Colnett,%20James&browsetype=Author The journal of Captain James Colnett aboard the Argonaut from April 26, 1789 to Nov. 3, 1791] / F.W. Howay. — Champlain Society, 1940. — P. xx.
- ↑ 1 2 Pethick Derek. The Nootka Connection: Europe and the Northwest Coast 1790–1795. — Vancouver: Douglas & McIntyre, 1980. — P. 18–23. — ISBN 0-88894-279-6.
- ↑ Fryer Mary Beacock. Battlefields of Canada. — Dundurn Press, 1986. — P. 131–140. — ISBN 1-55002-007-2.
- ↑ Frost Alan. [books.google.com/?id=UY-LfhuvJDkC The Voyage of the Endeavour: Captain Cook and the Discovery of the Pacific]. — Allen & Unwin, 1999. — P. 133–134, 138. — ISBN 1-86508-200-7.
- ↑ McDowell Jim. José Narváez: The Forgotten Explorer. — Spokane, Washington: The Arthur H. Clark Company, 1998. — P. 31–41. — ISBN 0-87062-265-X.
- ↑ [www.beyondthemap.ca/english/historical_nootka.html Nootka Crisis], Beyond the Map, Maritime Museum of BC
- ↑ [www.americanheritage.com/articles/magazine/ah/1961/1/1961_1_60.shtml Captain Cook’s American], AmericanHeritage.com
- ↑ 1 2 Bockstoce John R. [books.google.com/?id=HY6LvFMSxxwC&pg=PA364 Furs and Frontiers in the Far North: The Contest Among Native and Foreign Nations for the Bering Strait Fur Trade]. — Yale University Press, 2009. — P. 364, 368. — ISBN 978-0-300-14921-0.
- ↑ Gibson (1992), pp. 36-37
- ↑ The Columbia Rediviva and Lady Washington might have been the first American vessels to trade on the Northwest Coast; possibly the Eleanora under Simon Metcalfe was the first; according to Howay Frederic William. Voyages of the "Columbia" to the Northwest coast, 1787–1790 and 1790–1793. — Oregon Historical Society Press in cooperation with the Massachusetts Historical Society, 1990. — P. x–xi. — ISBN 978-0-87595-250-5.
- ↑ Howe, M.A. DeWolfe (1903). «[books.google.com/?id=_DcRAAAAMAAJ&pg=PA177 Chapters of Boston History: Episodes of Boston Commerce]». The Atlantic Monthly (Atlantic Monthly Company) 91. ISSN [worldcat.org/issn/0160-6506 0160-6506].
- ↑ State Street Trust Company (Boston); Walton Advertising and Printing Company (Boston). [books.google.com/?id=QikuAAAAYAAJ&pg=PA33 Old Shipping Days in Boston]. — State Street Trust, 1918. — P. 33–34.
- ↑ Howay Frederic William. Voyages of the "Columbia" to the Northwest coast, 1787–1790 and 1790–1793. — Oregon Historical Society Press in cooperation with the Massachusetts Historical Society, 1990. — P. vi–xi. — ISBN 978-0-87595-250-5.
- ↑ 1 2 3 Gibson (1992), pp. 291—296
- ↑ Hayes (1999), p. 83
- ↑ Malloy Mary. Boston Men on the Northwest Coast: The American Maritime Fur Trade 1788-1844. — The Limestone Press, 1998. — P. 153. — ISBN 978-1-895901-18-4.
- ↑ [www.nha.org/history/hn/HNmalloy.htm Rob Roy Author Exposed], Historic Nantucket article of the Nantucket Historical Association
- ↑ 1 2 Gibson (1992), pp. 249—250
- ↑ Gibson (1992), pp. 56-57
- ↑ McDougall Walter A. [books.google.com/?id=mQZIkcleBJEC Let the Sea Make a Noise: A History of the North Pacific from Magellan to MacArthur]. — Harper Collins, 2004. — P. 54, 115. — ISBN 978-0-06-057820-6.
- ↑ 1 2 Gibson (1992), pp. 13-14
- ↑ 1 2 [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1894404 Информационная система географических названий США: Fort Saint Michael (historical)]
- ↑ [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1424060 Информационная система географических названий США: Old Sitka]
- ↑ 1 2 Borneman Walter R. [books.google.com/?id=ATAS5eeN0fIC&pg=PA66 Alaska: Saga of a Bold Land]. — HarperCollins, 2004. — P. 66. — ISBN 978-0-06-050307-9.
- ↑ 1 2 Kan Sergei. [books.google.com/?id=E0-Aj0dOSuUC&pg=PA58 Memory Eternal: Tlingit Culture and Russian Orthodox Christianity through Two Centuries]. — University of Washington Press, 1999. — P. 58–65. — ISBN 978-0-295-97806-2.
- ↑ Oleksa, p. 93
- ↑ [www.loc.gov/rr/european/mofc/vinkovetsky.html Circumnavigation, Empire, Modernity, Race: The Impact of Round-the-World Voyages on Russia’s Imperial Consciousness], Ilya Vinkovetsky; Library of Congress
- ↑ [www.loc.gov/rr/european/mofc/bolkhov.html Some Results of the Study of the Maritime Colonization of Russian America and the Continental Colonization of Siberia], Nikolai N. Bolkhovitinov; Library of Congress
- ↑ Dmytryshyn Basil. The Russian American Colonies, 1798–1867: A Documentary Record. — Oregon Historical Society Press, 1989. — ISBN 978-0-87595-150-8.
- ↑ 1 2 Hayes Derek. Historical Atlas of California. — University of California Press, 2007. — ISBN 978-0-520-25258-5.
- ↑ Schneider, Tsim D. (2006). «[www.scahome.org/publications/proceedings/Proceedings.19Schneider.pdf New Thoughts on the Kostromitinov Ranch, Sonoma County, California]». Proceedings of the Society for California Archaeology 19: 36–39. ISSN [worldcat.org/issn/0897-0947 0897-0947]. Проверено 25 March 2010.
- ↑ [www.dfg.ca.gov/MLPA/pdfs/impact_ncc/chapter7.pdf Draft Environmental Impact Report, Chapter 7 Social Resources]. California Department of Fish and Game (March 2009). Проверено 25 марта 2010.
- ↑ [books.google.com/books?id=CCAAAAAAYAAJ&pg=PA68&lpg=PA68 Macmillan’s Magazine, Volume 77, 1898], p. 68
- ↑ 1 2 Gibson (1992), pp. viii, 39-56
- ↑ Gibson (1992), pp. 52-53; quoting Howay, Frederic William (March 1923). «Early Days of the Maritime Fur-Trade on the Northwest Coast». Canadian Historical Review 4: 26–44. DOI:10.3138/CHR-04-01-03. ISSN [worldcat.org/issn/0008-3755 0008-3755].
- ↑ 1 2 3 4 Gibson (1992), pp. 251—267
- ↑ [www.auracacia.com/auracacia/aclearn/features/sandalwood4.html Sandalwood Sustainability & Australian Regeneration Efforts], Aura Cacia
- ↑ Lal Brij V. [books.google.com/?id=T5pPpJl8E5wC The Pacific Islands: An Encyclopedia]. — University of Hawaii Press, 2000. — P. 210–211. — ISBN 978-0-8248-2265-1.
- ↑ Gibson (1992), pp. 233—235
- ↑ [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1424598 Информационная система географических названий США: Port Tongass]
- ↑ For more information, see [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1895000 Информационная система географических названий США: Kaigani Harbors], [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1414891 Информационная система географических названий США: South Kaigani Harbor], [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1421360 Информационная система географических названий США: Datzkoo Harbor], and [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1422922 Информационная система географических названий США: Kaigani Strait]
- ↑ [geonames.usgs.gov/pls/gnispublic/f?p=gnispq:3:::NO::P3_FID:1415177 Информационная система географических названий США: Tamgas Harbor]
- ↑ Trading site information throughout Gibson (1992)
- ↑ Gibson (1992), pp. 60-61, 180—181
- ↑ 1 2 3 [www.nps.gov/history/history/online_books/fova/clr/clr2-0.htm The Hudson’s Bay Company], Fort Vancouver: Cultural Landscape Report, Instrodution, Volume 2. National Park Service
- ↑ 1 2 3 Mackie Richard Somerset. [books.google.com/?id=VKXgJw6K088C Trading Beyond the Mountains: The British Fur Trade on the Pacific 1793-1843]. — University of British Columbia (UBC) Press, 1997. — P. 11–19. — ISBN 0-7748-0613-3.
- ↑ Gibson (1992), pp. 26-28
- ↑ Gibson (1992), pp. 62-63
- ↑ Gibson (1992), pp. 67-68
- ↑ 1 2 3 4 5 Gibson (1992), pp. 64-83
- ↑ [www.pc.gc.ca/eng/lhn-nhs/bc/langley/natcul/natcul2.aspx Fort Langley National Historic Site — History], Parks Canada
- ↑ [www.fortlangley.com/about_history.html History of Fort Langley], Fort Langley, BC
- ↑ [www.abcbookworld.com/view_author.php?id=4401 Simpson, George], ABC BookWorld
- ↑ 1 2 3 4 Gibson (1992), pp. 269—277
- ↑ [www.oca.org/MVhistoryintroOCA.asp?SID=1 A History and Introduction of the Orthodox Church in America], The Orthodox Church in America
- ↑ [www.oca.org/hsbioinnocent.asp?SID=8 Biography of St. Innocent of Alaska], The Orthodox Church in America
- ↑ Oleksa Michael. Orthodox Alaska: A Theology of Mission. — St Vladimir's Seminary Press, 1992. — P. 111–133. — ISBN 978-0-88141-092-1.
- ↑ [ocafs.oca.org/FeastSaintsViewer.asp?SID=4&ID=1&FSID=102713 Martyr Peter the Aleut of Alaska, America, and San Francisco], The Orthodox Church in America
- ↑ Haycox, pp. 94-96, 144—146
- ↑ 1 2 3 Gibson (1992), pp. 278—291
Отрывок, характеризующий Морской пушной промысел
Пьер все так же ездил в общество, так же много пил и вел ту же праздную и рассеянную жизнь, потому что, кроме тех часов, которые он проводил у Ростовых, надо было проводить и остальное время, и привычки и знакомства, сделанные им в Москве, непреодолимо влекли его к той жизни, которая захватила его. Но в последнее время, когда с театра войны приходили все более и более тревожные слухи и когда здоровье Наташи стало поправляться и она перестала возбуждать в нем прежнее чувство бережливой жалости, им стало овладевать более и более непонятное для него беспокойство. Он чувствовал, что то положение, в котором он находился, не могло продолжаться долго, что наступает катастрофа, долженствующая изменить всю его жизнь, и с нетерпением отыскивал во всем признаки этой приближающейся катастрофы. Пьеру было открыто одним из братьев масонов следующее, выведенное из Апокалипсиса Иоанна Богослова, пророчество относительно Наполеона.В Апокалипсисе, главе тринадцатой, стихе восемнадцатом сказано: «Зде мудрость есть; иже имать ум да почтет число зверино: число бо человеческо есть и число его шестьсот шестьдесят шесть».
И той же главы в стихе пятом: «И даны быта ему уста глаголюща велика и хульна; и дана бысть ему область творити месяц четыре – десять два».
Французские буквы, подобно еврейскому число изображению, по которому первыми десятью буквами означаются единицы, а прочими десятки, имеют следующее значение:
a b c d e f g h i k.. l..m..n..o..p..q..r..s..t.. u…v w.. x.. y.. z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
Написав по этой азбуке цифрами слова L'empereur Napoleon [император Наполеон], выходит, что сумма этих чисел равна 666 ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. Кроме того, написав по этой же азбуке слова quarante deux [сорок два], то есть предел, который был положен зверю глаголати велика и хульна, сумма этих чисел, изображающих quarante deux, опять равна 666 ти, из чего выходит, что предел власти Наполеона наступил в 1812 м году, в котором французскому императору минуло 42 года. Предсказание это очень поразило Пьера, и он часто задавал себе вопрос о том, что именно положит предел власти зверя, то есть Наполеона, и, на основании тех же изображений слов цифрами и вычислениями, старался найти ответ на занимавший его вопрос. Пьер написал в ответе на этот вопрос: L'empereur Alexandre? La nation Russe? [Император Александр? Русский народ?] Он счел буквы, но сумма цифр выходила гораздо больше или меньше 666 ти. Один раз, занимаясь этими вычислениями, он написал свое имя – Comte Pierre Besouhoff; сумма цифр тоже далеко не вышла. Он, изменив орфографию, поставив z вместо s, прибавил de, прибавил article le и все не получал желаемого результата. Тогда ему пришло в голову, что ежели бы ответ на искомый вопрос и заключался в его имени, то в ответе непременно была бы названа его национальность. Он написал Le Russe Besuhoff и, сочтя цифры, получил 671. Только 5 было лишних; 5 означает «е», то самое «е», которое было откинуто в article перед словом L'empereur. Откинув точно так же, хотя и неправильно, «е», Пьер получил искомый ответ; L'Russe Besuhof, равное 666 ти. Открытие это взволновало его. Как, какой связью был он соединен с тем великим событием, которое было предсказано в Апокалипсисе, он не знал; но он ни на минуту не усумнился в этой связи. Его любовь к Ростовой, антихрист, нашествие Наполеона, комета, 666, l'empereur Napoleon и l'Russe Besuhof – все это вместе должно было созреть, разразиться и вывести его из того заколдованного, ничтожного мира московских привычек, в которых, он чувствовал себя плененным, и привести его к великому подвигу и великому счастию.
Пьер накануне того воскресенья, в которое читали молитву, обещал Ростовым привезти им от графа Растопчина, с которым он был хорошо знаком, и воззвание к России, и последние известия из армии. Поутру, заехав к графу Растопчину, Пьер у него застал только что приехавшего курьера из армии.
Курьер был один из знакомых Пьеру московских бальных танцоров.
– Ради бога, не можете ли вы меня облегчить? – сказал курьер, – у меня полна сумка писем к родителям.
В числе этих писем было письмо от Николая Ростова к отцу. Пьер взял это письмо. Кроме того, граф Растопчин дал Пьеру воззвание государя к Москве, только что отпечатанное, последние приказы по армии и свою последнюю афишу. Просмотрев приказы по армии, Пьер нашел в одном из них между известиями о раненых, убитых и награжденных имя Николая Ростова, награжденного Георгием 4 й степени за оказанную храбрость в Островненском деле, и в том же приказе назначение князя Андрея Болконского командиром егерского полка. Хотя ему и не хотелось напоминать Ростовым о Болконском, но Пьер не мог воздержаться от желания порадовать их известием о награждении сына и, оставив у себя воззвание, афишу и другие приказы, с тем чтобы самому привезти их к обеду, послал печатный приказ и письмо к Ростовым.
Разговор с графом Растопчиным, его тон озабоченности и поспешности, встреча с курьером, беззаботно рассказывавшим о том, как дурно идут дела в армии, слухи о найденных в Москве шпионах, о бумаге, ходящей по Москве, в которой сказано, что Наполеон до осени обещает быть в обеих русских столицах, разговор об ожидаемом назавтра приезде государя – все это с новой силой возбуждало в Пьере то чувство волнения и ожидания, которое не оставляло его со времени появления кометы и в особенности с начала войны.
Пьеру давно уже приходила мысль поступить в военную службу, и он бы исполнил ее, ежели бы не мешала ему, во первых, принадлежность его к тому масонскому обществу, с которым он был связан клятвой и которое проповедывало вечный мир и уничтожение войны, и, во вторых, то, что ему, глядя на большое количество москвичей, надевших мундиры и проповедывающих патриотизм, было почему то совестно предпринять такой шаг. Главная же причина, по которой он не приводил в исполнение своего намерения поступить в военную службу, состояла в том неясном представлении, что он l'Russe Besuhof, имеющий значение звериного числа 666, что его участие в великом деле положения предела власти зверю, глаголящему велика и хульна, определено предвечно и что поэтому ему не должно предпринимать ничего и ждать того, что должно совершиться.
У Ростовых, как и всегда по воскресениям, обедал кое кто из близких знакомых.
Пьер приехал раньше, чтобы застать их одних.
Пьер за этот год так потолстел, что он был бы уродлив, ежели бы он не был так велик ростом, крупен членами и не был так силен, что, очевидно, легко носил свою толщину.
Он, пыхтя и что то бормоча про себя, вошел на лестницу. Кучер его уже не спрашивал, дожидаться ли. Он знал, что когда граф у Ростовых, то до двенадцатого часу. Лакеи Ростовых радостно бросились снимать с него плащ и принимать палку и шляпу. Пьер, по привычке клубной, и палку и шляпу оставлял в передней.
Первое лицо, которое он увидал у Ростовых, была Наташа. Еще прежде, чем он увидал ее, он, снимая плащ в передней, услыхал ее. Она пела солфеджи в зале. Он внал, что она не пела со времени своей болезни, и потому звук ее голоса удивил и обрадовал его. Он тихо отворил дверь и увидал Наташу в ее лиловом платье, в котором она была у обедни, прохаживающуюся по комнате и поющую. Она шла задом к нему, когда он отворил дверь, но когда она круто повернулась и увидала его толстое, удивленное лицо, она покраснела и быстро подошла к нему.
– Я хочу попробовать опять петь, – сказала она. – Все таки это занятие, – прибавила она, как будто извиняясь.
– И прекрасно.
– Как я рада, что вы приехали! Я нынче так счастлива! – сказала она с тем прежним оживлением, которого уже давно не видел в ней Пьер. – Вы знаете, Nicolas получил Георгиевский крест. Я так горда за него.
– Как же, я прислал приказ. Ну, я вам не хочу мешать, – прибавил он и хотел пройти в гостиную.
Наташа остановила его.
– Граф, что это, дурно, что я пою? – сказала она, покраснев, но, не спуская глаз, вопросительно глядя на Пьера.
– Нет… Отчего же? Напротив… Но отчего вы меня спрашиваете?
– Я сама не знаю, – быстро отвечала Наташа, – но я ничего бы не хотела сделать, что бы вам не нравилось. Я вам верю во всем. Вы не знаете, как вы для меля важны и как вы много для меня сделали!.. – Она говорила быстро и не замечая того, как Пьер покраснел при этих словах. – Я видела в том же приказе он, Болконский (быстро, шепотом проговорила она это слово), он в России и опять служит. Как вы думаете, – сказала она быстро, видимо, торопясь говорить, потому что она боялась за свои силы, – простит он меня когда нибудь? Не будет он иметь против меня злого чувства? Как вы думаете? Как вы думаете?
– Я думаю… – сказал Пьер. – Ему нечего прощать… Ежели бы я был на его месте… – По связи воспоминаний, Пьер мгновенно перенесся воображением к тому времени, когда он, утешая ее, сказал ей, что ежели бы он был не он, а лучший человек в мире и свободен, то он на коленях просил бы ее руки, и то же чувство жалости, нежности, любви охватило его, и те же слова были у него на устах. Но она не дала ему времени сказать их.
– Да вы – вы, – сказала она, с восторгом произнося это слово вы, – другое дело. Добрее, великодушнее, лучше вас я не знаю человека, и не может быть. Ежели бы вас не было тогда, да и теперь, я не знаю, что бы было со мною, потому что… – Слезы вдруг полились ей в глаза; она повернулась, подняла ноты к глазам, запела и пошла опять ходить по зале.
В это же время из гостиной выбежал Петя.
Петя был теперь красивый, румяный пятнадцатилетний мальчик с толстыми, красными губами, похожий на Наташу. Он готовился в университет, но в последнее время, с товарищем своим Оболенским, тайно решил, что пойдет в гусары.
Петя выскочил к своему тезке, чтобы переговорить о деле.
Он просил его узнать, примут ли его в гусары.
Пьер шел по гостиной, не слушая Петю.
Петя дернул его за руку, чтоб обратить на себя его вниманье.
– Ну что мое дело, Петр Кирилыч. Ради бога! Одна надежда на вас, – говорил Петя.
– Ах да, твое дело. В гусары то? Скажу, скажу. Нынче скажу все.
– Ну что, mon cher, ну что, достали манифест? – спросил старый граф. – А графинюшка была у обедни у Разумовских, молитву новую слышала. Очень хорошая, говорит.
– Достал, – отвечал Пьер. – Завтра государь будет… Необычайное дворянское собрание и, говорят, по десяти с тысячи набор. Да, поздравляю вас.
– Да, да, слава богу. Ну, а из армии что?
– Наши опять отступили. Под Смоленском уже, говорят, – отвечал Пьер.
– Боже мой, боже мой! – сказал граф. – Где же манифест?
– Воззвание! Ах, да! – Пьер стал в карманах искать бумаг и не мог найти их. Продолжая охлопывать карманы, он поцеловал руку у вошедшей графини и беспокойно оглядывался, очевидно, ожидая Наташу, которая не пела больше, но и не приходила в гостиную.
– Ей богу, не знаю, куда я его дел, – сказал он.
– Ну уж, вечно растеряет все, – сказала графиня. Наташа вошла с размягченным, взволнованным лицом и села, молча глядя на Пьера. Как только она вошла в комнату, лицо Пьера, до этого пасмурное, просияло, и он, продолжая отыскивать бумаги, несколько раз взглядывал на нее.
– Ей богу, я съезжу, я дома забыл. Непременно…
– Ну, к обеду опоздаете.
– Ах, и кучер уехал.
Но Соня, пошедшая в переднюю искать бумаги, нашла их в шляпе Пьера, куда он их старательно заложил за подкладку. Пьер было хотел читать.
– Нет, после обеда, – сказал старый граф, видимо, в этом чтении предвидевший большое удовольствие.
За обедом, за которым пили шампанское за здоровье нового Георгиевского кавалера, Шиншин рассказывал городские новости о болезни старой грузинской княгини, о том, что Метивье исчез из Москвы, и о том, что к Растопчину привели какого то немца и объявили ему, что это шампиньон (так рассказывал сам граф Растопчин), и как граф Растопчин велел шампиньона отпустить, сказав народу, что это не шампиньон, а просто старый гриб немец.
– Хватают, хватают, – сказал граф, – я графине и то говорю, чтобы поменьше говорила по французски. Теперь не время.
– А слышали? – сказал Шиншин. – Князь Голицын русского учителя взял, по русски учится – il commence a devenir dangereux de parler francais dans les rues. [становится опасным говорить по французски на улицах.]
– Ну что ж, граф Петр Кирилыч, как ополченье то собирать будут, и вам придется на коня? – сказал старый граф, обращаясь к Пьеру.
Пьер был молчалив и задумчив во все время этого обеда. Он, как бы не понимая, посмотрел на графа при этом обращении.
– Да, да, на войну, – сказал он, – нет! Какой я воин! А впрочем, все так странно, так странно! Да я и сам не понимаю. Я не знаю, я так далек от военных вкусов, но в теперешние времена никто за себя отвечать не может.
После обеда граф уселся покойно в кресло и с серьезным лицом попросил Соню, славившуюся мастерством чтения, читать.
– «Первопрестольной столице нашей Москве.
Неприятель вошел с великими силами в пределы России. Он идет разорять любезное наше отечество», – старательно читала Соня своим тоненьким голоском. Граф, закрыв глаза, слушал, порывисто вздыхая в некоторых местах.
Наташа сидела вытянувшись, испытующе и прямо глядя то на отца, то на Пьера.
Пьер чувствовал на себе ее взгляд и старался не оглядываться. Графиня неодобрительно и сердито покачивала головой против каждого торжественного выражения манифеста. Она во всех этих словах видела только то, что опасности, угрожающие ее сыну, еще не скоро прекратятся. Шиншин, сложив рот в насмешливую улыбку, очевидно приготовился насмехаться над тем, что первое представится для насмешки: над чтением Сони, над тем, что скажет граф, даже над самым воззванием, ежели не представится лучше предлога.
Прочтя об опасностях, угрожающих России, о надеждах, возлагаемых государем на Москву, и в особенности на знаменитое дворянство, Соня с дрожанием голоса, происходившим преимущественно от внимания, с которым ее слушали, прочла последние слова: «Мы не умедлим сами стать посреди народа своего в сей столице и в других государства нашего местах для совещания и руководствования всеми нашими ополчениями, как ныне преграждающими пути врагу, так и вновь устроенными на поражение оного, везде, где только появится. Да обратится погибель, в которую он мнит низринуть нас, на главу его, и освобожденная от рабства Европа да возвеличит имя России!»
– Вот это так! – вскрикнул граф, открывая мокрые глаза и несколько раз прерываясь от сопенья, как будто к носу ему подносили склянку с крепкой уксусной солью. – Только скажи государь, мы всем пожертвуем и ничего не пожалеем.
Шиншин еще не успел сказать приготовленную им шутку на патриотизм графа, как Наташа вскочила с своего места и подбежала к отцу.
– Что за прелесть, этот папа! – проговорила она, целуя его, и она опять взглянула на Пьера с тем бессознательным кокетством, которое вернулось к ней вместе с ее оживлением.
– Вот так патриотка! – сказал Шиншин.
– Совсем не патриотка, а просто… – обиженно отвечала Наташа. – Вам все смешно, а это совсем не шутка…
– Какие шутки! – повторил граф. – Только скажи он слово, мы все пойдем… Мы не немцы какие нибудь…
– А заметили вы, – сказал Пьер, – что сказало: «для совещания».
– Ну уж там для чего бы ни было…
В это время Петя, на которого никто не обращал внимания, подошел к отцу и, весь красный, ломающимся, то грубым, то тонким голосом, сказал:
– Ну теперь, папенька, я решительно скажу – и маменька тоже, как хотите, – я решительно скажу, что вы пустите меня в военную службу, потому что я не могу… вот и всё…
Графиня с ужасом подняла глаза к небу, всплеснула руками и сердито обратилась к мужу.
– Вот и договорился! – сказала она.
Но граф в ту же минуту оправился от волнения.
– Ну, ну, – сказал он. – Вот воин еще! Глупости то оставь: учиться надо.
– Это не глупости, папенька. Оболенский Федя моложе меня и тоже идет, а главное, все равно я не могу ничему учиться теперь, когда… – Петя остановился, покраснел до поту и проговорил таки: – когда отечество в опасности.
– Полно, полно, глупости…
– Да ведь вы сами сказали, что всем пожертвуем.
– Петя, я тебе говорю, замолчи, – крикнул граф, оглядываясь на жену, которая, побледнев, смотрела остановившимися глазами на меньшого сына.
– А я вам говорю. Вот и Петр Кириллович скажет…
– Я тебе говорю – вздор, еще молоко не обсохло, а в военную службу хочет! Ну, ну, я тебе говорю, – и граф, взяв с собой бумаги, вероятно, чтобы еще раз прочесть в кабинете перед отдыхом, пошел из комнаты.
– Петр Кириллович, что ж, пойдем покурить…
Пьер находился в смущении и нерешительности. Непривычно блестящие и оживленные глаза Наташи беспрестанно, больше чем ласково обращавшиеся на него, привели его в это состояние.
– Нет, я, кажется, домой поеду…
– Как домой, да вы вечер у нас хотели… И то редко стали бывать. А эта моя… – сказал добродушно граф, указывая на Наташу, – только при вас и весела…
– Да, я забыл… Мне непременно надо домой… Дела… – поспешно сказал Пьер.
– Ну так до свидания, – сказал граф, совсем уходя из комнаты.
– Отчего вы уезжаете? Отчего вы расстроены? Отчего?.. – спросила Пьера Наташа, вызывающе глядя ему в глаза.
«Оттого, что я тебя люблю! – хотел он сказать, но он не сказал этого, до слез покраснел и опустил глаза.
– Оттого, что мне лучше реже бывать у вас… Оттого… нет, просто у меня дела.
– Отчего? нет, скажите, – решительно начала было Наташа и вдруг замолчала. Они оба испуганно и смущенно смотрели друг на друга. Он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страдание, и он молча поцеловал ее руку и вышел.
Пьер решил сам с собою не бывать больше у Ростовых.
Петя, после полученного им решительного отказа, ушел в свою комнату и там, запершись от всех, горько плакал. Все сделали, как будто ничего не заметили, когда он к чаю пришел молчаливый и мрачный, с заплаканными глазами.
На другой день приехал государь. Несколько человек дворовых Ростовых отпросились пойти поглядеть царя. В это утро Петя долго одевался, причесывался и устроивал воротнички так, как у больших. Он хмурился перед зеркалом, делал жесты, пожимал плечами и, наконец, никому не сказавши, надел фуражку и вышел из дома с заднего крыльца, стараясь не быть замеченным. Петя решился идти прямо к тому месту, где был государь, и прямо объяснить какому нибудь камергеру (Пете казалось, что государя всегда окружают камергеры), что он, граф Ростов, несмотря на свою молодость, желает служить отечеству, что молодость не может быть препятствием для преданности и что он готов… Петя, в то время как он собирался, приготовил много прекрасных слов, которые он скажет камергеру.
Петя рассчитывал на успех своего представления государю именно потому, что он ребенок (Петя думал даже, как все удивятся его молодости), а вместе с тем в устройстве своих воротничков, в прическе и в степенной медлительной походке он хотел представить из себя старого человека. Но чем дальше он шел, чем больше он развлекался все прибывающим и прибывающим у Кремля народом, тем больше он забывал соблюдение степенности и медлительности, свойственных взрослым людям. Подходя к Кремлю, он уже стал заботиться о том, чтобы его не затолкали, и решительно, с угрожающим видом выставил по бокам локти. Но в Троицких воротах, несмотря на всю его решительность, люди, которые, вероятно, не знали, с какой патриотической целью он шел в Кремль, так прижали его к стене, что он должен был покориться и остановиться, пока в ворота с гудящим под сводами звуком проезжали экипажи. Около Пети стояла баба с лакеем, два купца и отставной солдат. Постояв несколько времени в воротах, Петя, не дождавшись того, чтобы все экипажи проехали, прежде других хотел тронуться дальше и начал решительно работать локтями; но баба, стоявшая против него, на которую он первую направил свои локти, сердито крикнула на него:
– Что, барчук, толкаешься, видишь – все стоят. Что ж лезть то!
– Так и все полезут, – сказал лакей и, тоже начав работать локтями, затискал Петю в вонючий угол ворот.
Петя отер руками пот, покрывавший его лицо, и поправил размочившиеся от пота воротнички, которые он так хорошо, как у больших, устроил дома.
Петя чувствовал, что он имеет непрезентабельный вид, и боялся, что ежели таким он представится камергерам, то его не допустят до государя. Но оправиться и перейти в другое место не было никакой возможности от тесноты. Один из проезжавших генералов был знакомый Ростовых. Петя хотел просить его помощи, но счел, что это было бы противно мужеству. Когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла и Петю на площадь, которая была вся занята народом. Не только по площади, но на откосах, на крышах, везде был народ. Только что Петя очутился на площади, он явственно услыхал наполнявшие весь Кремль звуки колоколов и радостного народного говора.
Одно время на площади было просторнее, но вдруг все головы открылись, все бросилось еще куда то вперед. Петю сдавили так, что он не мог дышать, и все закричало: «Ура! урра! ура!Петя поднимался на цыпочки, толкался, щипался, но ничего не мог видеть, кроме народа вокруг себя.
На всех лицах было одно общее выражение умиления и восторга. Одна купчиха, стоявшая подле Пети, рыдала, и слезы текли у нее из глаз.
– Отец, ангел, батюшка! – приговаривала она, отирая пальцем слезы.
– Ура! – кричали со всех сторон. С минуту толпа простояла на одном месте; но потом опять бросилась вперед.
Петя, сам себя не помня, стиснув зубы и зверски выкатив глаза, бросился вперед, работая локтями и крича «ура!», как будто он готов был и себя и всех убить в эту минуту, но с боков его лезли точно такие же зверские лица с такими же криками «ура!».
«Так вот что такое государь! – думал Петя. – Нет, нельзя мне самому подать ему прошение, это слишком смело!Несмотря на то, он все так же отчаянно пробивался вперед, и из за спин передних ему мелькнуло пустое пространство с устланным красным сукном ходом; но в это время толпа заколебалась назад (спереди полицейские отталкивали надвинувшихся слишком близко к шествию; государь проходил из дворца в Успенский собор), и Петя неожиданно получил в бок такой удар по ребрам и так был придавлен, что вдруг в глазах его все помутилось и он потерял сознание. Когда он пришел в себя, какое то духовное лицо, с пучком седевших волос назади, в потертой синей рясе, вероятно, дьячок, одной рукой держал его под мышку, другой охранял от напиравшей толпы.
– Барчонка задавили! – говорил дьячок. – Что ж так!.. легче… задавили, задавили!
Государь прошел в Успенский собор. Толпа опять разровнялась, и дьячок вывел Петю, бледного и не дышащего, к царь пушке. Несколько лиц пожалели Петю, и вдруг вся толпа обратилась к нему, и уже вокруг него произошла давка. Те, которые стояли ближе, услуживали ему, расстегивали его сюртучок, усаживали на возвышение пушки и укоряли кого то, – тех, кто раздавил его.
– Этак до смерти раздавить можно. Что же это! Душегубство делать! Вишь, сердечный, как скатерть белый стал, – говорили голоса.
Петя скоро опомнился, краска вернулась ему в лицо, боль прошла, и за эту временную неприятность он получил место на пушке, с которой он надеялся увидать долженствующего пройти назад государя. Петя уже не думал теперь о подаче прошения. Уже только ему бы увидать его – и то он бы считал себя счастливым!
Во время службы в Успенском соборе – соединенного молебствия по случаю приезда государя и благодарственной молитвы за заключение мира с турками – толпа пораспространилась; появились покрикивающие продавцы квасу, пряников, мака, до которого был особенно охотник Петя, и послышались обыкновенные разговоры. Одна купчиха показывала свою разорванную шаль и сообщала, как дорого она была куплена; другая говорила, что нынче все шелковые материи дороги стали. Дьячок, спаситель Пети, разговаривал с чиновником о том, кто и кто служит нынче с преосвященным. Дьячок несколько раз повторял слово соборне, которого не понимал Петя. Два молодые мещанина шутили с дворовыми девушками, грызущими орехи. Все эти разговоры, в особенности шуточки с девушками, для Пети в его возрасте имевшие особенную привлекательность, все эти разговоры теперь не занимали Петю; ou сидел на своем возвышении пушки, все так же волнуясь при мысли о государе и о своей любви к нему. Совпадение чувства боли и страха, когда его сдавили, с чувством восторга еще более усилило в нем сознание важности этой минуты.
Вдруг с набережной послышались пушечные выстрелы (это стреляли в ознаменование мира с турками), и толпа стремительно бросилась к набережной – смотреть, как стреляют. Петя тоже хотел бежать туда, но дьячок, взявший под свое покровительство барчонка, не пустил его. Еще продолжались выстрелы, когда из Успенского собора выбежали офицеры, генералы, камергеры, потом уже не так поспешно вышли еще другие, опять снялись шапки с голов, и те, которые убежали смотреть пушки, бежали назад. Наконец вышли еще четверо мужчин в мундирах и лентах из дверей собора. «Ура! Ура! – опять закричала толпа.
– Который? Который? – плачущим голосом спрашивал вокруг себя Петя, но никто не отвечал ему; все были слишком увлечены, и Петя, выбрав одного из этих четырех лиц, которого он из за слез, выступивших ему от радости на глаза, не мог ясно разглядеть, сосредоточил на него весь свой восторг, хотя это был не государь, закричал «ура!неистовым голосом и решил, что завтра же, чего бы это ему ни стоило, он будет военным.
Толпа побежала за государем, проводила его до дворца и стала расходиться. Было уже поздно, и Петя ничего не ел, и пот лил с него градом; но он не уходил домой и вместе с уменьшившейся, но еще довольно большой толпой стоял перед дворцом, во время обеда государя, глядя в окна дворца, ожидая еще чего то и завидуя одинаково и сановникам, подъезжавшим к крыльцу – к обеду государя, и камер лакеям, служившим за столом и мелькавшим в окнах.
За обедом государя Валуев сказал, оглянувшись в окно:
– Народ все еще надеется увидать ваше величество.
Обед уже кончился, государь встал и, доедая бисквит, вышел на балкон. Народ, с Петей в середине, бросился к балкону.
– Ангел, отец! Ура, батюшка!.. – кричали народ и Петя, и опять бабы и некоторые мужчины послабее, в том числе и Петя, заплакали от счастия. Довольно большой обломок бисквита, который держал в руке государь, отломившись, упал на перилы балкона, с перил на землю. Ближе всех стоявший кучер в поддевке бросился к этому кусочку бисквита и схватил его. Некоторые из толпы бросились к кучеру. Заметив это, государь велел подать себе тарелку бисквитов и стал кидать бисквиты с балкона. Глаза Пети налились кровью, опасность быть задавленным еще более возбуждала его, он бросился на бисквиты. Он не знал зачем, но нужно было взять один бисквит из рук царя, и нужно было не поддаться. Он бросился и сбил с ног старушку, ловившую бисквит. Но старушка не считала себя побежденною, хотя и лежала на земле (старушка ловила бисквиты и не попадала руками). Петя коленкой отбил ее руку, схватил бисквит и, как будто боясь опоздать, опять закричал «ура!», уже охриплым голосом.
Государь ушел, и после этого большая часть народа стала расходиться.
– Вот я говорил, что еще подождать – так и вышло, – с разных сторон радостно говорили в народе.
Как ни счастлив был Петя, но ему все таки грустно было идти домой и знать, что все наслаждение этого дня кончилось. Из Кремля Петя пошел не домой, а к своему товарищу Оболенскому, которому было пятнадцать лет и который тоже поступал в полк. Вернувшись домой, он решительно и твердо объявил, что ежели его не пустят, то он убежит. И на другой день, хотя и не совсем еще сдавшись, но граф Илья Андреич поехал узнавать, как бы пристроить Петю куда нибудь побезопаснее.
15 го числа утром, на третий день после этого, у Слободского дворца стояло бесчисленное количество экипажей.
Залы были полны. В первой были дворяне в мундирах, во второй купцы с медалями, в бородах и синих кафтанах. По зале Дворянского собрания шел гул и движение. У одного большого стола, под портретом государя, сидели на стульях с высокими спинками важнейшие вельможи; но большинство дворян ходило по зале.
Все дворяне, те самые, которых каждый день видал Пьер то в клубе, то в их домах, – все были в мундирах, кто в екатерининских, кто в павловских, кто в новых александровских, кто в общем дворянском, и этот общий характер мундира придавал что то странное и фантастическое этим старым и молодым, самым разнообразным и знакомым лицам. Особенно поразительны были старики, подслеповатые, беззубые, плешивые, оплывшие желтым жиром или сморщенные, худые. Они большей частью сидели на местах и молчали, и ежели ходили и говорили, то пристроивались к кому нибудь помоложе. Так же как на лицах толпы, которую на площади видел Петя, на всех этих лицах была поразительна черта противоположности: общего ожидания чего то торжественного и обыкновенного, вчерашнего – бостонной партии, Петрушки повара, здоровья Зинаиды Дмитриевны и т. п.
Пьер, с раннего утра стянутый в неловком, сделавшемся ему узким дворянском мундире, был в залах. Он был в волнении: необыкновенное собрание не только дворянства, но и купечества – сословий, etats generaux – вызвало в нем целый ряд давно оставленных, но глубоко врезавшихся в его душе мыслей о Contrat social [Общественный договор] и французской революции. Замеченные им в воззвании слова, что государь прибудет в столицу для совещания с своим народом, утверждали его в этом взгляде. И он, полагая, что в этом смысле приближается что то важное, то, чего он ждал давно, ходил, присматривался, прислушивался к говору, но нигде не находил выражения тех мыслей, которые занимали его.
Был прочтен манифест государя, вызвавший восторг, и потом все разбрелись, разговаривая. Кроме обычных интересов, Пьер слышал толки о том, где стоять предводителям в то время, как войдет государь, когда дать бал государю, разделиться ли по уездам или всей губернией… и т. д.; но как скоро дело касалось войны и того, для чего было собрано дворянство, толки были нерешительны и неопределенны. Все больше желали слушать, чем говорить.
Один мужчина средних лет, мужественный, красивый, в отставном морском мундире, говорил в одной из зал, и около него столпились. Пьер подошел к образовавшемуся кружку около говоруна и стал прислушиваться. Граф Илья Андреич в своем екатерининском, воеводском кафтане, ходивший с приятной улыбкой между толпой, со всеми знакомый, подошел тоже к этой группе и стал слушать с своей доброй улыбкой, как он всегда слушал, в знак согласия с говорившим одобрительно кивая головой. Отставной моряк говорил очень смело; это видно было по выражению лиц, его слушавших, и по тому, что известные Пьеру за самых покорных и тихих людей неодобрительно отходили от него или противоречили. Пьер протолкался в середину кружка, прислушался и убедился, что говоривший действительно был либерал, но совсем в другом смысле, чем думал Пьер. Моряк говорил тем особенно звучным, певучим, дворянским баритоном, с приятным грассированием и сокращением согласных, тем голосом, которым покрикивают: «Чеаек, трубку!», и тому подобное. Он говорил с привычкой разгула и власти в голосе.
– Что ж, что смоляне предложили ополченцев госуаю. Разве нам смоляне указ? Ежели буародное дворянство Московской губернии найдет нужным, оно может выказать свою преданность государю импературу другими средствами. Разве мы забыли ополченье в седьмом году! Только что нажились кутейники да воры грабители…
Граф Илья Андреич, сладко улыбаясь, одобрительно кивал головой.
– И что же, разве наши ополченцы составили пользу для государства? Никакой! только разорили наши хозяйства. Лучше еще набор… а то вернется к вам ни солдат, ни мужик, и только один разврат. Дворяне не жалеют своего живота, мы сами поголовно пойдем, возьмем еще рекрут, и всем нам только клич кликни гусай (он так выговаривал государь), мы все умрем за него, – прибавил оратор одушевляясь.
Илья Андреич проглатывал слюни от удовольствия и толкал Пьера, но Пьеру захотелось также говорить. Он выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще, что он скажет. Он только что открыл рот, чтобы говорить, как один сенатор, совершенно без зубов, с умным и сердитым лицом, стоявший близко от оратора, перебил Пьера. С видимой привычкой вести прения и держать вопросы, он заговорил тихо, но слышно:
– Я полагаю, милостивый государь, – шамкая беззубым ртом, сказал сенатор, – что мы призваны сюда не для того, чтобы обсуждать, что удобнее для государства в настоящую минуту – набор или ополчение. Мы призваны для того, чтобы отвечать на то воззвание, которым нас удостоил государь император. А судить о том, что удобнее – набор или ополчение, мы предоставим судить высшей власти…
Пьер вдруг нашел исход своему одушевлению. Он ожесточился против сенатора, вносящего эту правильность и узкость воззрений в предстоящие занятия дворянства. Пьер выступил вперед и остановил его. Он сам не знал, что он будет говорить, но начал оживленно, изредка прорываясь французскими словами и книжно выражаясь по русски.
– Извините меня, ваше превосходительство, – начал он (Пьер был хорошо знаком с этим сенатором, но считал здесь необходимым обращаться к нему официально), – хотя я не согласен с господином… (Пьер запнулся. Ему хотелось сказать mon tres honorable preopinant), [мой многоуважаемый оппонент,] – с господином… que je n'ai pas L'honneur de connaitre; [которого я не имею чести знать] но я полагаю, что сословие дворянства, кроме выражения своего сочувствия и восторга, призвано также для того, чтобы и обсудить те меры, которыми мы можем помочь отечеству. Я полагаю, – говорил он, воодушевляясь, – что государь был бы сам недоволен, ежели бы он нашел в нас только владельцев мужиков, которых мы отдаем ему, и… chair a canon [мясо для пушек], которую мы из себя делаем, но не нашел бы в нас со… со… совета.
Многие поотошли от кружка, заметив презрительную улыбку сенатора и то, что Пьер говорит вольно; только Илья Андреич был доволен речью Пьера, как он был доволен речью моряка, сенатора и вообще всегда тою речью, которую он последнею слышал.
– Я полагаю, что прежде чем обсуждать эти вопросы, – продолжал Пьер, – мы должны спросить у государя, почтительнейше просить его величество коммюникировать нам, сколько у нас войска, в каком положении находятся наши войска и армии, и тогда…
Но Пьер не успел договорить этих слов, как с трех сторон вдруг напали на него. Сильнее всех напал на него давно знакомый ему, всегда хорошо расположенный к нему игрок в бостон, Степан Степанович Апраксин. Степан Степанович был в мундире, и, от мундира ли, или от других причин, Пьер увидал перед собой совсем другого человека. Степан Степанович, с вдруг проявившейся старческой злобой на лице, закричал на Пьера:
– Во первых, доложу вам, что мы не имеем права спрашивать об этом государя, а во вторых, ежели было бы такое право у российского дворянства, то государь не может нам ответить. Войска движутся сообразно с движениями неприятеля – войска убывают и прибывают…
Другой голос человека, среднего роста, лет сорока, которого Пьер в прежние времена видал у цыган и знал за нехорошего игрока в карты и который, тоже измененный в мундире, придвинулся к Пьеру, перебил Апраксина.
– Да и не время рассуждать, – говорил голос этого дворянина, – а нужно действовать: война в России. Враг наш идет, чтобы погубить Россию, чтобы поругать могилы наших отцов, чтоб увезти жен, детей. – Дворянин ударил себя в грудь. – Мы все встанем, все поголовно пойдем, все за царя батюшку! – кричал он, выкатывая кровью налившиеся глаза. Несколько одобряющих голосов послышалось из толпы. – Мы русские и не пожалеем крови своей для защиты веры, престола и отечества. А бредни надо оставить, ежели мы сыны отечества. Мы покажем Европе, как Россия восстает за Россию, – кричал дворянин.
Пьер хотел возражать, но не мог сказать ни слова. Он чувствовал, что звук его слов, независимо от того, какую они заключали мысль, был менее слышен, чем звук слов оживленного дворянина.
Илья Андреич одобривал сзади кружка; некоторые бойко поворачивались плечом к оратору при конце фразы и говорили:
– Вот так, так! Это так!
Пьер хотел сказать, что он не прочь ни от пожертвований ни деньгами, ни мужиками, ни собой, но что надо бы знать состояние дел, чтобы помогать ему, но он не мог говорить. Много голосов кричало и говорило вместе, так что Илья Андреич не успевал кивать всем; и группа увеличивалась, распадалась, опять сходилась и двинулась вся, гудя говором, в большую залу, к большому столу. Пьеру не только не удавалось говорить, но его грубо перебивали, отталкивали, отворачивались от него, как от общего врага. Это не оттого происходило, что недовольны были смыслом его речи, – ее и забыли после большого количества речей, последовавших за ней, – но для одушевления толпы нужно было иметь ощутительный предмет любви и ощутительный предмет ненависти. Пьер сделался последним. Много ораторов говорило после оживленного дворянина, и все говорили в том же тоне. Многие говорили прекрасно и оригинально.
Издатель Русского вестника Глинка, которого узнали («писатель, писатель! – послышалось в толпе), сказал, что ад должно отражать адом, что он видел ребенка, улыбающегося при блеске молнии и при раскатах грома, но что мы не будем этим ребенком.
– Да, да, при раскатах грома! – повторяли одобрительно в задних рядах.
Толпа подошла к большому столу, у которого, в мундирах, в лентах, седые, плешивые, сидели семидесятилетние вельможи старики, которых почти всех, по домам с шутами и в клубах за бостоном, видал Пьер. Толпа подошла к столу, не переставая гудеть. Один за другим, и иногда два вместе, прижатые сзади к высоким спинкам стульев налегающею толпой, говорили ораторы. Стоявшие сзади замечали, чего не досказал говоривший оратор, и торопились сказать это пропущенное. Другие, в этой жаре и тесноте, шарили в своей голове, не найдется ли какая мысль, и торопились говорить ее. Знакомые Пьеру старички вельможи сидели и оглядывались то на того, то на другого, и выражение большей части из них говорило только, что им очень жарко. Пьер, однако, чувствовал себя взволнованным, и общее чувство желания показать, что нам всё нипочем, выражавшееся больше в звуках и выражениях лиц, чем в смысле речей, сообщалось и ему. Он не отрекся от своих мыслей, но чувствовал себя в чем то виноватым и желал оправдаться.
– Я сказал только, что нам удобнее было бы делать пожертвования, когда мы будем знать, в чем нужда, – стараясь перекричать другие голоса, проговорил он.
Один ближайший старичок оглянулся на него, но тотчас был отвлечен криком, начавшимся на другой стороне стола.
– Да, Москва будет сдана! Она будет искупительницей! – кричал один.
– Он враг человечества! – кричал другой. – Позвольте мне говорить… Господа, вы меня давите…
В это время быстрыми шагами перед расступившейся толпой дворян, в генеральском мундире, с лентой через плечо, с своим высунутым подбородком и быстрыми глазами, вошел граф Растопчин.
– Государь император сейчас будет, – сказал Растопчин, – я только что оттуда. Я полагаю, что в том положении, в котором мы находимся, судить много нечего. Государь удостоил собрать нас и купечество, – сказал граф Растопчин. – Оттуда польются миллионы (он указал на залу купцов), а наше дело выставить ополчение и не щадить себя… Это меньшее, что мы можем сделать!
Начались совещания между одними вельможами, сидевшими за столом. Все совещание прошло больше чем тихо. Оно даже казалось грустно, когда, после всего прежнего шума, поодиночке были слышны старые голоса, говорившие один: «согласен», другой для разнообразия: «и я того же мнения», и т. д.
Было велено секретарю писать постановление московского дворянства о том, что москвичи, подобно смолянам, жертвуют по десять человек с тысячи и полное обмундирование. Господа заседавшие встали, как бы облегченные, загремели стульями и пошли по зале разминать ноги, забирая кое кого под руку и разговаривая.
– Государь! Государь! – вдруг разнеслось по залам, и вся толпа бросилась к выходу.
По широкому ходу, между стеной дворян, государь прошел в залу. На всех лицах выражалось почтительное и испуганное любопытство. Пьер стоял довольно далеко и не мог вполне расслышать речи государя. Он понял только, по тому, что он слышал, что государь говорил об опасности, в которой находилось государство, и о надеждах, которые он возлагал на московское дворянство. Государю отвечал другой голос, сообщавший о только что состоявшемся постановлении дворянства.
– Господа! – сказал дрогнувший голос государя; толпа зашелестила и опять затихла, и Пьер ясно услыхал столь приятно человеческий и тронутый голос государя, который говорил: – Никогда я не сомневался в усердии русского дворянства. Но в этот день оно превзошло мои ожидания. Благодарю вас от лица отечества. Господа, будем действовать – время всего дороже…
Государь замолчал, толпа стала тесниться вокруг него, и со всех сторон слышались восторженные восклицания.
– Да, всего дороже… царское слово, – рыдая, говорил сзади голос Ильи Андреича, ничего не слышавшего, но все понимавшего по своему.
Из залы дворянства государь прошел в залу купечества. Он пробыл там около десяти минут. Пьер в числе других увидал государя, выходящего из залы купечества со слезами умиления на глазах. Как потом узнали, государь только что начал речь купцам, как слезы брызнули из его глаз, и он дрожащим голосом договорил ее. Когда Пьер увидал государя, он выходил, сопутствуемый двумя купцами. Один был знаком Пьеру, толстый откупщик, другой – голова, с худым, узкобородым, желтым лицом. Оба они плакали. У худого стояли слезы, но толстый откупщик рыдал, как ребенок, и все твердил:
– И жизнь и имущество возьми, ваше величество!
Пьер не чувствовал в эту минуту уже ничего, кроме желания показать, что все ему нипочем и что он всем готов жертвовать. Как упрек ему представлялась его речь с конституционным направлением; он искал случая загладить это. Узнав, что граф Мамонов жертвует полк, Безухов тут же объявил графу Растопчину, что он отдает тысячу человек и их содержание.
Старик Ростов без слез не мог рассказать жене того, что было, и тут же согласился на просьбу Пети и сам поехал записывать его.
На другой день государь уехал. Все собранные дворяне сняли мундиры, опять разместились по домам и клубам и, покряхтывая, отдавали приказания управляющим об ополчении, и удивлялись тому, что они наделали.
Наполеон начал войну с Россией потому, что он не мог не приехать в Дрезден, не мог не отуманиться почестями, не мог не надеть польского мундира, не поддаться предприимчивому впечатлению июньского утра, не мог воздержаться от вспышки гнева в присутствии Куракина и потом Балашева.
Александр отказывался от всех переговоров потому, что он лично чувствовал себя оскорбленным. Барклай де Толли старался наилучшим образом управлять армией для того, чтобы исполнить свой долг и заслужить славу великого полководца. Ростов поскакал в атаку на французов потому, что он не мог удержаться от желания проскакаться по ровному полю. И так точно, вследствие своих личных свойств, привычек, условий и целей, действовали все те неперечислимые лица, участники этой войны. Они боялись, тщеславились, радовались, негодовали, рассуждали, полагая, что они знают то, что они делают, и что делают для себя, а все были непроизвольными орудиями истории и производили скрытую от них, но понятную для нас работу. Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем не свободнее, чем выше они стоят в людской иерархии.
Теперь деятели 1812 го года давно сошли с своих мест, их личные интересы исчезли бесследно, и одни исторические результаты того времени перед нами.
Но допустим, что должны были люди Европы, под предводительством Наполеона, зайти в глубь России и там погибнуть, и вся противуречащая сама себе, бессмысленная, жестокая деятельность людей – участников этой войны, становится для нас понятною.
Провидение заставляло всех этих людей, стремясь к достижению своих личных целей, содействовать исполнению одного огромного результата, о котором ни один человек (ни Наполеон, ни Александр, ни еще менее кто либо из участников войны) не имел ни малейшего чаяния.
Теперь нам ясно, что было в 1812 м году причиной погибели французской армии. Никто не станет спорить, что причиной погибели французских войск Наполеона было, с одной стороны, вступление их в позднее время без приготовления к зимнему походу в глубь России, а с другой стороны, характер, который приняла война от сожжения русских городов и возбуждения ненависти к врагу в русском народе. Но тогда не только никто не предвидел того (что теперь кажется очевидным), что только этим путем могла погибнуть восьмисоттысячная, лучшая в мире и предводимая лучшим полководцем армия в столкновении с вдвое слабейшей, неопытной и предводимой неопытными полководцами – русской армией; не только никто не предвидел этого, но все усилия со стороны русских были постоянно устремляемы на то, чтобы помешать тому, что одно могло спасти Россию, и со стороны французов, несмотря на опытность и так называемый военный гений Наполеона, были устремлены все усилия к тому, чтобы растянуться в конце лета до Москвы, то есть сделать то самое, что должно было погубить их.
В исторических сочинениях о 1812 м годе авторы французы очень любят говорить о том, как Наполеон чувствовал опасность растяжения своей линии, как он искал сражения, как маршалы его советовали ему остановиться в Смоленске, и приводить другие подобные доводы, доказывающие, что тогда уже будто понята была опасность кампании; а авторы русские еще более любят говорить о том, как с начала кампании существовал план скифской войны заманивания Наполеона в глубь России, и приписывают этот план кто Пфулю, кто какому то французу, кто Толю, кто самому императору Александру, указывая на записки, проекты и письма, в которых действительно находятся намеки на этот образ действий. Но все эти намеки на предвидение того, что случилось, как со стороны французов так и со стороны русских выставляются теперь только потому, что событие оправдало их. Ежели бы событие не совершилось, то намеки эти были бы забыты, как забыты теперь тысячи и миллионы противоположных намеков и предположений, бывших в ходу тогда, но оказавшихся несправедливыми и потому забытых. Об исходе каждого совершающегося события всегда бывает так много предположений, что, чем бы оно ни кончилось, всегда найдутся люди, которые скажут: «Я тогда еще сказал, что это так будет», забывая совсем, что в числе бесчисленных предположений были делаемы и совершенно противоположные.
Предположения о сознании Наполеоном опасности растяжения линии и со стороны русских – о завлечении неприятеля в глубь России – принадлежат, очевидно, к этому разряду, и историки только с большой натяжкой могут приписывать такие соображения Наполеону и его маршалам и такие планы русским военачальникам. Все факты совершенно противоречат таким предположениям. Не только во все время войны со стороны русских не было желания заманить французов в глубь России, но все было делаемо для того, чтобы остановить их с первого вступления их в Россию, и не только Наполеон не боялся растяжения своей линии, но он радовался, как торжеству, каждому своему шагу вперед и очень лениво, не так, как в прежние свои кампании, искал сражения.
При самом начале кампании армии наши разрезаны, и единственная цель, к которой мы стремимся, состоит в том, чтобы соединить их, хотя для того, чтобы отступать и завлекать неприятеля в глубь страны, в соединении армий не представляется выгод. Император находится при армии для воодушевления ее в отстаивании каждого шага русской земли, а не для отступления. Устроивается громадный Дрисский лагерь по плану Пфуля и не предполагается отступать далее. Государь делает упреки главнокомандующим за каждый шаг отступления. Не только сожжение Москвы, но допущение неприятеля до Смоленска не может даже представиться воображению императора, и когда армии соединяются, то государь негодует за то, что Смоленск взят и сожжен и не дано пред стенами его генерального сражения.
Так думает государь, но русские военачальники и все русские люди еще более негодуют при мысли о том, что наши отступают в глубь страны.
Наполеон, разрезав армии, движется в глубь страны и упускает несколько случаев сражения. В августе месяце он в Смоленске и думает только о том, как бы ему идти дальше, хотя, как мы теперь видим, это движение вперед для него очевидно пагубно.
Факты говорят очевидно, что ни Наполеон не предвидел опасности в движении на Москву, ни Александр и русские военачальники не думали тогда о заманивании Наполеона, а думали о противном. Завлечение Наполеона в глубь страны произошло не по чьему нибудь плану (никто и не верил в возможность этого), а произошло от сложнейшей игры интриг, целей, желаний людей – участников войны, не угадывавших того, что должно быть, и того, что было единственным спасением России. Все происходит нечаянно. Армии разрезаны при начале кампании. Мы стараемся соединить их с очевидной целью дать сражение и удержать наступление неприятеля, но и этом стремлении к соединению, избегая сражений с сильнейшим неприятелем и невольно отходя под острым углом, мы заводим французов до Смоленска. Но мало того сказать, что мы отходим под острым углом потому, что французы двигаются между обеими армиями, – угол этот делается еще острее, и мы еще дальше уходим потому, что Барклай де Толли, непопулярный немец, ненавистен Багратиону (имеющему стать под его начальство), и Багратион, командуя 2 й армией, старается как можно дольше не присоединяться к Барклаю, чтобы не стать под его команду. Багратион долго не присоединяется (хотя в этом главная цель всех начальствующих лиц) потому, что ему кажется, что он на этом марше ставит в опасность свою армию и что выгоднее всего для него отступить левее и южнее, беспокоя с фланга и тыла неприятеля и комплектуя свою армию в Украине. А кажется, и придумано это им потому, что ему не хочется подчиняться ненавистному и младшему чином немцу Барклаю.
Император находится при армии, чтобы воодушевлять ее, а присутствие его и незнание на что решиться, и огромное количество советников и планов уничтожают энергию действий 1 й армии, и армия отступает.
В Дрисском лагере предположено остановиться; но неожиданно Паулучи, метящий в главнокомандующие, своей энергией действует на Александра, и весь план Пфуля бросается, и все дело поручается Барклаю, Но так как Барклай не внушает доверия, власть его ограничивают.
Армии раздроблены, нет единства начальства, Барклай не популярен; но из этой путаницы, раздробления и непопулярности немца главнокомандующего, с одной стороны, вытекает нерешительность и избежание сражения (от которого нельзя бы было удержаться, ежели бы армии были вместе и не Барклай был бы начальником), с другой стороны, – все большее и большее негодование против немцев и возбуждение патриотического духа.
Наконец государь уезжает из армии, и как единственный и удобнейший предлог для его отъезда избирается мысль, что ему надо воодушевить народ в столицах для возбуждения народной войны. И эта поездка государя и Москву утрояет силы русского войска.
Государь отъезжает из армии для того, чтобы не стеснять единство власти главнокомандующего, и надеется, что будут приняты более решительные меры; но положение начальства армий еще более путается и ослабевает. Бенигсен, великий князь и рой генерал адъютантов остаются при армии с тем, чтобы следить за действиями главнокомандующего и возбуждать его к энергии, и Барклай, еще менее чувствуя себя свободным под глазами всех этих глаз государевых, делается еще осторожнее для решительных действий и избегает сражений.
Барклай стоит за осторожность. Цесаревич намекает на измену и требует генерального сражения. Любомирский, Браницкий, Влоцкий и тому подобные так раздувают весь этот шум, что Барклай, под предлогом доставления бумаг государю, отсылает поляков генерал адъютантов в Петербург и входит в открытую борьбу с Бенигсеном и великим князем.
В Смоленске, наконец, как ни не желал того Багратион, соединяются армии.
Багратион в карете подъезжает к дому, занимаемому Барклаем. Барклай надевает шарф, выходит навстречу v рапортует старшему чином Багратиону. Багратион, в борьбе великодушия, несмотря на старшинство чина, подчиняется Барклаю; но, подчинившись, еще меньше соглашается с ним. Багратион лично, по приказанию государя, доносит ему. Он пишет Аракчееву: «Воля государя моего, я никак вместе с министром (Барклаем) не могу. Ради бога, пошлите меня куда нибудь хотя полком командовать, а здесь быть не могу; и вся главная квартира немцами наполнена, так что русскому жить невозможно, и толку никакого нет. Я думал, истинно служу государю и отечеству, а на поверку выходит, что я служу Барклаю. Признаюсь, не хочу». Рой Браницких, Винцингероде и тому подобных еще больше отравляет сношения главнокомандующих, и выходит еще меньше единства. Сбираются атаковать французов перед Смоленском. Посылается генерал для осмотра позиции. Генерал этот, ненавидя Барклая, едет к приятелю, корпусному командиру, и, просидев у него день, возвращается к Барклаю и осуждает по всем пунктам будущее поле сражения, которого он не видал.
Пока происходят споры и интриги о будущем поле сражения, пока мы отыскиваем французов, ошибившись в их месте нахождения, французы натыкаются на дивизию Неверовского и подходят к самым стенам Смоленска.
Надо принять неожиданное сражение в Смоленске, чтобы спасти свои сообщения. Сражение дается. Убиваются тысячи с той и с другой стороны.
Смоленск оставляется вопреки воле государя и всего народа. Но Смоленск сожжен самими жителями, обманутыми своим губернатором, и разоренные жители, показывая пример другим русским, едут в Москву, думая только о своих потерях и разжигая ненависть к врагу. Наполеон идет дальше, мы отступаем, и достигается то самое, что должно было победить Наполеона.
На другой день после отъезда сына князь Николай Андреич позвал к себе княжну Марью.
– Ну что, довольна теперь? – сказал он ей, – поссорила с сыном! Довольна? Тебе только и нужно было! Довольна?.. Мне это больно, больно. Я стар и слаб, и тебе этого хотелось. Ну радуйся, радуйся… – И после этого княжна Марья в продолжение недели не видала своего отца. Он был болен и не выходил из кабинета.
К удивлению своему, княжна Марья заметила, что за это время болезни старый князь так же не допускал к себе и m lle Bourienne. Один Тихон ходил за ним.
Через неделю князь вышел и начал опять прежнюю жизнь, с особенной деятельностью занимаясь постройками и садами и прекратив все прежние отношения с m lle Bourienne. Вид его и холодный тон с княжной Марьей как будто говорил ей: «Вот видишь, ты выдумала на меня налгала князю Андрею про отношения мои с этой француженкой и поссорила меня с ним; а ты видишь, что мне не нужны ни ты, ни француженка».
Одну половину дня княжна Марья проводила у Николушки, следя за его уроками, сама давала ему уроки русского языка и музыки, и разговаривая с Десалем; другую часть дня она проводила в своей половине с книгами, старухой няней и с божьими людьми, которые иногда с заднего крыльца приходили к ней.
О войне княжна Марья думала так, как думают о войне женщины. Она боялась за брата, который был там, ужасалась, не понимая ее, перед людской жестокостью, заставлявшей их убивать друг друга; но не понимала значения этой войны, казавшейся ей такою же, как и все прежние войны. Она не понимала значения этой войны, несмотря на то, что Десаль, ее постоянный собеседник, страстно интересовавшийся ходом войны, старался ей растолковать свои соображения, и несмотря на то, что приходившие к ней божьи люди все по своему с ужасом говорили о народных слухах про нашествие антихриста, и несмотря на то, что Жюли, теперь княгиня Друбецкая, опять вступившая с ней в переписку, писала ей из Москвы патриотические письма.
«Я вам пишу по русски, мой добрый друг, – писала Жюли, – потому что я имею ненависть ко всем французам, равно и к языку их, который я не могу слышать говорить… Мы в Москве все восторжены через энтузиазм к нашему обожаемому императору.
Бедный муж мой переносит труды и голод в жидовских корчмах; но новости, которые я имею, еще более воодушевляют меня.
Вы слышали, верно, о героическом подвиге Раевского, обнявшего двух сыновей и сказавшего: «Погибну с ними, но не поколеблемся!И действительно, хотя неприятель был вдвое сильнее нас, мы не колебнулись. Мы проводим время, как можем; но на войне, как на войне. Княжна Алина и Sophie сидят со мною целые дни, и мы, несчастные вдовы живых мужей, за корпией делаем прекрасные разговоры; только вас, мой друг, недостает… и т. д.
Преимущественно не понимала княжна Марья всего значения этой войны потому, что старый князь никогда не говорил про нее, не признавал ее и смеялся за обедом над Десалем, говорившим об этой войне. Тон князя был так спокоен и уверен, что княжна Марья, не рассуждая, верила ему.
Весь июль месяц старый князь был чрезвычайно деятелен и даже оживлен. Он заложил еще новый сад и новый корпус, строение для дворовых. Одно, что беспокоило княжну Марью, было то, что он мало спал и, изменив свою привычку спать в кабинете, каждый день менял место своих ночлегов. То он приказывал разбить свою походную кровать в галерее, то он оставался на диване или в вольтеровском кресле в гостиной и дремал не раздеваясь, между тем как не m lle Bourienne, a мальчик Петруша читал ему; то он ночевал в столовой.
Первого августа было получено второе письмо от кня зя Андрея. В первом письме, полученном вскоре после его отъезда, князь Андрей просил с покорностью прощения у своего отца за то, что он позволил себе сказать ему, и просил его возвратить ему свою милость. На это письмо старый князь отвечал ласковым письмом и после этого письма отдалил от себя француженку. Второе письмо князя Андрея, писанное из под Витебска, после того как французы заняли его, состояло из краткого описания всей кампании с планом, нарисованным в письме, и из соображений о дальнейшем ходе кампании. В письме этом князь Андрей представлял отцу неудобства его положения вблизи от театра войны, на самой линии движения войск, и советовал ехать в Москву.
За обедом в этот день на слова Десаля, говорившего о том, что, как слышно, французы уже вступили в Витебск, старый князь вспомнил о письме князя Андрея.
– Получил от князя Андрея нынче, – сказал он княжне Марье, – не читала?
– Нет, mon pere, [батюшка] – испуганно отвечала княжна. Она не могла читать письма, про получение которого она даже и не слышала.
– Он пишет про войну про эту, – сказал князь с той сделавшейся ему привычной, презрительной улыбкой, с которой он говорил всегда про настоящую войну.
– Должно быть, очень интересно, – сказал Десаль. – Князь в состоянии знать…
– Ах, очень интересно! – сказала m llе Bourienne.
– Подите принесите мне, – обратился старый князь к m llе Bourienne. – Вы знаете, на маленьком столе под пресс папье.
M lle Bourienne радостно вскочила.
– Ах нет, – нахмурившись, крикнул он. – Поди ты, Михаил Иваныч.
Михаил Иваныч встал и пошел в кабинет. Но только что он вышел, старый князь, беспокойно оглядывавшийся, бросил салфетку и пошел сам.
– Ничего то не умеют, все перепутают.
Пока он ходил, княжна Марья, Десаль, m lle Bourienne и даже Николушка молча переглядывались. Старый князь вернулся поспешным шагом, сопутствуемый Михаилом Иванычем, с письмом и планом, которые он, не давая никому читать во время обеда, положил подле себя.
Перейдя в гостиную, он передал письмо княжне Марье и, разложив пред собой план новой постройки, на который он устремил глаза, приказал ей читать вслух. Прочтя письмо, княжна Марья вопросительно взглянула на отца.
Он смотрел на план, очевидно, погруженный в свои мысли.
– Что вы об этом думаете, князь? – позволил себе Десаль обратиться с вопросом.
– Я! я!.. – как бы неприятно пробуждаясь, сказал князь, не спуская глаз с плана постройки.
– Весьма может быть, что театр войны так приблизится к нам…
– Ха ха ха! Театр войны! – сказал князь. – Я говорил и говорю, что театр войны есть Польша, и дальше Немана никогда не проникнет неприятель.
Десаль с удивлением посмотрел на князя, говорившего о Немане, когда неприятель был уже у Днепра; но княжна Марья, забывшая географическое положение Немана, думала, что то, что ее отец говорит, правда.
– При ростепели снегов потонут в болотах Польши. Они только могут не видеть, – проговорил князь, видимо, думая о кампании 1807 го года, бывшей, как казалось, так недавно. – Бенигсен должен был раньше вступить в Пруссию, дело приняло бы другой оборот…
– Но, князь, – робко сказал Десаль, – в письме говорится о Витебске…
– А, в письме, да… – недовольно проговорил князь, – да… да… – Лицо его приняло вдруг мрачное выражение. Он помолчал. – Да, он пишет, французы разбиты, при какой это реке?
Десаль опустил глаза.
– Князь ничего про это не пишет, – тихо сказал он.
– А разве не пишет? Ну, я сам не выдумал же. – Все долго молчали.
– Да… да… Ну, Михайла Иваныч, – вдруг сказал он, приподняв голову и указывая на план постройки, – расскажи, как ты это хочешь переделать…
Михаил Иваныч подошел к плану, и князь, поговорив с ним о плане новой постройки, сердито взглянув на княжну Марью и Десаля, ушел к себе.
Княжна Марья видела смущенный и удивленный взгляд Десаля, устремленный на ее отца, заметила его молчание и была поражена тем, что отец забыл письмо сына на столе в гостиной; но она боялась не только говорить и расспрашивать Десаля о причине его смущения и молчания, но боялась и думать об этом.
Ввечеру Михаил Иваныч, присланный от князя, пришел к княжне Марье за письмом князя Андрея, которое забыто было в гостиной. Княжна Марья подала письмо. Хотя ей это и неприятно было, она позволила себе спросить у Михаила Иваныча, что делает ее отец.
– Всё хлопочут, – с почтительно насмешливой улыбкой, которая заставила побледнеть княжну Марью, сказал Михаил Иваныч. – Очень беспокоятся насчет нового корпуса. Читали немножко, а теперь, – понизив голос, сказал Михаил Иваныч, – у бюра, должно, завещанием занялись. (В последнее время одно из любимых занятий князя было занятие над бумагами, которые должны были остаться после его смерти и которые он называл завещанием.)
– А Алпатыча посылают в Смоленск? – спросила княжна Марья.
– Как же с, уж он давно ждет.
Когда Михаил Иваныч вернулся с письмом в кабинет, князь в очках, с абажуром на глазах и на свече, сидел у открытого бюро, с бумагами в далеко отставленной руке, и в несколько торжественной позе читал свои бумаги (ремарки, как он называл), которые должны были быть доставлены государю после его смерти.
Когда Михаил Иваныч вошел, у него в глазах стояли слезы воспоминания о том времени, когда он писал то, что читал теперь. Он взял из рук Михаила Иваныча письмо, положил в карман, уложил бумаги и позвал уже давно дожидавшегося Алпатыча.
На листочке бумаги у него было записано то, что нужно было в Смоленске, и он, ходя по комнате мимо дожидавшегося у двери Алпатыча, стал отдавать приказания.
– Первое, бумаги почтовой, слышишь, восемь дестей, вот по образцу; золотообрезной… образчик, чтобы непременно по нем была; лаку, сургучу – по записке Михаила Иваныча.
Он походил по комнате и заглянул в памятную записку.
– Потом губернатору лично письмо отдать о записи.
Потом были нужны задвижки к дверям новой постройки, непременно такого фасона, которые выдумал сам князь. Потом ящик переплетный надо было заказать для укладки завещания.
Отдача приказаний Алпатычу продолжалась более двух часов. Князь все не отпускал его. Он сел, задумался и, закрыв глаза, задремал. Алпатыч пошевелился.
– Ну, ступай, ступай; ежели что нужно, я пришлю.
Алпатыч вышел. Князь подошел опять к бюро, заглянув в него, потрогал рукою свои бумаги, опять запер и сел к столу писать письмо губернатору.
Уже было поздно, когда он встал, запечатав письмо. Ему хотелось спать, но он знал, что не заснет и что самые дурные мысли приходят ему в постели. Он кликнул Тихона и пошел с ним по комнатам, чтобы сказать ему, где стлать постель на нынешнюю ночь. Он ходил, примеривая каждый уголок.
Везде ему казалось нехорошо, но хуже всего был привычный диван в кабинете. Диван этот был страшен ему, вероятно по тяжелым мыслям, которые он передумал, лежа на нем. Нигде не было хорошо, но все таки лучше всех был уголок в диванной за фортепиано: он никогда еще не спал тут.
Тихон принес с официантом постель и стал уставлять.
– Не так, не так! – закричал князь и сам подвинул на четверть подальше от угла, и потом опять поближе.
«Ну, наконец все переделал, теперь отдохну», – подумал князь и предоставил Тихону раздевать себя.
Досадливо морщась от усилий, которые нужно было делать, чтобы снять кафтан и панталоны, князь разделся, тяжело опустился на кровать и как будто задумался, презрительно глядя на свои желтые, иссохшие ноги. Он не задумался, а он медлил перед предстоявшим ему трудом поднять эти ноги и передвинуться на кровати. «Ох, как тяжело! Ох, хоть бы поскорее, поскорее кончились эти труды, и вы бы отпустили меня! – думал он. Он сделал, поджав губы, в двадцатый раз это усилие и лег. Но едва он лег, как вдруг вся постель равномерно заходила под ним вперед и назад, как будто тяжело дыша и толкаясь. Это бывало с ним почти каждую ночь. Он открыл закрывшиеся было глаза.
– Нет спокоя, проклятые! – проворчал он с гневом на кого то. «Да, да, еще что то важное было, очень что то важное я приберег себе на ночь в постели. Задвижки? Нет, про это сказал. Нет, что то такое, что то в гостиной было. Княжна Марья что то врала. Десаль что то – дурак этот – говорил. В кармане что то – не вспомню».
– Тишка! Об чем за обедом говорили?
– Об князе, Михайле…
– Молчи, молчи. – Князь захлопал рукой по столу. – Да! Знаю, письмо князя Андрея. Княжна Марья читала. Десаль что то про Витебск говорил. Теперь прочту.
Он велел достать письмо из кармана и придвинуть к кровати столик с лимонадом и витушкой – восковой свечкой и, надев очки, стал читать. Тут только в тишине ночи, при слабом свете из под зеленого колпака, он, прочтя письмо, в первый раз на мгновение понял его значение.
«Французы в Витебске, через четыре перехода они могут быть у Смоленска; может, они уже там».
– Тишка! – Тихон вскочил. – Нет, не надо, не надо! – прокричал он.
Он спрятал письмо под подсвечник и закрыл глаза. И ему представился Дунай, светлый полдень, камыши, русский лагерь, и он входит, он, молодой генерал, без одной морщины на лице, бодрый, веселый, румяный, в расписной шатер Потемкина, и жгучее чувство зависти к любимцу, столь же сильное, как и тогда, волнует его. И он вспоминает все те слова, которые сказаны были тогда при первом Свидании с Потемкиным. И ему представляется с желтизною в жирном лице невысокая, толстая женщина – матушка императрица, ее улыбки, слова, когда она в первый раз, обласкав, приняла его, и вспоминается ее же лицо на катафалке и то столкновение с Зубовым, которое было тогда при ее гробе за право подходить к ее руке.
«Ах, скорее, скорее вернуться к тому времени, и чтобы теперешнее все кончилось поскорее, поскорее, чтобы оставили они меня в покое!»
Лысые Горы, именье князя Николая Андреича Болконского, находились в шестидесяти верстах от Смоленска, позади его, и в трех верстах от Московской дороги.
В тот же вечер, как князь отдавал приказания Алпатычу, Десаль, потребовав у княжны Марьи свидания, сообщил ей, что так как князь не совсем здоров и не принимает никаких мер для своей безопасности, а по письму князя Андрея видно, что пребывание в Лысых Горах небезопасно, то он почтительно советует ей самой написать с Алпатычем письмо к начальнику губернии в Смоленск с просьбой уведомить ее о положении дел и о мере опасности, которой подвергаются Лысые Горы. Десаль написал для княжны Марьи письмо к губернатору, которое она подписала, и письмо это было отдано Алпатычу с приказанием подать его губернатору и, в случае опасности, возвратиться как можно скорее.
Получив все приказания, Алпатыч, провожаемый домашними, в белой пуховой шляпе (княжеский подарок), с палкой, так же как князь, вышел садиться в кожаную кибиточку, заложенную тройкой сытых саврасых.
Колокольчик был подвязан, и бубенчики заложены бумажками. Князь никому не позволял в Лысых Горах ездить с колокольчиком. Но Алпатыч любил колокольчики и бубенчики в дальней дороге. Придворные Алпатыча, земский, конторщик, кухарка – черная, белая, две старухи, мальчик казачок, кучера и разные дворовые провожали его.
Дочь укладывала за спину и под него ситцевые пуховые подушки. Свояченица старушка тайком сунула узелок. Один из кучеров подсадил его под руку.
– Ну, ну, бабьи сборы! Бабы, бабы! – пыхтя, проговорил скороговоркой Алпатыч точно так, как говорил князь, и сел в кибиточку. Отдав последние приказания о работах земскому и в этом уж не подражая князю, Алпатыч снял с лысой головы шляпу и перекрестился троекратно.
– Вы, ежели что… вы вернитесь, Яков Алпатыч; ради Христа, нас пожалей, – прокричала ему жена, намекавшая на слухи о войне и неприятеле.