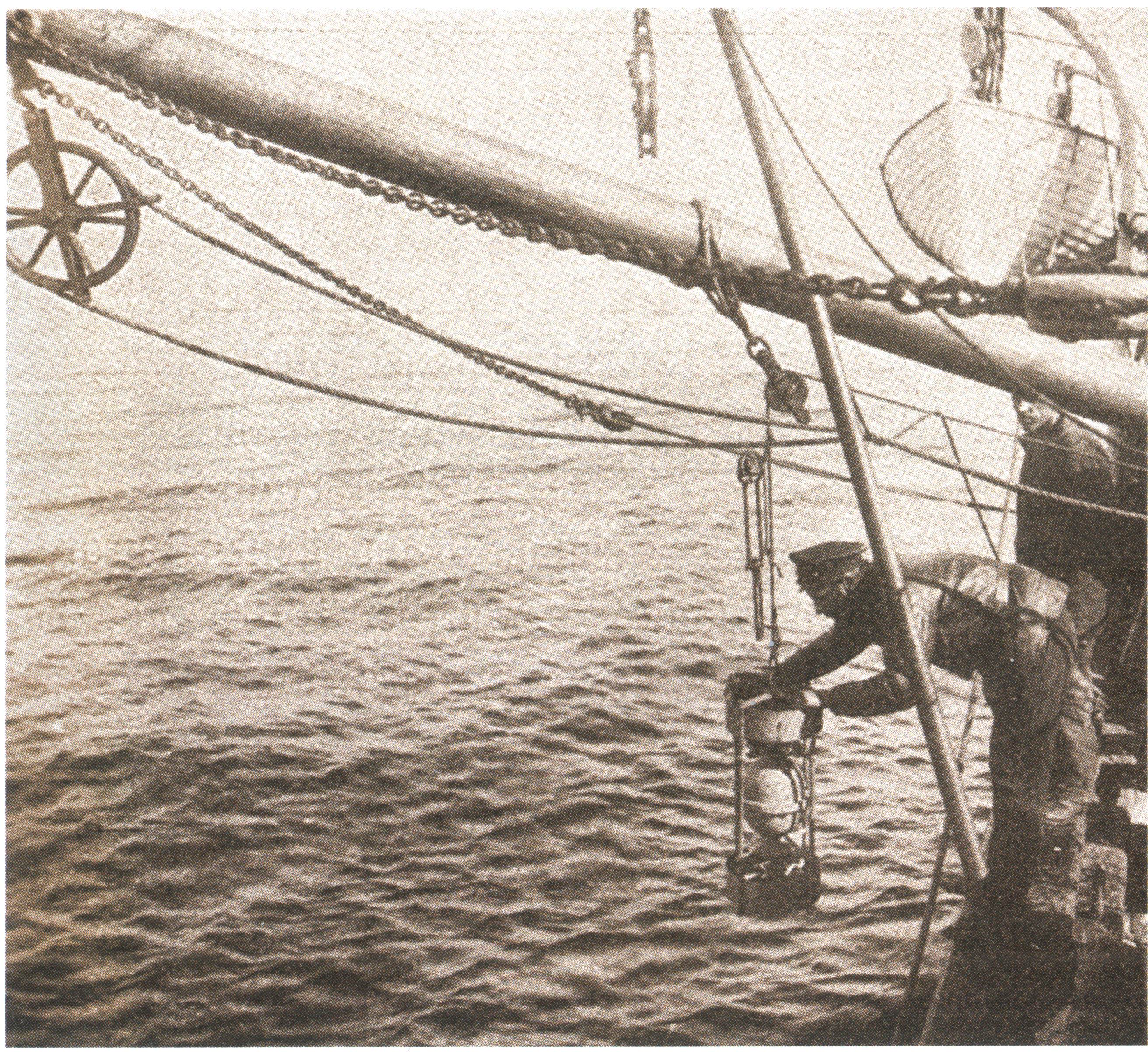Русская полярная экспедиция
| Русская полярная экспедиция | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Шхуна «Заря» во льдах. Рисунок участника экспедиции | |||||||||||
| |||||||||||
| Состав | |||||||||||
|
20 человек, в том числе:
| |||||||||||
| Маршрут | |||||||||||
| Плавание «Зари» в навигацию 1901 года, маршруты Толля и спасательной экспедиции Колчака 1903 года | |||||||||||
| Достижения | |||||||||||
| |||||||||||
| Потери | |||||||||||
| |||||||||||
Ру́сская поля́рная экспеди́ция 1900—1902 годов была снаряжена Императорской Академией наук и имела основной целью исследование части Северного Ледовитого океана к северу от Новосибирских островов и поиск легендарной Земли Санникова. Стала первым академическим предприятием России в водах Ледовитого океана, совершённым на собственном судне[1]. Руководил экспедицией русский геолог и полярный исследователь барон Эдуард Васильевич Толль.
Одним из сотрудников и ближайших помощников Толля был молодой учёный-исследователь, лейтенант Императорского флота Александр Васильевич Колчак, принявший в годы Гражданской войны титул Верховного правителя России и звание Верховного главнокомандующего Русской армии. Осмыслению и правдивой оценке его личности препятствовала ортодоксальная коммунистическая пропаганда, поэтому по политическим мотивам при советской власти история экспедиции радикально искажалась[1][2].
Мероприятие находилось под Высочайшим покровительством президента Академии наук великого князя Константина Константиновича.
Экспедиция была важна также и с точки зрения геополитических интересов России. Все предшествующие иностранные полярные экспедиции рассматривались их организаторами также как важное национальное дело[К 1][1].
Содержание
- 1 Предыстория
- 2 Высочайшее покровительство
- 3 Планирование и подготовка экспедиции
- 4 Команда
- 5 Последние приготовления
- 6 Ход экспедиции
- 7 Достижения и научное значение экспедиции барона Толля
- 8 Русская полярная экспедиция в искусстве и историографии
- 9 Комментарии
- 10 Примечания
- 11 Литература
Предыстория
Выпускник Дерптского университета, естествоиспытатель Э. В. Толль в 1884—1886 годах принимал участие в экспедиции учёного-полярника А. А. Бунге, исследовавшей побережье Северного Ледовитого океана от устья Лены до Яны, а также Новосибирские острова. Толль тогда обнаружил на Котельном и Большом Ляховском островах кости мамонтов, а на острове Новой Сибири — залежи бурого угля[3].
Однажды в августе 1886 года[4] в ясную погоду с северо-западных утёсов острова Котельного исследователь разглядел контуры другого — неизвестного — острова, располагавшегося в северо-восточном направлении. На расстоянии в сто с небольшим вёрст (определённом Толлем на глаз) чётко были видны обрывистый берег со столбообразными горами, координаты которых определялись приблизительно как 77°05′ с. ш. 140°14′ в. д. / 77.09° с. ш. 140.23° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=77.09&mlon=140.23&zoom=14 (O)] (Я)[5]. Берег простирался именно там, куда указывал Яков Санников — это была легендарная Земля Санникова, которую с тех пор стали обозначать на картах пунктирной линией. Видение неизведанного острова не давало исследователю покоя и неудержимо манило к себе[3].
Государь Император как-то во время очередного разговора о Земле Санникова то ли в шутку, то ли всерьёз обнадёжил смельчаков-первопроходцев: «Кто откроет эту землю-невидимку, тому и принадлежать она будет. Дерзайте, лейтенанты!»[6].
Высочайшее покровительство
 Огромную роль в снаряжении экспедиции играл великий князь генерал-адъютант Константин Константинович. Без ходатайств великого князя экспедиция могла и не состояться, и отнюдь не случайно его портрет украшал кают-компанию «Зари». В юности Константин Константинович был военным моряком и многие важные мелочи снаряжения мог оценивать лично и со знанием дела. Далёкий от науки, отсутствие специальных знаний он компенсировал общей культурой и вниманием к людям. Известны многие примеры его личной заботы о членах экспедиции. Именно благодаря ему Толль получил вдвое больше средств, чем первоначально планировалось: 509 тыс. рублей на март 1904 года вместо намеченных 240 тысяч. Как пишет Ю. В. Чайковский, недалеко от истины было утверждение, что Толль и затем по его примеру Колчак прямо эксплуатировали обязательность президента Императорской Академии наук и не раз ставили Академию перед фактом непредвиденных расходов. Насколько можно судить по известным документам экспедиции, аппарат Академии при подготовке плавания работал слаженно и без проволочек[1].
Огромную роль в снаряжении экспедиции играл великий князь генерал-адъютант Константин Константинович. Без ходатайств великого князя экспедиция могла и не состояться, и отнюдь не случайно его портрет украшал кают-компанию «Зари». В юности Константин Константинович был военным моряком и многие важные мелочи снаряжения мог оценивать лично и со знанием дела. Далёкий от науки, отсутствие специальных знаний он компенсировал общей культурой и вниманием к людям. Известны многие примеры его личной заботы о членах экспедиции. Именно благодаря ему Толль получил вдвое больше средств, чем первоначально планировалось: 509 тыс. рублей на март 1904 года вместо намеченных 240 тысяч. Как пишет Ю. В. Чайковский, недалеко от истины было утверждение, что Толль и затем по его примеру Колчак прямо эксплуатировали обязательность президента Императорской Академии наук и не раз ставили Академию перед фактом непредвиденных расходов. Насколько можно судить по известным документам экспедиции, аппарат Академии при подготовке плавания работал слаженно и без проволочек[1].
Шхуна «Заря» совершала свой поход в Арктику с Высочайшего дозволения президента Императорской академии наук под его личным вымпелом. Это имело важное значение с точки зрения внимания и отношения к путешественникам со стороны организаций и отдельных лиц, в чьей власти было оказать содействие и помощь первопроходцам на их пути к берегам Восточной Сибири[7].
Планирование и подготовка экспедиции
 По возвращении с Новосибирских островов в 1893 году, где он снаряжал эвакуационные базы для норвежского мореплавателя Ф. Нансена, барон Толль начал активно пропагандировать план морской экспедиции в район Новосибирских островов и «Земли Санникова». В Академии наук Толль выступил с подробным докладом и заявил о необходимости «организовать экспедицию для открытия архипелага, лежащего на север от наших Новосибирских островов, и исполнить её так, чтобы результаты были и счастливы, и плодотворны». Выступал он также и в печати, и на заседаниях Русского географического и Минералогического обществ. Естествоиспытатель находил возможным достичь «Санниковой Земли» по морю в тот период, когда море освобождается ото льда[8]. Толль обращал внимание принимавших окончательное решение лиц, что результаты экспедиции будут иметь большое значение и с точки зрения национальных интересов страны, ведь исследователь хотел положить начало плаваниям пароходов из Карского моря в сибирские реки и до самого Берингова пролива; предотвратить иностранную экспансию на северо-востоке Евразии и помочь в положительном решении вопроса о плавании по Северному морскому пути[9]. Толль, будучи большим патриотом, с сожалением отмечал, что американцы и скандинавы заняли нишу арктических первопроходцев: «Я уверен, что если мы не возьмёмся за это дело, то не пройдёт и двух-трёх лет, как отнято будет у нас последнее поле действий на севере от сибирского берега до Земли Санникова»[10]. В итоге ему удалось убедить Академию наук в необходимости послать экспедицию на восток от Таймыра для разведывания морского пути к Берингову проливу. Ему помогли ставшие известными сведения, что эту же цель в то время преследовали американцы. А канадский исследователь Бернье прямо заявлял, что во время следующей ледовой экспедиции Земля Санникова станет его опорной базой[11]. «Неужели мы допустим, чтобы эти выскочки нас опередили?» — такой аргумент слышался в его обращениях к начальству[12]. С ним был солидарен и патриах российской географии Семёнов-Тян-Шанский: «Недалеко уже то время, когда честь исследования… Земли Санникова будет предвосхищена скандинавами или американцами, тогда как исследование этой земли есть прямая обязанность России»[13]. Была ещё одна важная причина, о которой широкой публике предпочитали не сообщать. Ещё американский полярный исследователь Дж. Делонг обнаружил на острове Беннетта залежи бурого угля. Барон Толль считал, что угленосные пласты острова Новая Сибирь простираются до Беннетта и дальше — до гипотетической Земли Санникова. Этот фактор был очень важен с геостратегической точки зрения: суда, идущие из Архангельска во Владивосток Северным морским путём, могли бы пополнять запасы угля в середине своего пути, а военные корабли получали бы возможность огибать Чукотку и достигать Владивостокского порта не вокруг Африки, а кратчайшим и практически внутренним российским путём. Сторонником этой идеи был адмирал С. О. Макаров[13].
По возвращении с Новосибирских островов в 1893 году, где он снаряжал эвакуационные базы для норвежского мореплавателя Ф. Нансена, барон Толль начал активно пропагандировать план морской экспедиции в район Новосибирских островов и «Земли Санникова». В Академии наук Толль выступил с подробным докладом и заявил о необходимости «организовать экспедицию для открытия архипелага, лежащего на север от наших Новосибирских островов, и исполнить её так, чтобы результаты были и счастливы, и плодотворны». Выступал он также и в печати, и на заседаниях Русского географического и Минералогического обществ. Естествоиспытатель находил возможным достичь «Санниковой Земли» по морю в тот период, когда море освобождается ото льда[8]. Толль обращал внимание принимавших окончательное решение лиц, что результаты экспедиции будут иметь большое значение и с точки зрения национальных интересов страны, ведь исследователь хотел положить начало плаваниям пароходов из Карского моря в сибирские реки и до самого Берингова пролива; предотвратить иностранную экспансию на северо-востоке Евразии и помочь в положительном решении вопроса о плавании по Северному морскому пути[9]. Толль, будучи большим патриотом, с сожалением отмечал, что американцы и скандинавы заняли нишу арктических первопроходцев: «Я уверен, что если мы не возьмёмся за это дело, то не пройдёт и двух-трёх лет, как отнято будет у нас последнее поле действий на севере от сибирского берега до Земли Санникова»[10]. В итоге ему удалось убедить Академию наук в необходимости послать экспедицию на восток от Таймыра для разведывания морского пути к Берингову проливу. Ему помогли ставшие известными сведения, что эту же цель в то время преследовали американцы. А канадский исследователь Бернье прямо заявлял, что во время следующей ледовой экспедиции Земля Санникова станет его опорной базой[11]. «Неужели мы допустим, чтобы эти выскочки нас опередили?» — такой аргумент слышался в его обращениях к начальству[12]. С ним был солидарен и патриах российской географии Семёнов-Тян-Шанский: «Недалеко уже то время, когда честь исследования… Земли Санникова будет предвосхищена скандинавами или американцами, тогда как исследование этой земли есть прямая обязанность России»[13]. Была ещё одна важная причина, о которой широкой публике предпочитали не сообщать. Ещё американский полярный исследователь Дж. Делонг обнаружил на острове Беннетта залежи бурого угля. Барон Толль считал, что угленосные пласты острова Новая Сибирь простираются до Беннетта и дальше — до гипотетической Земли Санникова. Этот фактор был очень важен с геостратегической точки зрения: суда, идущие из Архангельска во Владивосток Северным морским путём, могли бы пополнять запасы угля в середине своего пути, а военные корабли получали бы возможность огибать Чукотку и достигать Владивостокского порта не вокруг Африки, а кратчайшим и практически внутренним российским путём. Сторонником этой идеи был адмирал С. О. Макаров[13].
Проект долгое время не утверждался, поскольку был довольно дорогим, однако дело сдвинулось с мёртвой точки в 1899 году, когда 31 декабря[К 2] император Николай II согласовал снаряжение экспедиции «для исследования земли Санникова и других островов, расположенных за Новосибирским архипелагом», утвердив одновременно Толля её начальником[3].
На подходящем судне предполагалось летом 1898 или 1899 года пройти, минуя Карское море и мыс Челюскин, до удобного места зимовки в устье Лены. Следующим летом планировалось совершить поход на север на усть-ленских собачьих нартах, найти terra incognita в августе и высадить экспедицию с 2-летним запасом продовольствия. На обратном пути часть путешественников должна была соорудить «на случай неудачи плавания следующего года» на острове Котельном продовольственный склад, и вернуться на материк; группе же оставшихся на Земле Санникова ставилась задача возвести дом для зимовки и проводить в течение года различные научные исследования; другая группа должна была построить доставленное на судне домище для зимовки[10]. Весной и летом 3-го года экспедиции предполагалось проводить исследования на острове Беннетта и летом же, на вторично пришедшем из устья Лены судне, обойдя Новосибирские острова с востока, вернуться на базу в устье Лены[8]. Согласно окончательному плану, в навигацию 1903 года, после исследования Новосибирских островов экспедиция должна была двинуться на восток, обогнуть мыс Дежнёва и, пройдя через Берингов пролив, закончить свой путь во владивостокской бухте Золотой Рог. Кроме основной, снаряжалась и вспомогательная экспедиция, аналогичная по назначению предыдущей экспедиции Толля, когда он закладывал склады для Нансена. Теперь такие же склады должны были быть заготовлены для экспедиции самого Толля — на Новосибирских островах. Продовольственные запасы делались из расчётов на 3½ года[14]. В целом всё описанное комплексное мероприятие получило название Русской полярной экспедиции[3].
Мысль о снаряжении полярной экспедиции поддержали многие русские учёные: Ф. Б. Шмидт, А. П. Карпинский, Ф. Н. Чернышёв, М. А. Рыкачёв, Д. И. Менделеев, С. О. Макаров, Н. М. Книпович, П. П. Семёнов-Тян-Шанский и другие. В Императорском Географическом обществе выступил в апреле 1898 года с поддержкой идеи Толля и Ф. Нансен. Экспедиция обещала дать результаты колоссальной важности, ажиотаж вокруг предприятия усиливался с каждым днём, поэтому никого не удивило ассигнование по Высочайшему повелению на экспедицию 240 тыс. рублей[15]. После того, как планом заинтересовался великий князь Константин Константинович, в начале 1899 года была создана под председательством академика Ф. Б. Шмидта и в составе известных учёных и руководителей различных морских и научных ведомств Комиссия по снаряжению Русской полярной экспедиции. В июле 1899 года были получены из казны первые деньги — на покупку судна[9]. Кроме государственных ассигнований, вызвавшее большой энтузиазм по всей стране предприятие барона Толля получало поддержку от различных учреждений и просто состоятельных граждан[16].
 Корабль, на котором мореплавателям предстояло совершить свой морской поход, прежде был тюленебойным судном, использовавшимся для промысла тюленей близ Гренландии. «Харальд Харфагер», однотипный с норденшёльдовской «Вегой» парусный барк с паровым двигателем был на предоставленные русским правительством средства куплен в Норвегии, переоборудован под новые задачи (усилен ледовый пояс, установлены паровые лебёдки, в виду малочисленности команды была демонтирована часть парусного оборудования и прямые паруса оставались лишь на фок-мачте), и превратился с точки зрения парусного вооружения в шхуну-барк, или баркентину[17][1]. По совету президента Императорской академии наук барк переименовали в шхуну «Заря»[18]. Одновременно, во многих исследованиях и документах судно называется яхтой, так как оно ходило под флагом Невского яхт-клуба[19]. Это судно рекомендовал Толлю Фритьоф Нансен как подобное знаменитому «Фраму». Нансен, строивший свой «Фрам» на той же самой верфи, писал Толлю в письме:
Корабль, на котором мореплавателям предстояло совершить свой морской поход, прежде был тюленебойным судном, использовавшимся для промысла тюленей близ Гренландии. «Харальд Харфагер», однотипный с норденшёльдовской «Вегой» парусный барк с паровым двигателем был на предоставленные русским правительством средства куплен в Норвегии, переоборудован под новые задачи (усилен ледовый пояс, установлены паровые лебёдки, в виду малочисленности команды была демонтирована часть парусного оборудования и прямые паруса оставались лишь на фок-мачте), и превратился с точки зрения парусного вооружения в шхуну-барк, или баркентину[17][1]. По совету президента Императорской академии наук барк переименовали в шхуну «Заря»[18]. Одновременно, во многих исследованиях и документах судно называется яхтой, так как оно ходило под флагом Невского яхт-клуба[19]. Это судно рекомендовал Толлю Фритьоф Нансен как подобное знаменитому «Фраму». Нансен, строивший свой «Фрам» на той же самой верфи, писал Толлю в письме:
|
 Оборудование для проведения гидрологических исследований заказали в Англии, Швеции и России. В письме Колчака от 20 марта 1900 года в Лондон по поводу заказа гидрологического оборудования содержится просьба прислать его «как можно скорее, поскольку мы должны быть готовы к концу апреля». Упущением было по́зднее начало организации гидрологической службы экспедиции: единственный гидролог экспедиции Колчак приступил к делам не ранее середины февраля, причём отметил, что до него «относительно… гидрологии и снаряжения, касающегося её, пока ещё ничего не было сделано». Удивительно, как он всё же успел войти в курс дел, что-то заказать и получить. (Нансен в похожей ситуации так и не смог найти геолога[1].) А. В. Колчак проследил, чтобы заказываемое оборудование отвечало условиям работы на больших глубинах. Для работы на глубине Русская полярная экспедиция была снаряжена лучше нансеновской Норвежской полярной экспедиции[20]. А. В. Колчак позднее отметит: «ни разу за всё время мы не испытывали увеличения трудностей плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов»[21]. С точки зрения же отечественной океанологии судно экспедиции — «Заря» — ознаменовала начало нового этапа в этой науке: это было первое в России научно-исследовательское судно для проведения морских комплексных исследований, полностью переоборудованное для выполнения специальных работ в арктических условиях[22].
Оборудование для проведения гидрологических исследований заказали в Англии, Швеции и России. В письме Колчака от 20 марта 1900 года в Лондон по поводу заказа гидрологического оборудования содержится просьба прислать его «как можно скорее, поскольку мы должны быть готовы к концу апреля». Упущением было по́зднее начало организации гидрологической службы экспедиции: единственный гидролог экспедиции Колчак приступил к делам не ранее середины февраля, причём отметил, что до него «относительно… гидрологии и снаряжения, касающегося её, пока ещё ничего не было сделано». Удивительно, как он всё же успел войти в курс дел, что-то заказать и получить. (Нансен в похожей ситуации так и не смог найти геолога[1].) А. В. Колчак проследил, чтобы заказываемое оборудование отвечало условиям работы на больших глубинах. Для работы на глубине Русская полярная экспедиция была снаряжена лучше нансеновской Норвежской полярной экспедиции[20]. А. В. Колчак позднее отметит: «ни разу за всё время мы не испытывали увеличения трудностей плавания от недостатков или неимения каких-либо инструментов или приборов»[21]. С точки зрения же отечественной океанологии судно экспедиции — «Заря» — ознаменовала начало нового этапа в этой науке: это было первое в России научно-исследовательское судно для проведения морских комплексных исследований, полностью переоборудованное для выполнения специальных работ в арктических условиях[22].
Лейтенант Колчак, на которого Толль в числе прочего возложил магнитометрические наблюдения, не будучи знакомым с данным видом научных работ, прошёл специальный курс и практику в Геофизической и Павловской магнитной обсерваториях под Петербургом[4]; совершил командировку в Норвегию для консультации с Ф. Нансеном[23], в течение некоторого времени проходил у него стажировку[24], после чего по поручению барона Толля Александр Васильевич ездил в Москву и Архангельск с целью завершения комплектования команды, встречался с губернатором Архангельска, посетил Онегу, другие поморские места. В результате Колчаку удалось нанять троих человек, одного из которых — Семёна Евстифеева — Толль признал впоследствии своим лучшим матросом[25].
Команда
Барон Толль лично подбирал участников для экспедиции, список был утверждён приказом по Академии наук от 8—10 марта 1900 года.
В научном отряде экспедиции участвовали[17]:
- барон Э. В. Толль — начальник экспедиции, геолог, зоолог.
- Н. Н. Коломейцев — лейтенант, командир «Зари». Опытный участник экспедиций в Белое море, в устье Енисея.
- Ф. А. Матисен — лейтенант, помощник командира и старший офицер[26] судна. Геодезист, картограф, минералог, метеоролог и фотограф экспедиции[27][26]. Принимал участие в экспедиции на Шпицберген в 1899 году.
- А. В. Колчак — лейтенант, второй офицер шхуны «Заря»[26], гидрограф, гидролог, магнитолог, гидрохимик, топограф и картограф. Плавал в Тихом океане, проводил гидрологические и гидрохимические исследования в Японском и Корейском морях, выверял карту течений. Был приглашён в экспедицию Э. В. Толлем, обратившим внимание на научные работы лейтенанта по океанографии[11].
- А. А. Бялыницкий-Бируля — старший зоолог и фотограф, сотрудник Зоологического музея Императорской Академии наук. Принимал участие в экспедиции на Шпицберген в 1899 году. Работал на Соловецкой биологической станции, изучал морскую фауну Белого моря.
- Ф. Г. Зееберг — кандидат физико-математических наук, астроном и магнитолог.
- Г. Э. Вальтер — доктор медицины, врач-бактериолог и второй зоолог экспедиции, специалист в области бактериологии, в 1899 году принимавший участие в научно-промысловой экспедиции близ Мурманского побережья и Новой Земли.
- К. А. Воллосович — геолог.
- О. Ф. Ционглинский — студент, политический ссыльный.
- М. И. Бруснев — инженер-технолог, политический ссыльный.
- В. Н. Катин-Ярцев — врач, политический ссыльный.
Троим офицерам Русского флота — Коломейцеву, Матисену и Колчаку — наравне с выполнением научных работ предстояло нести и службу строевых офицеров и нести штурманские вахты, так как большая часть команды «Зари» состояла из матросов военного флота[27].
Команда шхуны состояла из 13 человек, в том числе:
- Н. А. Бегичев — боцман.
- Эдуард Огрин — старший механик.
- Семён Евстифеев — матрос рулевой.
- В. А. Железников — рулевой старшина.
- Алексей Семяшкин — матрос рулевой. Заменён впоследствии П. Стрижёвым.
- Иван Малыгин — матрос рулевой. Заменён впоследствии С. Расторгуевым.
- Николай Безбородов — матрос рулевой.
- С. И. Расторгуев — каюр, матрос рулевой.
- Пётр Стрижёв — каюр, матрос рулевой.
- Сергей Толстов — матрос рулевой.
- Эдуард Червинский — второй машинист.
- Иван Клуг — старший кочегар.
- Гавриил Пузырёв — второй кочегар.
- Трифон Носов — третий кочегар.
- Фома Яскевич — повар.
Вспомогательная экспедиция под руководством геолога К. А. Воллосовича состояла из 11 человек, в числе которых были двое политических ссыльных — О. Ф. Ционглинский и М. И. Бруснев[17].
Последние приготовления
 В январе в норвежский порт Ларвик отправился Коломейцев — для наблюдения за переоборудованием помещений и рангоута «Зари»[4]. Примерно 10 апреля, когда собралась вся команда, Колчак и Матисен с нижними чинами отправились по Финляндской железной дороге через Гангсуд в Стокгольм, затем через Кристианию в норвежский городок Ларвик, где на эллинге известного судостроителя Колина Арчера проходила переоборудование «Заря». В течение трёх недель судно было проконопачено и покрыто тиром. По выходе из дока была обнаружена небольшая течь. Этому обстоятельству не придали значения, связав его с только что проведённым проконопачиванием. Из Ларвика «Заря» проследовала в Кристианию, где взяла на борт уголь и заказанное научное снаряжение. По совету Толля Колчак разыскал здесь Нансена, съездил в его научную лабораторию и изучил нансеновские методы гидрологических исследований, ознакомился с новейшими океанографическими приборами профессора Хирта[4]. Нансен, в свою очередь, побывал на «Заре». В начале мая 1900 года лейтенант флота Н. Н. Коломейцев и лейтенант флота А. В. Колчак привели шхуну из Бергена в Санкт-Петербург, забрав по пути из Мемеля начальника экспедиции барона Э. В. Толля. Пришвартовались на Неве — близ Николаевского моста — напротив здания Морского корпуса, выпускниками которого были все три офицера экспедиции. Им предстояло начать своё дальнее путешествие прямо от стен своего Альма-матер[28][22]. В Петербурге незавершённые судовые работы, проводившиеся на «Заре» по дороге из Кристиании, продолжались[4].
В январе в норвежский порт Ларвик отправился Коломейцев — для наблюдения за переоборудованием помещений и рангоута «Зари»[4]. Примерно 10 апреля, когда собралась вся команда, Колчак и Матисен с нижними чинами отправились по Финляндской железной дороге через Гангсуд в Стокгольм, затем через Кристианию в норвежский городок Ларвик, где на эллинге известного судостроителя Колина Арчера проходила переоборудование «Заря». В течение трёх недель судно было проконопачено и покрыто тиром. По выходе из дока была обнаружена небольшая течь. Этому обстоятельству не придали значения, связав его с только что проведённым проконопачиванием. Из Ларвика «Заря» проследовала в Кристианию, где взяла на борт уголь и заказанное научное снаряжение. По совету Толля Колчак разыскал здесь Нансена, съездил в его научную лабораторию и изучил нансеновские методы гидрологических исследований, ознакомился с новейшими океанографическими приборами профессора Хирта[4]. Нансен, в свою очередь, побывал на «Заре». В начале мая 1900 года лейтенант флота Н. Н. Коломейцев и лейтенант флота А. В. Колчак привели шхуну из Бергена в Санкт-Петербург, забрав по пути из Мемеля начальника экспедиции барона Э. В. Толля. Пришвартовались на Неве — близ Николаевского моста — напротив здания Морского корпуса, выпускниками которого были все три офицера экспедиции. Им предстояло начать своё дальнее путешествие прямо от стен своего Альма-матер[28][22]. В Петербурге незавершённые судовые работы, проводившиеся на «Заре» по дороге из Кристиании, продолжались[4].
 Перед самым началом экспедиции Толль получил от Нансена пакет с документацией и материалами по сибирской Арктике: координаты отдельных островов, рукой Нансена сделанный набросок бухты Колина Арчера, где скандинав советовал Толлю перезимовать, рекомендации разузнать расположение долин рек северо-восточной части Таймыра и наличие их следов на морском дне, что могло объяснить происхождение огромного сибирского подводного плато-шельфа. Также Нансен рекомендовал изучить встречающееся только в Северном Ледовитом океане[29] явление «мёртвой воды», когда вслед за кораблём над тяжёлым слоем солёной воды образуется затрудняющая движение волна опреснённой воды. Вот эту «мёртвую воду» и предстояло изучать лейтенанту Колчаку. Материалы, касающиеся этого интересовавшего Нансена вопроса, Толль сразу передал гидрографу экспедиции, чтобы тот подумал над ними и взял в экспедицию все необходимые для соответствующих исследований приборы[30].
Перед самым началом экспедиции Толль получил от Нансена пакет с документацией и материалами по сибирской Арктике: координаты отдельных островов, рукой Нансена сделанный набросок бухты Колина Арчера, где скандинав советовал Толлю перезимовать, рекомендации разузнать расположение долин рек северо-восточной части Таймыра и наличие их следов на морском дне, что могло объяснить происхождение огромного сибирского подводного плато-шельфа. Также Нансен рекомендовал изучить встречающееся только в Северном Ледовитом океане[29] явление «мёртвой воды», когда вслед за кораблём над тяжёлым слоем солёной воды образуется затрудняющая движение волна опреснённой воды. Вот эту «мёртвую воду» и предстояло изучать лейтенанту Колчаку. Материалы, касающиеся этого интересовавшего Нансена вопроса, Толль сразу передал гидрографу экспедиции, чтобы тот подумал над ними и взял в экспедицию все необходимые для соответствующих исследований приборы[30].
Каждый день к судну подвозили различные грузы, которые аккуратно размещались на борту: приборы, инструменты, аппаратура, биологические сети, тралы, батометры, морские карты, пособия для плавания, продовольствие и т. д. Но главным грузом, от которого зависела экспедиция во всём (дальность плавания, обогрев, приготовление пищи), было топливо — уголь. Ответственным за поставку и приёмку грузов был А. В. Колчак[31].
29 мая готовящуюся к отправлению шхуну посетил Николай II[28]. Этот визит так описал командир судна:
29 мая мы были осчастливлены Высочайшим посещением Государя Императора. Его величество подробно осматривал «Зарю» и в конце обратился к начальнику экспедиции барону Толлю с милостивым вопросом, не нужно ли чего-нибудь для экспедиции. А нужда была обстоятельная. Нам не хватало угля. Вследствие монаршей милости уголь нам отпущен из складов морского ведомства, так же как и много материалов, которых нельзя было достать в продаже. Морское ведомство открыло нам свои магазины, чем мы и воспользовались[32].
Через несколько дней на судне побывал и покровитель экспедиции — президент Академии наук великий князь Константин Константинович. Перед самым отплытием в Академии наук состоялось заседание под его председательством, на котором присутствовали Толль, Коломейцев и Колчак[33].
Ход экспедиции
Первая навигация
 8 июня 1900 года путешественники отчалили от пристани на Неве. Командир шхуны Коломейцев под восторженные крики провожавших (в основном родных полярников и представителей научной общественности[34]) и звуки оркестров провожающих «Зарю» судов искусно прошёл мимо множества других кораблей, лодок, вельботов, не прибегая к помощи буксира[35]. Судно взяло курс на Кронштадт, где экспедицию встречал главный командир порта и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров, пригласивший Толля на обед. Макаров в дружеской беседе поделился с Толлем своим опытом и дал ряд ценных советов. «Кронштадтский вестник» позже писал, что С. О. Макаров, в числе прочего, заметил, что из-за своего мягкого характера Толль окажется в походе «в качестве буфера между офицерами, учёными и командой»[35]. Затем Макаров с супругой посетили «Зарю» и на ней проводили экспедицию до выхода на рейд[36]. В Кронштадте на борт был догружён уголь высшего качества, хронометры и взрывчатые вещества[35]; для команды были закуплены книги по русской литературе, театральные пьесы[37].
8 июня 1900 года путешественники отчалили от пристани на Неве. Командир шхуны Коломейцев под восторженные крики провожавших (в основном родных полярников и представителей научной общественности[34]) и звуки оркестров провожающих «Зарю» судов искусно прошёл мимо множества других кораблей, лодок, вельботов, не прибегая к помощи буксира[35]. Судно взяло курс на Кронштадт, где экспедицию встречал главный командир порта и военный губернатор города адмирал С. О. Макаров, пригласивший Толля на обед. Макаров в дружеской беседе поделился с Толлем своим опытом и дал ряд ценных советов. «Кронштадтский вестник» позже писал, что С. О. Макаров, в числе прочего, заметил, что из-за своего мягкого характера Толль окажется в походе «в качестве буфера между офицерами, учёными и командой»[35]. Затем Макаров с супругой посетили «Зарю» и на ней проводили экспедицию до выхода на рейд[36]. В Кронштадте на борт был догружён уголь высшего качества, хронометры и взрывчатые вещества[35]; для команды были закуплены книги по русской литературе, театральные пьесы[37].
Первая небольшая поломка случилась ещё в водах Финского залива. Её исправлением занялись в Ревеле. Здесь же Толль сошёл с судна, переправился через залив и поездом отправился в Кристианию, где решил ещё раз посоветоваться с Нансеном. Далее руководитель экспедиции выехал в Берген, куда уже подошла «Заря», и вновь взошёл на борт «Зари». Отсюда и до выхода из норвежских шхер близ Тромсё судно вёл специально нанятый лоцман. Здесь на борт догружено было доставленное от Нансена гидрологическое и гидрохимическое оборудование, приборы для измерения направления и скорости течения, Батометры Тимченко, глубоководные термометры, а также 1500 пудов сушёной рыбы для собак и 50 т угля[38]. В Тромсё около недели было потеряно в связи с ожиданием запаздывавших из Англии угольных брикетов. За это время один из матросов — Малыгин — на берегу устроил пьяный дебош и оказался в полицейском участке. Матроса решили списать на берег в первом же русском порту. Другой матрос Алексей Семяшкин заразился в Норвегии венерическим заболеванием и также, согласно заключению доктора Вальтера, должен был быть списан на берег[39].
 10 июля шхуна прошла мимо мыса Нордкап и оказалась в открытых арктических водах. 11 июля путешественники вошли в Екатерининскую гавань Кольского залива и встали на рейде Александровска-на-Мурмане для погрузки угля. Экспедицию встречали сотрудники зоологической станции с крупнейшим гидробиологом России Н. М. Книповичем, членом комиссии по организации Русской полярной экспедиции. Учёный передал путешественникам ихтиологическое оборудование и карты глубин ряда морских акваторий[7] и предложил желающим выйти на судне научно-промысловой экспедиции Книповича «Андрей Первозванный» в море для производства гидрологических и зоологических работ, чем и воспользовались Толль, Колчак и Бируля[40]. Во время этой стоянки в связи с поведением на берегу матросов, отмечавших списание двух своих коллег на берег, между Толлем и Коломейцевым произошёл первая крупная стычка: Коломейцев в сердцах заявил Толлю, что в повиновении команду можно удержать лишь при помощи телесных наказаний (уже давно отменённых на флоте) — отношения учёного-гуманиста и строевого офицера не сложились изначально[41]. Они ссорились ещё в Петербурге из-за разграничения обязанностей (Коломейцев пытался получить у президента точную инструкцию о своих полномочиях, но успеха не имел[1]). Непонимание возникло также сразу после постановки вопроса о том, под каким флагом должна идти в поход «Заря»: под гражданским трёхцветным, либо военным Андреевским. Проблема была психологического порядка: Толль не учёл, что офицер, назначенный командиром судна, согласно Морскому уставу, будет считать себя командиром, капитаном, и требовать соответствующего к себе отношения со стороны пассажиров. Толль же видел в судне лишь транспортное средство, а его командир был для начальника экспедиции лишь «разновидностью извозчика», которому полагается везти туда, куда указывает пассажир[42]. При этом «извозчик» запрещал Толлю заходить в рубку, считая, что у того «чёрный глаз» и с судном постоянно что-то случается при его появлении[43]. В результате конфликта Толль заявил о списании Коломейцева с судна, а тот — о своём нежелании дальше работать в экспедиции и передаче своих обязанностей Матисену. Колчак, также относившийся весьма требовательно к команде и редко бывавший довольным её дисциплиной, попытался уговорить противников помириться, однако его усилия себя не оправдали. Тогда лейтенант пошёл к Толлю и попросил списать его на берег вместе с Коломейцевым. Экспедиция не могла продолжаться только с одним офицером, отношение Толля к ультиматуму Колчака осталось неизвестным. К утру следующего дня Вальтер и Зееберг смогли помирить двух руководителей экспедиции, хотя примирение выглядело непрочно в силу слишком большой разницы в характерах «впечатлительного и нервного Толля» и «грубоватого и далёкого от науки Коломейцева». Руководитель экспедиции, в отличие от офицеров, был одинаково ровен как со своими ближайшими коллегами, так и с командой, своим примером старался способствовать согласию между кают-компанией и кубриком[34].
Утром на борт приняли 60 ездовых собак с двумя каюрами — Петром Стрижёвым и Степаном Расторгуевым, взятыми в экспедицию вместо списанных матросов[44]. В обстановке конфликта начальника экспедиции и командира «Зари» проходила вся первая половина экспедиции[1].
10 июля шхуна прошла мимо мыса Нордкап и оказалась в открытых арктических водах. 11 июля путешественники вошли в Екатерининскую гавань Кольского залива и встали на рейде Александровска-на-Мурмане для погрузки угля. Экспедицию встречали сотрудники зоологической станции с крупнейшим гидробиологом России Н. М. Книповичем, членом комиссии по организации Русской полярной экспедиции. Учёный передал путешественникам ихтиологическое оборудование и карты глубин ряда морских акваторий[7] и предложил желающим выйти на судне научно-промысловой экспедиции Книповича «Андрей Первозванный» в море для производства гидрологических и зоологических работ, чем и воспользовались Толль, Колчак и Бируля[40]. Во время этой стоянки в связи с поведением на берегу матросов, отмечавших списание двух своих коллег на берег, между Толлем и Коломейцевым произошёл первая крупная стычка: Коломейцев в сердцах заявил Толлю, что в повиновении команду можно удержать лишь при помощи телесных наказаний (уже давно отменённых на флоте) — отношения учёного-гуманиста и строевого офицера не сложились изначально[41]. Они ссорились ещё в Петербурге из-за разграничения обязанностей (Коломейцев пытался получить у президента точную инструкцию о своих полномочиях, но успеха не имел[1]). Непонимание возникло также сразу после постановки вопроса о том, под каким флагом должна идти в поход «Заря»: под гражданским трёхцветным, либо военным Андреевским. Проблема была психологического порядка: Толль не учёл, что офицер, назначенный командиром судна, согласно Морскому уставу, будет считать себя командиром, капитаном, и требовать соответствующего к себе отношения со стороны пассажиров. Толль же видел в судне лишь транспортное средство, а его командир был для начальника экспедиции лишь «разновидностью извозчика», которому полагается везти туда, куда указывает пассажир[42]. При этом «извозчик» запрещал Толлю заходить в рубку, считая, что у того «чёрный глаз» и с судном постоянно что-то случается при его появлении[43]. В результате конфликта Толль заявил о списании Коломейцева с судна, а тот — о своём нежелании дальше работать в экспедиции и передаче своих обязанностей Матисену. Колчак, также относившийся весьма требовательно к команде и редко бывавший довольным её дисциплиной, попытался уговорить противников помириться, однако его усилия себя не оправдали. Тогда лейтенант пошёл к Толлю и попросил списать его на берег вместе с Коломейцевым. Экспедиция не могла продолжаться только с одним офицером, отношение Толля к ультиматуму Колчака осталось неизвестным. К утру следующего дня Вальтер и Зееберг смогли помирить двух руководителей экспедиции, хотя примирение выглядело непрочно в силу слишком большой разницы в характерах «впечатлительного и нервного Толля» и «грубоватого и далёкого от науки Коломейцева». Руководитель экспедиции, в отличие от офицеров, был одинаково ровен как со своими ближайшими коллегами, так и с командой, своим примером старался способствовать согласию между кают-компанией и кубриком[34].
Утром на борт приняли 60 ездовых собак с двумя каюрами — Петром Стрижёвым и Степаном Расторгуевым, взятыми в экспедицию вместо списанных матросов[44]. В обстановке конфликта начальника экспедиции и командира «Зари» проходила вся первая половина экспедиции[1].
18 июля после обеда и погрузки 60 ездовых собак, доставленных из Сибири[7], на получившее после погрузки угля осадку в 18½ футов судно, путешественники покинули Екатерининскую гавань, поморское селение на берегу которого послужило точкой старта для их броска к Земле Санникова. На следующий день гидрограф Колчак, выполнявший весь комплекс гидрологических исследований, и зоолог Бируля, занимавшийся биологической программой, провели первую гидролого-зоологическую станцию. В работе Колчаку помогали боцман Бегичев и матрос Железников, тянувшиеся к молодому учёному, проводящему интересные исследования[44]. Несколько дней судно шло при слабом ветре и по спокойному морю. Однако вблизи острова Колгуева началось волнение, палубу вместе с размещёнными на ней собаками часто заливало водой.
 22 июля «Заря» миновала северную оконечность Колгуева. 25 июля подошли к острову Вайгачу. На мысе Гребне была назначена встреча со специально купленной для целей экспедиции поморской шхуной, в задачу которой входило доставить уголь из Архангельска в пролив Югорский Шар в бухту Варнека. Однако шхуна не пришла, получив повреждение при встрече со льдом после прохождения Колгуева, и Толль принял решение её не дожидаться и как можно скорее обогнуть самую северную точку Евразии мыс Челюскин, что по расчётам позволяло экспедиции зазимовать на восточном Таймыре — наименее изученной территории на всём Северном морском пути. В крайнем случае, если до конца навигации мыс пройти не успевали, оставался вариант зимовки на гораздо более изученном западном Таймыре. Однако, как писал впоследствии А. В. Колчак, «этот случай подтверждал известие, полученное в Тромсё от промышленников, что в этом году Ледовитый океан по состоянию льда крайне неблагоприятен для плавания»[45].
22 июля «Заря» миновала северную оконечность Колгуева. 25 июля подошли к острову Вайгачу. На мысе Гребне была назначена встреча со специально купленной для целей экспедиции поморской шхуной, в задачу которой входило доставить уголь из Архангельска в пролив Югорский Шар в бухту Варнека. Однако шхуна не пришла, получив повреждение при встрече со льдом после прохождения Колгуева, и Толль принял решение её не дожидаться и как можно скорее обогнуть самую северную точку Евразии мыс Челюскин, что по расчётам позволяло экспедиции зазимовать на восточном Таймыре — наименее изученной территории на всём Северном морском пути. В крайнем случае, если до конца навигации мыс пройти не успевали, оставался вариант зимовки на гораздо более изученном западном Таймыре. Однако, как писал впоследствии А. В. Колчак, «этот случай подтверждал известие, полученное в Тромсё от промышленников, что в этом году Ледовитый океан по состоянию льда крайне неблагоприятен для плавания»[45].
Пролив Югорский Шар был почти свободен ото льда, что только укрепило Толля в принятом решении, и в этот же день, 25 июля судно вышло в Карское море. Однако уже к вечеру на пути стали всё чаще попадаться поля битого льда. На следующий день корабль попал в ледовую ловушку, выбраться из которой оказалось очень непросто, несмотря на то, что «Заря» показала себя очень прочным и манёвренным судном. Путешественники были вынуждены отклоняться от маршрута всё сильнее на юг, обходить поля льда. Вскоре мореплавателям открылся вид на полуостров Ямал[46].
30 июля увидели на горизонте очертания Кузькина острова. У острова Диксон[47] решили сделать 3-дневную остановку для отдыха и чистки котлов судна. На острове путешественников встретила стая непуганых белых медведей, на которых охотникам удалось поохотиться и сделать впрок запасы провизии[48].
 5 августа мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуострова. Приходилось забираться всё севернее, ледовая обстановка становилась труднее с каждым днём. С приближением к Таймыру плыть в открытом море стало невозможно. Борьба со льдами приняла изнурительный характер. Двигаться удавалось исключительно по шхерам, однако плавание по неглубоким и совершенно неисследованным проливам среди шхер Минина было ещё труднее: несколько раз «Заря» садилась на мель или оказывалась запертой в бухте или фьорде. Был момент, когда собрались уже останавливаться на зимовку, простояв 19 дней кряду в заливе Миддендорфа, который первоначально Толлем был принят за Таймырский пролив. Путешественники могли наблюдать, как пустеет вдоль их пути тундра. В ночь с 3 на 4 сентября команда «Зари» впервые наблюдала северное сияние. Вскоре моряки заметили впереди огонь и решили, что это «Ермак» пробился напролом к Северному полюсу, согласно известной лекции и призыву адмирала Макарова. Приглядевшись сквозь туман к далёкому пурпурному огоньку, Зееберг понял, что вахтенный увидел Венеру[49]. Но и вырвавшись из ледового плена залива Миддендорфа, далеко путешественники продвинуться не смогли: после прохода через названный Толлем именем Фрама пролив между островом Нансена и полуостровом Таймыр, выяснилось, что в Таймырском проливе лёд не взломан[47]. «Заря» упёрлась в перемычку из сплошного льда в том же самом месте, где в 1893 году был остановлен льдами «Фрам»[50]. В течение сентября Колчак несколько раз совершал поездки на катере к ледяному барьеру, осматривал и изучал лёд, но никаких признаков какой-либо возможности скорого продолжения движения дальше не появлялось. Первая часть экспедиции подошла к концу[51].
5 августа мореплаватели взяли курс в направлении Таймырского полуострова. Приходилось забираться всё севернее, ледовая обстановка становилась труднее с каждым днём. С приближением к Таймыру плыть в открытом море стало невозможно. Борьба со льдами приняла изнурительный характер. Двигаться удавалось исключительно по шхерам, однако плавание по неглубоким и совершенно неисследованным проливам среди шхер Минина было ещё труднее: несколько раз «Заря» садилась на мель или оказывалась запертой в бухте или фьорде. Был момент, когда собрались уже останавливаться на зимовку, простояв 19 дней кряду в заливе Миддендорфа, который первоначально Толлем был принят за Таймырский пролив. Путешественники могли наблюдать, как пустеет вдоль их пути тундра. В ночь с 3 на 4 сентября команда «Зари» впервые наблюдала северное сияние. Вскоре моряки заметили впереди огонь и решили, что это «Ермак» пробился напролом к Северному полюсу, согласно известной лекции и призыву адмирала Макарова. Приглядевшись сквозь туман к далёкому пурпурному огоньку, Зееберг понял, что вахтенный увидел Венеру[49]. Но и вырвавшись из ледового плена залива Миддендорфа, далеко путешественники продвинуться не смогли: после прохода через названный Толлем именем Фрама пролив между островом Нансена и полуостровом Таймыр, выяснилось, что в Таймырском проливе лёд не взломан[47]. «Заря» упёрлась в перемычку из сплошного льда в том же самом месте, где в 1893 году был остановлен льдами «Фрам»[50]. В течение сентября Колчак несколько раз совершал поездки на катере к ледяному барьеру, осматривал и изучал лёд, но никаких признаков какой-либо возможности скорого продолжения движения дальше не появлялось. Первая часть экспедиции подошла к концу[51].
Зимовка на Таймыре
22 сентября 1900 года экспедиция остановилась на зимовку в бухте Колина Арчера близ острова Норденшельда в Таймырской губе[52], где и простояла до 12 августа 1901 года. Начало зимовки отметили пирушкой: в кают-компании пили шампанское и коньяк, команда наслаждалась пивом[53].
 Обосновавшаяся на Таймыре экспедиция была полностью отрезана от цивилизации. Вскоре «Заря» совершенно вмёрзла в лёд. Однако участники экспедиции продолжали начатую в пути исследовательскую работу. На берегу была оборудована метеорологическая станция, потолком и стенами для которой стали служить паруса. Станцию с судном соединили телефонным проводом. Было организовано и круглосуточное дежурство, показания приборов дежурный снимал раз в час. Согласно строгому распорядку около 7 часов утра он будил Матисена, проводившего метеорологические наблюдения, а в 8 утра передавал дежурство своему сменщику. В кают-компании на завтрак собирался научный состав экспедиции, с некоторым опозданием, но не позднее 9 утра появлялись Толль и Колчак. После завтрака Зееберг шёл на небольшой остров вблизи судна — остров Наблюдений — где строился снежный домик для наблюдателей со стенами и потолком из парусины с керосиновой печью, поддерживавшей температура от 0 до + 3 градусов, и устанавливались магнитные инструменты. Вскоре он начал работать с унифуляром. Метеорологическими наблюдениями на острове Наблюдений занимался с 9 ноября 1900 г. по 17 апреля 1901 г. лейтенант Матисен. Гидрологическими исследованиями полностью заведовал лейтенант Колчак, установивший на левом борту шхуны приливомер для изучения уровня моря. Колчак контролировал ежечасный отсчёт прилива[54], также занимался гидрохимическими исследованиями, топографическими работами, проводил маршрутную съёмку и барометрическое нивелирование, а во время ночей с ясным небом определял широты и долготы различных географических объектов[55]. На долю Колчака вообще выпало немало научной работы: помимо несения ходовых вахт и описанных выше работ, лейтенант ещё занимался промерами глубин, брал пробы воды, осуществлял магнитные наблюдения, составлял подробное описание берегов и островов Ледовитого океана, изучал состояние и развитие морских льдов. Во время зимовки на Таймыре Колчак также составил карту рейда «Зари» и сделал топосъёмку вокруг места стоянки судна, продолжив проведение научных наблюдений на берегу. Также лейтенант, отличавшийся глубокой и искренней религиозностью, выступал в роли священника в проводившихся по праздникам богослужениях, состоявших из чтения и пения молитв[56].
Обосновавшаяся на Таймыре экспедиция была полностью отрезана от цивилизации. Вскоре «Заря» совершенно вмёрзла в лёд. Однако участники экспедиции продолжали начатую в пути исследовательскую работу. На берегу была оборудована метеорологическая станция, потолком и стенами для которой стали служить паруса. Станцию с судном соединили телефонным проводом. Было организовано и круглосуточное дежурство, показания приборов дежурный снимал раз в час. Согласно строгому распорядку около 7 часов утра он будил Матисена, проводившего метеорологические наблюдения, а в 8 утра передавал дежурство своему сменщику. В кают-компании на завтрак собирался научный состав экспедиции, с некоторым опозданием, но не позднее 9 утра появлялись Толль и Колчак. После завтрака Зееберг шёл на небольшой остров вблизи судна — остров Наблюдений — где строился снежный домик для наблюдателей со стенами и потолком из парусины с керосиновой печью, поддерживавшей температура от 0 до + 3 градусов, и устанавливались магнитные инструменты. Вскоре он начал работать с унифуляром. Метеорологическими наблюдениями на острове Наблюдений занимался с 9 ноября 1900 г. по 17 апреля 1901 г. лейтенант Матисен. Гидрологическими исследованиями полностью заведовал лейтенант Колчак, установивший на левом борту шхуны приливомер для изучения уровня моря. Колчак контролировал ежечасный отсчёт прилива[54], также занимался гидрохимическими исследованиями, топографическими работами, проводил маршрутную съёмку и барометрическое нивелирование, а во время ночей с ясным небом определял широты и долготы различных географических объектов[55]. На долю Колчака вообще выпало немало научной работы: помимо несения ходовых вахт и описанных выше работ, лейтенант ещё занимался промерами глубин, брал пробы воды, осуществлял магнитные наблюдения, составлял подробное описание берегов и островов Ледовитого океана, изучал состояние и развитие морских льдов. Во время зимовки на Таймыре Колчак также составил карту рейда «Зари» и сделал топосъёмку вокруг места стоянки судна, продолжив проведение научных наблюдений на берегу. Также лейтенант, отличавшийся глубокой и искренней религиозностью, выступал в роли священника в проводившихся по праздникам богослужениях, состоявших из чтения и пения молитв[56].
Арктическая зимовка — очень трудный период в любой полярной экспедиции: походники раздражены, у всех нервы на пределе, сказываются световой, витаминный, «информационный» голод[57]. Однако, благодаря командиру судна лейтенанту Коломейцеву, жизнь на судне была подчинена строгому распорядку. Начальник экспедиции стремился подстроить этот график под цели научных исследований. В результате конфликт начальника экспедиции и командира судна обострился до крайности, а Колчак — понимавший с одной стороны правоту командира корабля, а с другой, что целью похода является дело науки, и строевой уклад не может быть при таких условиях самоцелью — оказался между двух огней. Возможно, отмечает историк Черкашин, лейтенант Коломейцев именно поэтому с горечью отмечал в своём дневнике, что Колчак «на всякую работу, не имеющую прямого отношения к судну, смотрит, как на неизбежное зло, и не только не желает содействовать ей, но даже относится к ней с какой-то враждебностью». А вот Толль всё больше хвалил Колчака, и отмечал: «Колчак не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии… Научная работа выполнялась им с большой энергией, несмотря на трудность соединить обязанности морского офицера с деятельностью учёного». Лейтенант Матисен при этом смотрел на барона Толля также, как и командир шхуны Коломейцев, но не высказывался по этому поводу вслух[57].
Норденшёльду и Нансену в своё время удавалось миновать мыс Челюскин до зимовки. Русская полярная экспедиция барона Толля в 1900 г. встретила гораздо большие препятствия: в плане распространения льдов этот год оказался крайне неблагоприятным, и «Заре» пришлось идти вплотную к совершенно необследованным берегам западного Таймыра, почему к проблемам с массами льда добавлялись затруднения в связи с полнейшим отсутствием гидрографических исследований данной местности[50]. Толлю, в отличие от его предшественников, не удалось выполнить свой план доплыть в первую же навигацию до малоисследованной восточной части полуострова Таймыра, что спутало весь ход экспедиции и повлекло в конечном счёте её трагический исход[1]. Русская экспедиция попала в ситуацию, когда юго-западные ветры угоняли далеко в океан тёплые воды больших сибирских рек, при этом из океана к сибирским берегам подходили многолетние льды. Чтобы не терять времени, Толль задумал добраться на восток Таймыра через тундру, для чего надо было пересечь мыс Челюскин. Руководитель экспедиции назначил этот поход на весну 1901 года. Задача осложнялась отсутствием расположенного на этом пути склада, а без него добраться до восточного берега на собаках было невозможно. Такой склад решено было заложить, не дожидаясь наступления полярной ночи. В поездку на двух тяжело нагруженных нартах собрались четверо: Толль с каюром Расторгуевым и Колчак с кочегаром Носовым[53]. Как пишет Н. А. Черкашин, в эти изнурительные пешие и санные походы барон Толль отправлялся не только с целью сбора геологических образцов, но и чтобы не оставаться на шхуне в гостях у её командира Коломейцева[58].
 10 октября в 9 ч 30 мин утра, погрузив на сани 864 кг груза, Толль со товарищи отправились в первое путешествие к фьорду Гафнера[59]. Ездоки двигались лишь в дневное время по 3—4 часа в сутки. Морозы стояли крепкие, ниже 30 градусов. В палатке было −20, ночевали в спальных мешках.
10 октября в 9 ч 30 мин утра, погрузив на сани 864 кг груза, Толль со товарищи отправились в первое путешествие к фьорду Гафнера[59]. Ездоки двигались лишь в дневное время по 3—4 часа в сутки. Морозы стояли крепкие, ниже 30 градусов. В палатке было −20, ночевали в спальных мешках.
Судя по времени пребывания в пути, мы проехали на восток 28 км. Таким образом, к моему немалому удивлению, оказалось, что ширину Таймырского залива нужно сократить вдвое по сравнению с принятой Нансеном; следовательно, он [залив] имеет форму фьорда
Через 9 дней путешественники вернулись на базу. Колчаку, производившему по дороге астрономические уточнения ряда точек, удалось внести существенные уточнения и исправления в старую карту, сделанную по итогам экспедиции Нансена 1893—1896 годов. Лейтенант определил истинные размеры и форму Таймырского залива — после его описаний и съёмок береговая линия западного Таймыра на картах приобрела совершенно иные очертания[54].
На следующий день от возвращения Толля и Колчака началась полярная ночь, теперь светало только на пару часов, не было видно ни Солнца, ни теней. Ноябрь и декабрь 1901 года запомнились зимовщиками постоянной сильной пургой, 16 декабря в пурге заблудился Зееберг, который вышел из ледяного домика и не смог найти в условиях ветра, дувшего со скоростью 12—14 м/с при —30 градусах, дорогу в сторожку. Полностью потерявшего ориентировку астронома спасло, что его крики услышал доктор Вальтер, и дал из сторожки свет керосиновым прожектором[61]. Температура снаружи снежной лаборатории обычно была ниже 30 градусов, в лаборатории поддерживался режим от −2 до +3 °C. В кают-компании обычной температурой стали +8 градусов[53].
 Большинство членов экспедиции коротали время за чтением литературы о полярных станциях. Иногда после вечернего чая в кают-компании заводили новинку техники, привезённую Толлем из Ревеля, фонограф, воспроизводивший романсы[62]. Старший машинист Огрин развлекал членов команды пением и игрой на цитре и гармонике[63]. Наступившее Рождество внесло оживление в однообразную жизнь полярников. В Крещенский сочельник был открыт ящик с подарками президента Императорской академии наук с надписью «Вскрыть на Рождество 1901 г.», в котором находилось несколько бутылок рома, вина, коньяка, подписанные пакеты с рождественскими сувенирами для каждого из членов экспедиции[63]. В феврале 1901 года лейтенант Колчак сделал для всех доклад про Великую северную экспедицию, а Бируля рассказывал про природу стран, находящихся близ Южного полюса. Охотники не расставались с надеждой выследить дичь. Несмотря на хорошее обеспечение экспедиции продовольствием (но недостаточно богатое неизвестными ещё в то время науке витаминами[64]), во время зимовки у четырёх человек были выявлены признаки цинги, однако оперативные меры доктора Вальтера помогли победить болезнь[65].
Большинство членов экспедиции коротали время за чтением литературы о полярных станциях. Иногда после вечернего чая в кают-компании заводили новинку техники, привезённую Толлем из Ревеля, фонограф, воспроизводивший романсы[62]. Старший машинист Огрин развлекал членов команды пением и игрой на цитре и гармонике[63]. Наступившее Рождество внесло оживление в однообразную жизнь полярников. В Крещенский сочельник был открыт ящик с подарками президента Императорской академии наук с надписью «Вскрыть на Рождество 1901 г.», в котором находилось несколько бутылок рома, вина, коньяка, подписанные пакеты с рождественскими сувенирами для каждого из членов экспедиции[63]. В феврале 1901 года лейтенант Колчак сделал для всех доклад про Великую северную экспедицию, а Бируля рассказывал про природу стран, находящихся близ Южного полюса. Охотники не расставались с надеждой выследить дичь. Несмотря на хорошее обеспечение экспедиции продовольствием (но недостаточно богатое неизвестными ещё в то время науке витаминами[64]), во время зимовки у четырёх человек были выявлены признаки цинги, однако оперативные меры доктора Вальтера помогли победить болезнь[65].
 Бесконтрольная власть начальника экспедиции едва не погубила Коломейцева и казака Расторгуева, вскоре после праздников начавших приготовления к походу для организации угольного склада и доставки почты к ближайшему населённому пункту. Задание это было только предлогом для списания с судна его командира[64]. Дело в том, что во время зимовки в отношениях между Толлем и Коломейцевым возникли новые проблемы: командир судна заявил начальнику экспедиции, что он должен постоянно располагать на судне обоими офицерами, потребовав отмены дежурств учёных по судну как противоречащих Морскому уставу. Уставу противоречил и тот факт, что матросы вместо обращения «Ваше Высокоблагородие» стали звать учёных просто по имени и отчеству. Это было важно Толлю для сплочения делающего одно дело коллектива, однако Коломейцев примириться с таким положением дел не мог, и его чувство неприязни к Толлю росло с каждым днём. Толль же не мог поддержать позицию Коломейцева в связи с отменой дежурств учёных по судну как ставящую под угрозу выполнение задач экспедиции. Дальнейшая совместная работа двух начальников стала невозможной[43][66]. Три раза посылал Коломейцева с Расторгуевым Толль в сильную пургу и мороз, при нехватке провизии людям и собакам, на поиски устья Таймыры, а также в порт Диксон и Гольчиху, где были жители. Коломейцев и Расторгуев, будучи людьми военными, не смели нарушить приказ Толля. В первый раз Коломейцев с Расторгуевым отправились в путь 21 января, когда Толль решил отправить экспедицию на материк для организации там угольных баз на острове Котельном и в бухте Диксона. Путникам предстояло проделать путь в 550 километров, которые они должны были пройти по пути, некогда пройденному Лаптевым и Миддендорфом — добраться до устья Таймыры, затем идти вверх по течению через Таймырское озеро, по рекам Россохе и Блудной на Хатангу и далее к Дудинке до станка Рыбное.
Бесконтрольная власть начальника экспедиции едва не погубила Коломейцева и казака Расторгуева, вскоре после праздников начавших приготовления к походу для организации угольного склада и доставки почты к ближайшему населённому пункту. Задание это было только предлогом для списания с судна его командира[64]. Дело в том, что во время зимовки в отношениях между Толлем и Коломейцевым возникли новые проблемы: командир судна заявил начальнику экспедиции, что он должен постоянно располагать на судне обоими офицерами, потребовав отмены дежурств учёных по судну как противоречащих Морскому уставу. Уставу противоречил и тот факт, что матросы вместо обращения «Ваше Высокоблагородие» стали звать учёных просто по имени и отчеству. Это было важно Толлю для сплочения делающего одно дело коллектива, однако Коломейцев примириться с таким положением дел не мог, и его чувство неприязни к Толлю росло с каждым днём. Толль же не мог поддержать позицию Коломейцева в связи с отменой дежурств учёных по судну как ставящую под угрозу выполнение задач экспедиции. Дальнейшая совместная работа двух начальников стала невозможной[43][66]. Три раза посылал Коломейцева с Расторгуевым Толль в сильную пургу и мороз, при нехватке провизии людям и собакам, на поиски устья Таймыры, а также в порт Диксон и Гольчиху, где были жители. Коломейцев и Расторгуев, будучи людьми военными, не смели нарушить приказ Толля. В первый раз Коломейцев с Расторгуевым отправились в путь 21 января, когда Толль решил отправить экспедицию на материк для организации там угольных баз на острове Котельном и в бухте Диксона. Путникам предстояло проделать путь в 550 километров, которые они должны были пройти по пути, некогда пройденному Лаптевым и Миддендорфом — добраться до устья Таймыры, затем идти вверх по течению через Таймырское озеро, по рекам Россохе и Блудной на Хатангу и далее к Дудинке до станка Рыбное.
 Из-за оплошности — забыв примусную иголку, отсутствие которой лишало путников горячей пищи в пути и, соответственно, возможности продолжать путь — 8 февраля походники, не найдя устья Таймыры[66], вернулись на шхуну. По рассказу Бегичева, Толль, узнав, что вернулся Коломейцев, был сильно недоволен этим событием и сразу ушёл к себе в каюту[67]. Вторая отправка, по мнению Ю. В. Чайковского, была уже сродни преступлению: Толль на этот раз точно знал, что прежняя карта неверна, и всё равно сознательно посылал людей в никуда[1]. Переждав пургу, вновь тронулись в путь 20 февраля, но вернулись, к неудовольствию Толля, уже 18 марта. Путники едва не погибли от нехватки еды и собачьего корма, так как реки Таймыры, вдоль русла которой им следовало двигаться, не оказалось в том месте, где она была нанесена на карту. 5 апреля, отпраздновав Пасху на «Заре», Коломейцев и Расторгуев выступили в третий раз, на этот раз путём более длинным, но который Коломейцев считал более надёжным — на запад, к Гольчихе — несмотря на недовольство изменением маршрута со стороны Толля. Расторгуев обещал начальнику экспедиции летом присоединиться к партии Воллосовича, после чего вернуться на «Зарю».
Из-за оплошности — забыв примусную иголку, отсутствие которой лишало путников горячей пищи в пути и, соответственно, возможности продолжать путь — 8 февраля походники, не найдя устья Таймыры[66], вернулись на шхуну. По рассказу Бегичева, Толль, узнав, что вернулся Коломейцев, был сильно недоволен этим событием и сразу ушёл к себе в каюту[67]. Вторая отправка, по мнению Ю. В. Чайковского, была уже сродни преступлению: Толль на этот раз точно знал, что прежняя карта неверна, и всё равно сознательно посылал людей в никуда[1]. Переждав пургу, вновь тронулись в путь 20 февраля, но вернулись, к неудовольствию Толля, уже 18 марта. Путники едва не погибли от нехватки еды и собачьего корма, так как реки Таймыры, вдоль русла которой им следовало двигаться, не оказалось в том месте, где она была нанесена на карту. 5 апреля, отпраздновав Пасху на «Заре», Коломейцев и Расторгуев выступили в третий раз, на этот раз путём более длинным, но который Коломейцев считал более надёжным — на запад, к Гольчихе — несмотря на недовольство изменением маршрута со стороны Толля. Расторгуев обещал начальнику экспедиции летом присоединиться к партии Воллосовича, после чего вернуться на «Зарю».
 Впоследствии это обещание останется неисполненным: Расторгуев отправился вместо этого в другую экспедицию — с американцами. «Неужели мне придётся отправлять почту ещё в четвёртый раз?» — задавался вопросом Толль в своём дневнике[67]. Однако Коломейцев больше не вернулся — с третьей попытки, пройдя 768 вёрст, через 40 суток, он и Расторгуев достигли Дудинки и прибыли 14 мая 1901 года в Гольчиху. Коломейцев оказался прав, Толль ошибался относительно выбора оптимального маршрута, Коломейцев по своему маршруту двигался со среднесуточной скоростью 19 км в сутки, в то время как во время первых двух походах по маршруту Толля получалось проходить лишь от 3 до 8 км в сутки. Спустя 18 лет, в 1919 году, норвежцы из экспедиции Амундсена не смогли повторить то, что смог сделать Коломейцев[69]. Эта его поездка имела большое значение и с чисто исследовательской точки зрения: по пути велась маршрутная съёмка, позволившая существенно исправить карту Таймырского полуострова[70]. До мыса Стерлегова Коломейцева провожали Бялыницкий-Бируля и Стрижёв, выполнившие около 500 км маршрутной съёмки и определившие 9 астрономических пунктов, и вернувшиеся через 2 месяца на базу также с богатым научным материалом, собрав большую коллекцию позвоночных. Наблюдения Бирули за жизнью белых медведей и полярных птиц вошли в его рукопись геоморфологического характера и были представлены в Полярную комиссию Императорской Академии наук[66][71]. Устья Таймыры Коломейцев в темноте полярной ночи не нашёл, однако в этом походе им была открыта другая река, названная его именем[1].
Впоследствии это обещание останется неисполненным: Расторгуев отправился вместо этого в другую экспедицию — с американцами. «Неужели мне придётся отправлять почту ещё в четвёртый раз?» — задавался вопросом Толль в своём дневнике[67]. Однако Коломейцев больше не вернулся — с третьей попытки, пройдя 768 вёрст, через 40 суток, он и Расторгуев достигли Дудинки и прибыли 14 мая 1901 года в Гольчиху. Коломейцев оказался прав, Толль ошибался относительно выбора оптимального маршрута, Коломейцев по своему маршруту двигался со среднесуточной скоростью 19 км в сутки, в то время как во время первых двух походах по маршруту Толля получалось проходить лишь от 3 до 8 км в сутки. Спустя 18 лет, в 1919 году, норвежцы из экспедиции Амундсена не смогли повторить то, что смог сделать Коломейцев[69]. Эта его поездка имела большое значение и с чисто исследовательской точки зрения: по пути велась маршрутная съёмка, позволившая существенно исправить карту Таймырского полуострова[70]. До мыса Стерлегова Коломейцева провожали Бялыницкий-Бируля и Стрижёв, выполнившие около 500 км маршрутной съёмки и определившие 9 астрономических пунктов, и вернувшиеся через 2 месяца на базу также с богатым научным материалом, собрав большую коллекцию позвоночных. Наблюдения Бирули за жизнью белых медведей и полярных птиц вошли в его рукопись геоморфологического характера и были представлены в Полярную комиссию Императорской Академии наук[66][71]. Устья Таймыры Коломейцев в темноте полярной ночи не нашёл, однако в этом походе им была открыта другая река, названная его именем[1].
Удачная организация этих станций зависит от исполнительности того лица, по возможности моряка, которому будет дано это поручение, так как письменные заказы, отправленные отсюда на устье Енисея в Дудино и в г. Якутск, едва ли достигли бы цели. Я не знаю более подходящего для выполнения этой задачи лица, как лейтенант Коломейцев. Он весьма подходящее лицо, между прочим и потому, что он лично знаком с местными условиями на Енисее.
В конце осени зимовщики встретили на одном из островов стадо оленей. Толль помнил и про того оленя с куропаткой, которых они с Колчаком видели около залива Гафнера. Вопрос, почему олени не откочевали на юг, вероятным вариантом разрешения которого было предположение, что они как раз и перебираются с более северной территории, не давал покоя руководителю экспедиции. К тому же в книге Норденшёльда «Плавание на „Веге“» он отметил поразительное замечание о том, что у мыса Челюскин были замечены целые стаи птиц, летевших на юг с какой-то неизвестной северной земли[70].
Неоткрытая Земля Императора Николая II
23 февраля 1901 года лейтенант Матисен и каюр Стрижёв были отправлены в поездку для разведки северных территорий. Эта группа пересекла архипелаг Норденшёльда с юга на север и, дойдя до 77-го градуса, повернула на запад, а затем пошла назад, так как стал подходить к концу запас собачьего корма, расходуемый сверх меры желавшим поскорее вернуться на базу каюром. Матисен был очень близок к открытию острова Цесаревича Алексея, нужно было только пройти 150 километров к северо-востоку от самой северной точки его путешествия. А в 225 километрах севернее этой точки ждала своего открывателя земля, сегодня известная под названием «Северная Земля»[73].
Толль был недоволен действиями Матисена, и через несколько дней тот был отправлен в новое путешествие. Его напарником на этот раз был Носов. Матисен в результате поездки отметил на карте два новых островка архипелага Норденшёльда и, встретив на пути торосы, вновь повернул назад. Если бы вместо Матисена в эти экспедиции ходили столь упорные и настойчивые люди, как Толль и Колчак, результаты могли бы быть кардинально иными. Несмотря на свои наблюдения за животными, Толль не стал менять планы и настойчиво разыскивать землю севернее архипелага Норденшёльда — погнавшись за призраком Земли Санникова, экспедиция Толля в 1901 году не использовала реальный шанс сделать настоящее большое географическое открытие[73].
4 марта, в день рождения Толля, Колчак, поздравляя руководителя экспедиции, произнёс тост, в котором желал встретить следующий день рождения на Земле Санникова[74].
Экспедиция к мысу Челюскин
В следующую поездку 6 апреля на мыс Челюскин для съёмок Таймырского полуострова поехали на санях Толль и Колчак. В первые дни в санном походе вместе с учёными участвовали матросы Носов и Железников: первый был каюром у Толля, второй — у Колчака. Из-за нехватки собак все четверо исследователей часто сами впрягались в собачьи упряжки, в остальное время матросы шли справа от нарт, учёные — слева.

Спрашивается, каковы будут результаты всех пережитых трудностей и неимоверных лишений? Пока произведена только съёмка побережья на небольшом протяжении к северо-востоку, причём установлено, что… Таймырская бухта ни в коем случае не фиордообразная. Далее, брошен беглый взгляд в глубь полуострова, на скрытый туманами пустынный ландшафт. О геологии этих мест не удалось составить себе ясного представления. И это немногое стоило нам полных лишений более 40 дней тяжелейшей работы и жизни нескольких собак! Вчера после долгого времени я маленькую стайку из пяти-шести пуночек, пролетавшую в двух километрах отсюда в глубь страны. В остальном всё мёртво.17 мая путники достигли мыса Миддендорфа и двинулись к Таймырскому проливу. Однако Толль и Колчак из-за тумана умудрились не заметить и проскочить свой склад[73]. Поняли это Толль с Колчаком лишь уйдя от него на целых 5 км. До «Зари» оставалось при этом идти ещё 35 км. Решили не возвращаться, последние 10 км были самыми трудными, вместо еды выкуривали по трубке. 18 мая в 7 часов утра путники всё-таки дотянули до базы. Поездка Толля и Колчака закончилась через 41 день после их ухода с базы.
 Долго потом Колчак и Толль отсыпались в тепле и отогревались чаем с мадерой из личных запасов барона, который после изматывающего похода приходил в себя целых 20 дней. Придя в себя, учёные занялись научными отчётами, тем более что после обследования восточной части Таймыра они оба убедились в том, что соответствующий картографический материал нуждается в существенной корректировке. Колчак, видя своими глазами несоответствие старых географических карт реальности, сделал вывод о том, что ошибка на картах коренится в определении широты устья реки Таймыры, которая была исходным пунктом Большой Северной экспедиции, описывавшей берега ещё в 1734—1742 годах. В XVIII веке была установлена широта устья реки 75°36’с.ш., а бухта, которую исследовали Толль и Колчак, находилась на 76°17’ с. ш. — разница составляла около 1° или более 76 км[80].
Долго потом Колчак и Толль отсыпались в тепле и отогревались чаем с мадерой из личных запасов барона, который после изматывающего похода приходил в себя целых 20 дней. Придя в себя, учёные занялись научными отчётами, тем более что после обследования восточной части Таймыра они оба убедились в том, что соответствующий картографический материал нуждается в существенной корректировке. Колчак, видя своими глазами несоответствие старых географических карт реальности, сделал вывод о том, что ошибка на картах коренится в определении широты устья реки Таймыры, которая была исходным пунктом Большой Северной экспедиции, описывавшей берега ещё в 1734—1742 годах. В XVIII веке была установлена широта устья реки 75°36’с.ш., а бухта, которую исследовали Толль и Колчак, находилась на 76°17’ с. ш. — разница составляла около 1° или более 76 км[80].
По итогам похода учёными была также уточнена полученная от Нансена карта-набросок окрестностей полуострова Таймыр, выполненная норвежцами по время плавания «Фрама»[75].
Составив кроки будущей Карты Таймырского пролива с частью Берега Лейтенанта Харитона Лаптева, Колчак уже 29 мая с доктором Вальтером и Стрижёвым отправился в поездку к складу, который они с Толлем проскочили на обратном пути. По возвращении со склада Колчак сделал подробную съёмку рейда «Зари», а Бируля — другой части береговой полосы[73]. Колчак «не только лучший офицер, но он также любовно предан своей гидрологии», — отмечал Толль. В 1901 году «за обстоятельное обследование географических объектов и морских вод в районе Карского моря»[81], в благодарность за совместно перенесённые тяготы и риск он увековечил имя А. В. Колчака, назвав его именем один из открытых экспедицией островов в Таймырском заливе между 66—68° в.д. в Таймырском заливе, описанный и положенный гидрографом собственноручно на карту, а также выступ суши (мыс) на полуострове Таймыр[82].
 При этом весьма польщённый этой наградой лейтенант Колчак собственноручно нанёс «свой» остров на карту, назвав его северную оконечность в честь своего друга-поэта мысом Случевского[83]. Во время своих полярных походов он назвал другой остров в Карском море в архипелаге Норденшельда в группе островов Литке на 76°30′ с. ш. 95°27′ в. д. / 76.50° с. ш. 95.45° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=76.50&mlon=95.45&zoom=14 (O)] (Я), а также юго-восточный мыс острова Беннетта именем своей невесты — Софии Фёдоровны Омировой — дожидавшейся его в столице[84] (мыс Софьи сохранил своё название и переименованиям в советское время «по очевидному недосмотру власти»[85] не подвергся[24]). Этот остров был подарен жене А. В. Колчака Русским географическим обществом в 1906 году, когда весь Петербург чествовал Колчака[86].
При этом весьма польщённый этой наградой лейтенант Колчак собственноручно нанёс «свой» остров на карту, назвав его северную оконечность в честь своего друга-поэта мысом Случевского[83]. Во время своих полярных походов он назвал другой остров в Карском море в архипелаге Норденшельда в группе островов Литке на 76°30′ с. ш. 95°27′ в. д. / 76.50° с. ш. 95.45° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=76.50&mlon=95.45&zoom=14 (O)] (Я), а также юго-восточный мыс острова Беннетта именем своей невесты — Софии Фёдоровны Омировой — дожидавшейся его в столице[84] (мыс Софьи сохранил своё название и переименованиям в советское время «по очевидному недосмотру власти»[85] не подвергся[24]). Этот остров был подарен жене А. В. Колчака Русским географическим обществом в 1906 году, когда весь Петербург чествовал Колчака[86].
Следующее приключение Бирули и Колчака на этой зимовке могло окончиться печально. Они с двумя матросами решили спустить драгу в трещину во льду. Внезапно появилась белая медведица с подросшим медвежонком. Только случайно увязавшийся за людьми пёс смог напугать медведей и заставить их нырнуть в трещину. Около 30 минут пёс лаял, не выпуская медведей из воды; медведица схватила его и утащила под лёд, но он смог вынырнуть обратно и продолжал лаять, пока не подоспели бегавшие за ружьями на базу матросы[73].
Очень удачной оказалась поездка Колчака с каюром Егором Чикачёвым на охоту для пополнения запасов экспедиции продовольствием: его добычей стали 5½ оленьих туш, доставленных на базу[87]. До конца зимовки лейтенант Колчак совершит также путешествия к заливу Актиния, на гору Негри, остров Таймыр[88].
В поисках Таймыры
 Тем временем льды начали подтаивать, и «Заря» высвободилась из ледового плена. Пока выход из бухты был всё ещё закрыт, Толль решил разрешить загадку с не обнаруженным при поиске по карте устьем реки Таймыры. В начале августа Толль в компании Зееберга и нескольких матросов отправились в поход на каяке. Эта экскурсия длилась более месяца[77]. Толль обнаружил устье в 100 километрах к северу относительно указанного на карте. В эту поездку удалось раскопать и склад на заливе Гафнера, забрав оттуда часть провианта[73]. Следующими посетителями этого склада Толля и Колчака стали советские полярники, отыскавшие его спустя 73 года. В 1974 году на Таймырский полуостров была организована научно-исследовательская экспедиция Минпищепрома СССР и «Комсомольской правды». Один из отрядов экспедиции по руководством Ю. И. Хмелёвского целенаправленно искал склад Толля и Колчака на мысе Депо, и ему удалось это сделать. Члены экспедиции привезли на исследование в Москву кубический жестяной ящик, поднятый из вечной мерзлоты, в котором оказалось 6 кг овсяной каши. Проведённые исследования показали, что, несмотря на возраст в 73 года, крупа отлично сохранилась. К находке на Таймыре проявили большой интерес пищевики и специалисты по длительному хранению продуктов. Частично продукты, изготовленные в 1900 году, были вывезены со склада экспедиции Толля, частично оставлены для дальнейшего хранения до 1980, 2000 и 2050 годов. Продолжая эксперимент, невольно начатый Толлем, часть склада оставили на бессрочное хранение. Для целей эксперимента к продуктам начала XX века на глубину 1,5 метра были заложены и образцы продуктов, изготовленных в 1974 году в СССР[89].
Тем временем льды начали подтаивать, и «Заря» высвободилась из ледового плена. Пока выход из бухты был всё ещё закрыт, Толль решил разрешить загадку с не обнаруженным при поиске по карте устьем реки Таймыры. В начале августа Толль в компании Зееберга и нескольких матросов отправились в поход на каяке. Эта экскурсия длилась более месяца[77]. Толль обнаружил устье в 100 километрах к северу относительно указанного на карте. В эту поездку удалось раскопать и склад на заливе Гафнера, забрав оттуда часть провианта[73]. Следующими посетителями этого склада Толля и Колчака стали советские полярники, отыскавшие его спустя 73 года. В 1974 году на Таймырский полуостров была организована научно-исследовательская экспедиция Минпищепрома СССР и «Комсомольской правды». Один из отрядов экспедиции по руководством Ю. И. Хмелёвского целенаправленно искал склад Толля и Колчака на мысе Депо, и ему удалось это сделать. Члены экспедиции привезли на исследование в Москву кубический жестяной ящик, поднятый из вечной мерзлоты, в котором оказалось 6 кг овсяной каши. Проведённые исследования показали, что, несмотря на возраст в 73 года, крупа отлично сохранилась. К находке на Таймыре проявили большой интерес пищевики и специалисты по длительному хранению продуктов. Частично продукты, изготовленные в 1900 году, были вывезены со склада экспедиции Толля, частично оставлены для дальнейшего хранения до 1980, 2000 и 2050 годов. Продолжая эксперимент, невольно начатый Толлем, часть склада оставили на бессрочное хранение. Для целей эксперимента к продуктам начала XX века на глубину 1,5 метра были заложены и образцы продуктов, изготовленных в 1974 году в СССР[89].
10 августа Толль вернулся на «Зарю», а уже через 2 дня началась подвижка льда и шхуну понесло из бухты в открытое море. Опоздай Толль на 2 дня, и ему пришлось бы остаться на берегу[73].
Вторая навигация
На «Заре» с началом движения льдов немедленно были разведены пары, однако отойти от острова Нансена ледовая обстановка дала возможность лишь 17 августа[90]. 19 августа «Заря» пересекла долготу мыса Челюскин. В честь этого события были подняты кормовой флаг и вымпел с Андреевским крестом и литерой «К» под царской короной, личный вымпел президента Академии наук великого князя Константина Константиновича[91]. Лейтенант Колчак, взяв с собой инструмент для определения широты и долготы, прыгнул в байдарку. За ним последовал и Толль, лодку с которым едва не перевернул неожиданно вынырнувший морж. На берегу Колчак сделал измерения, была сделана групповая фотография на фоне сооружённого большого гурия. Этот гурий на северо-западной оконечности мыса Чекина разобрал в 1918 году Амундсен, а в 1972 году восстановили под руководством советского гидрографа В. А. Троицкого[90]. Колчак и Зееберг здесь провели все астрономические, магнитные, гидрологические исследования, осмотрели несколько стамух, изучили ледяной покров близ берега[91]. К полудню десант вернулся на судно и, дав салют в честь С. И. Челюскина, путешественники отправились в плавание. Сделав расчёты, они также определили широту и долготу мыса — он оказался немного восточнее настоящего мыса Челюскин. Новый мыс назвали именем «Зари». В своё время так же промахнулся и Норденшёльд: так появился на картах мыс «Веги» западнее мыса Челюскин. А «Заря» теперь стала четвёртым судном после «Веги» с её вспомогательным кораблём «Лена» и «Фрама» Нансена, обогнувшим самую северную точку Евразии[92].
C выходом в море и уходом Коломейцева теперь все вахты выпадали только на долю двоих человек: Матисена и Колчака, обоим приходилось нелегко. Колчак даже был вынужден существенно сократить научную работу «к самым необходимым и крайне узким размерам»[1][92]. Тем не менее он проводил за время плавания весь комплекс гидрологических и гидрохимических анализов, о которых доложил в своих отчётах[93].
Пройдя мыс Челюскин, «Заря» вышла в неизведанные воды, где ещё никто не плавал: пути экспедиций Норденшёльда и Нансена проходили много южнее. По распоряжению Толля шхуна взяла курс непосредственно к предполагаемому месту нахождения Земли Санникова[94]. Толль пообещал премию первому её увидевшему[88].
Приблизительно на широте 77°20’ — близ острова Котельный — полярникам преградили путь сплошные льды. Так как видимость была нулевой, и поиски «Земли Санникова» в таких условиях теряли смысл, Толль распорядился двигаться к острову Беннетта, где он хотел зазимовать с тем, чтобы в следующем году отправиться к искомой Земле[90].
В ночь на 29 августа случился редкой силы шторм, судно ложилось на борт, волна накрывала шканцы, собаки барахтались в ледяной солёной воде. В кают-компании с грохотом перевернулся огромный дубовый стол. Стоял на вахте и управлял «Зарёй» в это время лейтенант Колчак; вернувшись с вахты, он не смог даже напиться чаю[94]. После шторма всё застлал туман. Земля Санникова нигде не показывалась. Днём 30 августа мореплаватели подошли к кромке сплошного льда. В момент, когда упала пелена тумана, перед взглядами членов экспедиции предстала стена скалистого мыса Эммы. Над ним возвышался огромный белый ледник. Это был остров Беннетта, который никто бы и не увидел, если бы внезапно не рассеялся туман. «Теперь совершенно ясно, что можно было 10 раз пройти мимо Земли Санникова, не заметив её», — записал вечером Толль в своём дневнике[95]. Остров был окружён поясом льда до 12 миль в ширину и около 4 метров толщиной, поэтому «Заря» не смогла подойти к берегу. Простояв 2 суток в ожидании изменения ледовой обстановки, посоветовавшись с Колчаком и Матисеном, Толль решил возвращаться к острову Котельный, решив по дороге ещё раз попытаться проникнуть далеко на север от Новосибирских островов. Во время последней ночной стоянки на шхуну начал наползать лёд, из которого с трудом удалось выбраться и повернуть к Котельному. Дойти на этот раз полярникам удалось до точки с координатами 77°19′ с. ш. 142°10′ в. д. / 77.32° с. ш. 142.17° в. д. (G) [www.openstreetmap.org/?mlat=77.32&mlon=142.17&zoom=14 (O)] (Я), но никаких признаков земли не наблюдалось, дальше стояли непроходимые льды, покрытые туманом[90][91].
 3 сентября шхуна вошла в Нерпичью бухту у западного берега Котельного и попыталась пробиться к месту стоянки в маленькой гавани в лагуне Нерпалах, защищённой отмелью ото льдов. На берегу путешественники разглядели маленький домик из пла́вника и встречающего их К. А. Воллосовича. Мешало сильное течение, ветер, льды. Несколько раз садились на мель. Колчак попытался закрепить завозной якорь на косе; ещё немного, и эта попытка могла закончиться потерей вельбота среди льдов. Спасло вельбот мгновенно принятое молодым офицером решение перерубить канат и выбросить тяжёлый якорь в воду (позднее Колчак разыскал на дне этот якорь и вернул его на корабль). 5 сентября «Заря» наконец прорвалась в гавань и сразу встала на якорь для ремонта машины и помпы, в которой начала вскипать вода от накопившейся на стенках соли[91]. На борт корабля переправился Воллосович, а также двое участников его экспедиции, один из которых много лет назад сопровождал Бунге. Появились на шхуне и Ционглинский с Брусневым[96]. 10 сентября подул северо-восточный ветер, по воде пошёл мелкий лёд.
3 сентября шхуна вошла в Нерпичью бухту у западного берега Котельного и попыталась пробиться к месту стоянки в маленькой гавани в лагуне Нерпалах, защищённой отмелью ото льдов. На берегу путешественники разглядели маленький домик из пла́вника и встречающего их К. А. Воллосовича. Мешало сильное течение, ветер, льды. Несколько раз садились на мель. Колчак попытался закрепить завозной якорь на косе; ещё немного, и эта попытка могла закончиться потерей вельбота среди льдов. Спасло вельбот мгновенно принятое молодым офицером решение перерубить канат и выбросить тяжёлый якорь в воду (позднее Колчак разыскал на дне этот якорь и вернул его на корабль). 5 сентября «Заря» наконец прорвалась в гавань и сразу встала на якорь для ремонта машины и помпы, в которой начала вскипать вода от накопившейся на стенках соли[91]. На борт корабля переправился Воллосович, а также двое участников его экспедиции, один из которых много лет назад сопровождал Бунге. Появились на шхуне и Ционглинский с Брусневым[96]. 10 сентября подул северо-восточный ветер, по воде пошёл мелкий лёд.
Окончательно решив остаться здесь, Толль поздравил Матисена с успешным завершением навигации. Плавание продолжалось ровно 25 суток, из которых ходовых было 15. Пройденное за это время яхтой расстояние составило 1350 миль, угля израсходовано 65,7 т. По производственному пересчёту осталось ещё 75 т угля, т.е. на 1549 миль плавания при благоприятных условиях[93]
Вспомогательная геологическая экспедиция К. А. Воллосовича
 Вспомогательная партия, начальником которой Толлем был назначен геолог, кандидат естественных наук К. А. Воллосович, имела задачей изучение четвертичных отложений и организацию ряда продовольственных складов на Новосибирских островах на маршруте следования Русской полярной экспедиции на юг в случае потери судна[97][98].
Вспомогательная партия, начальником которой Толлем был назначен геолог, кандидат естественных наук К. А. Воллосович, имела задачей изучение четвертичных отложений и организацию ряда продовольственных складов на Новосибирских островах на маршруте следования Русской полярной экспедиции на юг в случае потери судна[97][98].
2 февраля 1901 г. Воллосович приехал в Усть-Янск, и 28 марта выехал оттуда на Новосибирские острова с санной группой в составе 11 человек при 5 нартах, запряжённых 14 собаками каждая, и при 20 оленях. В состав партии входили ссыльный студент-естественник Ционглинский, ссыльный технолог Бруснев, каюр-промысловики. На Новосибирских островах руководитель вспомогательной экспедиции работу начал с создания продовольственных баз-депо для экспедиции Толля. Весной и летом 1901 г. доставлялись тяжёлые грузы на острова. Работа по устройству продуктовых складов была завершена 2 сентября. Всего было сделано 8 таких складов. Кроме того, в ноябре 1901 г. партия Воллосовича оставила на острове Котельном 2 хорошо укреплённых и защищённых от песцов и белых медведей амбара с провизией и оленьими шкурами[97].
После обследования Новосибирских островов Воллосович со своей партией вернулся на «Зарю».
Вторая зимовка: 1901—1902 гг.
 В Нерпичьей губе члены основной экспедиции встретились с участниками вспомогательной экспедиции под руководством геолога К. А. Воллосовича. Ему Толль сделал предложение перезимовать на судне в качестве участника основной экспедиции. Руководитель экспедиции руководствовался научными соображениями: если Воллосович остаётся на «Заре», то ему будет значительно удобнее вести научную работу по сравнению с условиями в Усть-Янске, что обеспечит уже выигрыш времени для разъездов в следующем году по Новосибирским островам и изучения их геологии[99].
В Нерпичьей губе члены основной экспедиции встретились с участниками вспомогательной экспедиции под руководством геолога К. А. Воллосовича. Ему Толль сделал предложение перезимовать на судне в качестве участника основной экспедиции. Руководитель экспедиции руководствовался научными соображениями: если Воллосович остаётся на «Заре», то ему будет значительно удобнее вести научную работу по сравнению с условиями в Усть-Янске, что обеспечит уже выигрыш времени для разъездов в следующем году по Новосибирским островам и изучения их геологии[99].
Воллосович планировал в мае через Усть-Янск вернуться на материк, откуда далее следовать вверх по Лене. С ним решили отправить все собранные экспедицией коллекции. На материк также решено было послать Бруснева, Ционглинского и Стрижёва — для покупки пары нарт и доставки к февралю почты. Эти решения благоприятно отразились на поддержании духа и сил членов научной экспедиции и команды: все с нетерпением ждали возможности получить первую почту за 20 месяцев после ухода из Екатерининской гавани[99].
Следующими после партии Воллосовича посетителями Новосибирских островов стали Бялыницкий-Бируля и Колчак. Лейтенант провёл на острове Новая Сибирь магнитные и астрономические наблюдения и затем вернулся на шхуну. Бируля же остался здесь на 3—4 месяца и проводил орнитологические и гидробиологические исследования. Он будет дожидаться здесь прихода «Зари» и соберёт биологические коллекции и геологический материал[97].
Колчак, как и во время первой зимовки на Таймыре, старался не терять времени даром: он покидал стоявшую недалеко от берега «Зарю» при любом случае: вдвоём, втроём, самостоятельно отправлялся он изучать остров Котельный[83]. За время второй зимовки лейтенант совершил две санные поездки, в которых определил несколько астрономических пунктов и произвёл ряд иных работ[100].
Затёртая льдами «Заря» была превращена в геофизическую и метеорологическую станцию[101]. Силами экспедиции вокруг жилища Воллосовича вскоре был сооружён домик для магнитных исследований, метеорологическая станция и баня, выстроенные из выносимого Леной к морю плавника. Матросы любили, напарившись в бане, выскочить из неё и, повалявшись в снегу, бежать обратно в тепло. В этих развлечениях участвовал и Колчак. Для него это в январе 1902 г. закончилось воспалением надкостницы с высокой температурой. Это был первый случай за всю экспедицию, когда Колчак заболел[102].
 Необнаружение Земли Санникова стало сильным разочарованием для Толля, в мае 1900 года именовавшего своё мероприятие «Экспедицией для исследования Земли Санникова и других островов»[103]. Пройти Беринговым проливом до Владивостока также не получалось, и результаты экспедиции начинали казаться ему слишком малыми. Несмотря на достигнутые успехи в описании побережья, промеры глубин, которые Колчак делал на протяжении всего пути экспедиции, только обследование не изученного острова Беннетта, как наверное думал Толль, позволит ему достойно отчитаться в Петербурге о результатах экспедиции и вписать её в историю науки. Однако вопрос с «Землёй Санникова» не был ещё для Толля решён окончательно, поэтому он принял решение с началом полярного дня отправить Матисена на поиски этой загадочной Земли, а после его возвращения самому отправиться в санно-байдарочную экспедицию на Землю Санникова, буде она найдена, если нет — то на остров Беннетта, чтобы там провести третью зимовку. Вместе с Толлем собрался ехать Зееберг. Толль планировал взять в поход и доктора Вальтера[104]. Отправка в путь была запланирована на февраль — март 1902 года[105].
Необнаружение Земли Санникова стало сильным разочарованием для Толля, в мае 1900 года именовавшего своё мероприятие «Экспедицией для исследования Земли Санникова и других островов»[103]. Пройти Беринговым проливом до Владивостока также не получалось, и результаты экспедиции начинали казаться ему слишком малыми. Несмотря на достигнутые успехи в описании побережья, промеры глубин, которые Колчак делал на протяжении всего пути экспедиции, только обследование не изученного острова Беннетта, как наверное думал Толль, позволит ему достойно отчитаться в Петербурге о результатах экспедиции и вписать её в историю науки. Однако вопрос с «Землёй Санникова» не был ещё для Толля решён окончательно, поэтому он принял решение с началом полярного дня отправить Матисена на поиски этой загадочной Земли, а после его возвращения самому отправиться в санно-байдарочную экспедицию на Землю Санникова, буде она найдена, если нет — то на остров Беннетта, чтобы там провести третью зимовку. Вместе с Толлем собрался ехать Зееберг. Толль планировал взять в поход и доктора Вальтера[104]. Отправка в путь была запланирована на февраль — март 1902 года[105].
Во время второй зимовки членам экспедиции предстоял большой объём работ, связанных с изучением и описанием с геодезической привязкой близлежащих островов. Колчак, получивший геологический молоток для сбора образцов четвертичных отложений, и его каюр Стрижёв готовились к обследованию острова Бельковского[93].
 Руководитель экспедиции использовал базу экспедиции для проведения научных бесед с командой, превратив «Зарю» в своего рода «плавучий университет». С докладами по своим тематикам выступали Колчак, Бируля, Зееберг[106]. По вечерам в кают-компании спорили на «философские темы», и сталкивались самые разные взгляды и мнения. Колчак был завсегдатаем этих споров, но не умел спорить тихо. В результате два главных «философа», Колчак и Бируля, были отправлены на один из складов за мясом. В этот период Колчак особенно сблизился с Бирулей. С Матисеном же у него всегда были совершенно противоположные взгляды на вещи; нервный и вспыльчивый Колчак часто вёл спор в обидной для собеседника манере, но мягкий и отходчивый Матисен всё ему прощал. За неделю, проведённую в походе, Колчак на реке Балыктах наблюдал интересное явление, с которым в 1920 году столкнутся солдаты его Восточного фронта в «Ледяном походе». При чрезвычайно сильном морозе река местами промерзает до дна, после чего под напором течения лёд трескается, и вода продолжает течь поверх него, пока вновь не замёрзнет[107].
Руководитель экспедиции использовал базу экспедиции для проведения научных бесед с командой, превратив «Зарю» в своего рода «плавучий университет». С докладами по своим тематикам выступали Колчак, Бируля, Зееберг[106]. По вечерам в кают-компании спорили на «философские темы», и сталкивались самые разные взгляды и мнения. Колчак был завсегдатаем этих споров, но не умел спорить тихо. В результате два главных «философа», Колчак и Бируля, были отправлены на один из складов за мясом. В этот период Колчак особенно сблизился с Бирулей. С Матисеном же у него всегда были совершенно противоположные взгляды на вещи; нервный и вспыльчивый Колчак часто вёл спор в обидной для собеседника манере, но мягкий и отходчивый Матисен всё ему прощал. За неделю, проведённую в походе, Колчак на реке Балыктах наблюдал интересное явление, с которым в 1920 году столкнутся солдаты его Восточного фронта в «Ледяном походе». При чрезвычайно сильном морозе река местами промерзает до дна, после чего под напором течения лёд трескается, и вода продолжает течь поверх него, пока вновь не замёрзнет[107].
 У Воллосовича стала наблюдаться неврастения, и Толль разрешил ему уехать, так как во время этой зимовки экспедиция уже не находилась в условиях такой изоляции, как во время первой. 15 января вместе с Воллосовичем до первого жилья на побережье поехал и Толль — в надежде преодолеть свой нервный кризис. В планировавшуюся Толлем поездку на остров Беннетта руководитель экспедиции склонил присоединиться двух местных жителей, Василия и Николая. Стало известно, что обещавший Толлю вернуться на корабль Расторгуев уехал на Чукотку с американской экспедицией, заключив выгодный контракт. Толля он оповестить нужным не посчитал. 30 марта начальник экспедиции вернулся на базу. После этого Матисен отправился на поиски Земли Санникова[108].
У Воллосовича стала наблюдаться неврастения, и Толль разрешил ему уехать, так как во время этой зимовки экспедиция уже не находилась в условиях такой изоляции, как во время первой. 15 января вместе с Воллосовичем до первого жилья на побережье поехал и Толль — в надежде преодолеть свой нервный кризис. В планировавшуюся Толлем поездку на остров Беннетта руководитель экспедиции склонил присоединиться двух местных жителей, Василия и Николая. Стало известно, что обещавший Толлю вернуться на корабль Расторгуев уехал на Чукотку с американской экспедицией, заключив выгодный контракт. Толля он оповестить нужным не посчитал. 30 марта начальник экспедиции вернулся на базу. После этого Матисен отправился на поиски Земли Санникова[108].
В декабре стал плохо себя чувствовать врач экспедиции доктор Вальтер. Последнее время его сотрясал кашель, частил пульс, отекали ноги, наблюдалось скрываемое им от всех кровохарканье. Его переселили из сырой кают-компании в бревенчатую поварню Воллосовича. Но 21 декабря 1901 года доктор умер от расстройства сердечной деятельности, связанного с перенесённым на прошлой зимовке суставным ревматизмом[109], прямо во время своего дежурства на метеостанции[110].
В середине января на материк отправился барон Толль и завершивший свои работы на Новосибирских островах Воллосович. Задачей барона было получение на большой земле почты. 29 марта руководитель экспедиции вернулся на «Зарю»[98].
В начале февраля на зимовье была получена телеграмма президента Академии наук с указанием экспедиции ограничиться исследованием Новосибирских островов и закончить плавание в устье Лены[108].
Во время отсутствия Матисена должность капитана исполнял Колчак, назначенный старшим офицером, первым помощником командира судна[111]. Период его командирства был отмечен резким инцидентом с Бегичевым. Отправив куда-то вахтенного, лейтенант вскоре забыл об этом и стал его искать. Наткнулся на боцмана и стал в резкой форме выяснять, где у него вахтенный. Колчак отличался вспыльчивостью, но был и отходчив. Не считал зазорным признавать свои ошибки, даже перед подчинёнными. С Бегичевым поэтому они вскоре смогли помириться[108]. После извинений Колчака недавние оппоненты настолько сдружились, что Бегичев стал свидетелем на свадьбе Колчака и и отправился вместе с лейтенантом на фронт в Порт-Артур[112].
17 апреля с поисков Земли Санникова вернулся Матисен и доложил, что, пройдя 7 миль от устья реки Решетникова, он упёрся в полынью и повернул назад[108]. Матисен посетил также стрелку Фаддевского острова, остров Фигурина и Землю Бунге[98].
В конце апреля приехал новый врач, политический ссыльный В. Н. Катин-Ярцев[113]. Будучи студентом Медико-хирургической академии, Катин-Ярцев состоял в социал-демократическом «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса»[114][115], в 1897 году был осуждён и выслан в Восточную Сибирь. В 1918 году адмирал Колчак встретит его в Харбине, где врач-революционер будет спасаться от режима большевиков[116]. Катин-Ярцев продолжил орнитологическую работу своего предшественника доктора Вальтера, а второй род деятельности умершего, бактериологию, пришлось упразднить из-за недостатка времени и отсутствия руководств[117].
Хозяйственные функции стал выполнять Колчак, выдававший продукты и даже составлявший меню[117].
29 апреля Бируля с тремя якутами отправился на остров Новая Сибирь. Перед ним была поставлена задача дожидаться там к концу лета подхода «Зари», которая должна была его подобрать на пути к Беннетту[113].
 В первых числах мая Колчак и Стрижёв ездили на Бельковский остров, перейдя 30-километровый пролив Зари. Колчак объехал остров, произвёл его съёмку и положил его на карту. Также Колчак определил астрономически несколько пунктов. По время этого похода также были собраны образцы горных пород. К югу от Бельковского Колчак открыл небольшой скалистый остров иназвал его именем своего каюра островом Стрижёва[111]. В северном и западном направлении Колчак также, как и его предшественники, упёрся в полынью[93][113].
В первых числах мая Колчак и Стрижёв ездили на Бельковский остров, перейдя 30-километровый пролив Зари. Колчак объехал остров, произвёл его съёмку и положил его на карту. Также Колчак определил астрономически несколько пунктов. По время этого похода также были собраны образцы горных пород. К югу от Бельковского Колчак открыл небольшой скалистый остров иназвал его именем своего каюра островом Стрижёва[111]. В северном и западном направлении Колчак также, как и его предшественники, упёрся в полынью[93][113].
Вернувшись 12 мая на базу, Колчак и Стрижёв уже через неделю отправились изучать центральную часть острова Котельного. Путники пересекли остров, пройдя поперёк Земли Бунге от устья реки Балыктах до южной оконечности Фаддевского острова[111]. Посетив Фаддеевский, Колчак вернулся на Котельный, пересёк плато Толля, измерил высоту самой высокой горы острова Малакатын-Тас[118].
Вечером 23 мая барон Толль, астроном Зееберг, эвен Николай Протодьяконов (по прозвищу Омук) и якут Василий Горохов (по прозвищу Чичак) уехали на трёх нартах, везя с собой запаса продовольствия чуть больше чем на 2 месяца. Изначально Толль собирался взять в свой поход и Колчака — будь он рядом с руководителем экспедиции, пишет Черкашин, всё могло бы сложиться иначе; однако судно нельзя было оставить в ледовом плавании без опытного офицера[119].
 Предполагалось исследовать остров Беннетта, до этого посещённый лишь экспедицией Де-Лонга в 1879 г. и произвести рекогносцировку с целью обнаружения неизвестной земли. После окончания работ полярников должна была подобрать «Заря»[120]. Перед отъездом Толль оставил Матисену пространную инструкцию, а также пакет с надписью «Вскрыть, если экспедиция лишится своего корабля и без меня начнёт обратный путь на материк, или в случае моей смерти», в котором находилось письмо на имя Матисена с передачей ему всех прав начальника экспедиции и изложение предусмотрительно взвешенных мер, которые должен был принять командир, чтобы спасти если не его самого, то состав экспедиции.
Предполагалось исследовать остров Беннетта, до этого посещённый лишь экспедицией Де-Лонга в 1879 г. и произвести рекогносцировку с целью обнаружения неизвестной земли. После окончания работ полярников должна была подобрать «Заря»[120]. Перед отъездом Толль оставил Матисену пространную инструкцию, а также пакет с надписью «Вскрыть, если экспедиция лишится своего корабля и без меня начнёт обратный путь на материк, или в случае моей смерти», в котором находилось письмо на имя Матисена с передачей ему всех прав начальника экспедиции и изложение предусмотрительно взвешенных мер, которые должен был принять командир, чтобы спасти если не его самого, то состав экспедиции.
 «Предел времени, когда вы можете отказаться от дальнейших стараний снять меня с острова Беннета определяется тем моментом, когда на „Заре“ будет израсходован весь запас топлива для машины до 15 тонн угля»[120]. После этого следовало через Сибирь доставить в Петербург собранные коллекции и немедленно начать организацию новой экспедиции. Сам Толль надеялся самостоятельно добраться до Новосибирских островов, а затем — к устью Лены[121]. Толль объехал на собаках северные берега островов Котельного и Фаддеевского, после чего переправился на остров Новая Сибирь и 21 июня[122] остановился около мыса Высокого, откуда через неделю отправились к острову Беннетта. Четверо суток путешественники плыли на льдине, после чего пересели на байдарку и высадились на берегу острова у мыса Эммы 21 июля[122]. Путь занял 2 месяца, и провиант был на исходе. Перед Толлем теперь вставали задачи исследований, пропитания и обратной дороги. Колчак впоследствии говорил по этому поводу[113]:
«Предел времени, когда вы можете отказаться от дальнейших стараний снять меня с острова Беннета определяется тем моментом, когда на „Заре“ будет израсходован весь запас топлива для машины до 15 тонн угля»[120]. После этого следовало через Сибирь доставить в Петербург собранные коллекции и немедленно начать организацию новой экспедиции. Сам Толль надеялся самостоятельно добраться до Новосибирских островов, а затем — к устью Лены[121]. Толль объехал на собаках северные берега островов Котельного и Фаддеевского, после чего переправился на остров Новая Сибирь и 21 июня[122] остановился около мыса Высокого, откуда через неделю отправились к острову Беннетта. Четверо суток путешественники плыли на льдине, после чего пересели на байдарку и высадились на берегу острова у мыса Эммы 21 июля[122]. Путь занял 2 месяца, и провиант был на исходе. Перед Толлем теперь вставали задачи исследований, пропитания и обратной дороги. Колчак впоследствии говорил по этому поводу[113]:
|
Исследователь Синюков считает, что у Толля просто не оставалось иного выхода, так как он «слишком много авансов выдал Академии наук, прессе, коллегам, и вернуться без открытия Земли Санникова уже не мог». Запасы угля на шхуне оставляли желать лучшего, а льды не только не отступали, но и сплачивались вокруг «Зари» ещё плотнее. Потёртая льдами шхуна не могла пробиться не только к «Земле Санникова», но даже к острову Беннетта[123]. Огромные финансовые средства, выданные Толлю в кредит, заставляли барона предпринимать крайние отчаянные шаги[124]. Такими же мотивами, по мнению другого исследователя — Н. А. Черкашина — через 10 лет руководствовался и другой арктический фанатик Георгий Седов[123], ринувшийся в самоубийственный бросок к Северному полюсу без должной подготовки.
Через несколько дней на базу вернулись провожавшие группу Толля матросы Толстов и Евстифеев. Они привезли очень много камней для геологической коллекции, собранной близ стана Дурново руководителем экспедиции. Толль забрал у них нарту со стальными полозьями, отдав им одну из своих с деревянными полозьями: снег таял в дневное время и, прилипая к полозьям, затруднял движение путников[125].
Навигация 1902 года
 1 июля, вырвавшись из льдов при помощи взрывов, «Заря» вышла на внешний рейд, однако тут же была затёрта льдами, которые стали увлекать судно на северо-восток. В кают-компании в это время развлекались, выпуская «Журнал кают-компании», где размещались юмористические сочинения в стихах или прозе. Колчак написал для «Журнала» заметку «Ожесточение нравов гг. членов Русской полярной экспедиции». В стиле разоблачительной сенсации Колчак описывал попытки своих коллег по экспедиции выкормить принесённых кем-то на корабль двух совят[126]. 31 июля закончился полярный день, к этому времени беспомощно дрейфующий корабль был отнесён к Ляховским островам. 3 августа это невольное путешествие со льдами завершилось, и шхуна вернулась на зимовку[126].
1 июля, вырвавшись из льдов при помощи взрывов, «Заря» вышла на внешний рейд, однако тут же была затёрта льдами, которые стали увлекать судно на северо-восток. В кают-компании в это время развлекались, выпуская «Журнал кают-компании», где размещались юмористические сочинения в стихах или прозе. Колчак написал для «Журнала» заметку «Ожесточение нравов гг. членов Русской полярной экспедиции». В стиле разоблачительной сенсации Колчак описывал попытки своих коллег по экспедиции выкормить принесённых кем-то на корабль двух совят[126]. 31 июля закончился полярный день, к этому времени беспомощно дрейфующий корабль был отнесён к Ляховским островам. 3 августа это невольное путешествие со льдами завершилось, и шхуна вернулась на зимовку[126].
Только спустя месяц борьбы со льдами «Заря» смогла предпринять попытку обойти с севера остров Котельный и подойти к Новой Сибири[127]: 8 августа, проведя некоторые необходимые судовые работы, отправились в направлении острова Беннетта. Однако в навигацию 1902 года ледовая обстановка оказалась ещё сложнее, чем в прошлом году — теперь «Заря» смогла подойти к острову лишь на 90 миль: массы льда были прижаты к северо-западным и северным берегам островов Котельного, Фаддевского и Новой Сибири, а южные акватории были ото льда свободны[128]. По словам Катина-Ярцева, надежды доплыть до Беннетта было мало, надеялись доплыть до Новой Сибири, чтобы снять партию Бирули. Согласно этим воспоминаниям, экспедиция собиралась идти проливом между островами Бельковским и Котельным. Когда же проход оказался закрыт, Матисен и Колчак, которого командир в сложной ситуации всегда привлекал как имеющего штурманский опыт плавания в Индийском и Тихом океанах, проложили новый курс[128]: судно стало огибать Котельный с юга, чтобы через Благовещенский пролив пройти к мысу Высокому и забрать Бирулю. В мелководном проливе судно получило повреждения, появилась течь. До Высокого оставалось миль 15, но Матисен поостророжничал и решил попробовать обойти Новую Сибирь с южной стороны. 11 августа обошли мыс Медвежий и вошли в пролив, двигаясь далее на север. Здесь Колчак, оставшийся по сути единственным из научного состава, смог провести первую в навигацию 1902 года гидролого-зоологическую станцию: взял пробы грунта, воды, провёл измерение температуры на глубинах и близ поверхности, измерил плотность воды, после чего было проведено драгирование и траление[128]. К 16 августа «Заря», согласно задуманному плану, полным ходом шла к северу[129].
Матисен и Колчак подолгу находились на мостике и всматривались в не предвещавшую ничего хорошего ледовую обстановку. Две попытки подойти к острову Беннетта со стороны Котельного или хотя бы к мысу Высокому на Новой Сибири оказались тщетными, для «Зари» оставался единственный выход — немедленно двигаться в восточном направлении сквозь густой, но разбитый лёд, так как проход сужался, и судно в любой момент могло быть затёрто льдами. Однако уже 17 августа лёд заставил Матисена повернуть назад. Решено было предпринять ещё попытку пройти с запада, теперь уже не между Котельным и Бельковским, а западнее второго — Колчак считал, что там мог находиться разреженный лёд, что могло дать шанс на плавание к острову Беннетта[130].
К 23 августа на «Заре» оставалась минимальная норма угля, о которой говорил в своей инструкции Толль (8 тонн[127]). Даже если бы Матисен смог подойти к Беннетту, на обратный путь угля уже не оставалось. Ни одна из предпринятых попыток не позволила приблизиться к Беннетту ближе 90 миль. Матисен не мог повернуть на юг, не посоветовавшись с Колчаком. Как пишет историк П. Н. Зырянов, Колчак, скорее всего, также не видел иного выхода, по крайней мере впоследствии он никогда не критиковал этого решения Матисена и не отмежёвывался от него[131]. Матисен, потеряв надежду на улучшение состояния льдов, отказался от снятия оставшихся на Новой Сибири и острове Беннетта и решил следовать в бухту Тикси[132].
 Среди авторов, писавших на тему гибели Толля, только советский учёный профессор В. Ю. Визе — полярник и известный специалист по Арктике — считал, что «это решение стоило жизни Толлю и его спутникам»[133], фактически обвиняя этим Матисена. С Визе был категорически не согласен моряк и учёный Н. Н. Зубов[134]:
Среди авторов, писавших на тему гибели Толля, только советский учёный профессор В. Ю. Визе — полярник и известный специалист по Арктике — считал, что «это решение стоило жизни Толлю и его спутникам»[133], фактически обвиняя этим Матисена. С Визе был категорически не согласен моряк и учёный Н. Н. Зубов[134]:
Рисковать зимовкой в открытом море среди льдов, притом рисковать после уже проведённых двух зимовок с недостаточным запасом угля и провизии, было нельзя. Да и сам Толль оставил Матисену приказание идти в Тикси после уменьшения запасов угля до пределов, необходимых для возвращения. Никто из современников, знавших обстоятельства дела, Матисена не осуждал.
И всё же Матисен предпринял безуспешные попытки снять с Новой Сибири хотя бы партию А. А. Бялыницкого-Бирули. Однако, в конце концов, не добившись цели, чётко следуя инструкции руководителя экспедиции и не имея в сложившемся положении иного выхода, командир судна был вынужден направить «Зарю» к материку[135].
25 августа искалеченная льдами «Заря» еле доползла до устья Лены, вошла в залив Буор-Хая и подошла к берегу в бухте Тикси — на вечную стоянку — отсутствие угольной базы в устье Лены или на острове Котельном не позволяло провести 3-ю зимовку[127]. Здесь размещался в своей поварне М. И. Бруснев. Он рассказал, что на мысе Быковском живут люди, норвежец И. И. Торгенсен — бывший матрос с «Лены», сопровождавшей «Вегу» во время экспедиции Норденшельда 1878—1879 гг., а теперь проданного купчихе А. И. Громовой и курсировавшего по маршруту Якутск — Булун[136]. Так как пароход ещё не подошёл, Матисен попробовал провести шхуну с осадкой 16 футов в дельту Лены. Колчак с двумя боцманами начали делать промеры глубины Быковской протоки, однако за 3 дня фарватер нужной глубины найден не был[131]. 30 августа в бухту Тикси вошла «Лена», тот самый вспомогательный пароход, что обогнул когда-то мыс Челюскин вместе с «Вегой». Опасаясь ледостава, капитан парохода дал экспедиции на сборы всего 3 дня. Колчак отправился на «Лене» на поиски более удобной стоянки для «Зари», и нашёл укромный тихий уголок в бухте близ реки Сого за маленьким островом, который он назвал именем Бруснева. Туда и отвели «Зарю», где с неё на борт парохода были перегружены все наиболее ценные коллекции и оборудование[137]. Бруснев оставался в селении Казачьем и должен был приготовить оленей для группы Толля, а в случае, если тот не появится до 1 февраля, ехать на Новую Сибирь и ждать его там[138].
2 сентября «Лена» отошла от причала. «Заря» с одним человеком на борту последний раз отсалютовала флагом. Капитану парохода А. Ю. Юршевскому помогали два лоцмана-якута, моряки слабые, но без которых обойтись бы вообще не получилось. Лоцманы, которым фарватер был неизвестен, правили наугад и постоянно цепляли отмели днищем[139]. Матисен и Колчак пытались помогать лоцманам, но пароход всё же сел вскоре на мель, и, в связи с ограниченным количеством еды, пришлось ввести общий для всех паёк. «Продовольственным диктатором» избрали Колчака. Впервые в жизни в трудный момент он оказался наделён диктаторскими полномочиями[138]. 10 сентября от сепсиса умер раненый случайным выстрелом матроса Безбородова кочегар Носов[138].
Во время плавания на «Лене» Матисен и Колчак разработали план по оказанию помощи предоставленным самим себе после ухода «Зари» партиям Толля и Былыницкого-Бирули. Согласно плану, в случае, если эти группы не появятся самостоятельно на материке, в начале февраля на Новосибирские острова — навстречу им — должен был поехать Бруснев, предварительно приготовивший 6 хороших нарт и докупивший к имеющимся на «Заре» экспедиционным собакам ещё несколько. В случае, если Толль и Бируля своими силами вернутся на материк, их у Чай-Поварни близ Святого Носа должны были ожидать ещё осенью заготовленные Брусневым ездовые олени, на которых полярники могли добраться до Казачьего[140].
30 сентября пароход подошёл к Якутску, и его пассажиры сошли на берег. Колчак посетил местный музей и познакомился с его хранителем, политическим ссыльным П. В. Олениным. Из Якутска в Иркутск ехали через тайгу на почтовых лошадях[141].
В начале декабря 1902 года Колчак добрался до Санкт-Петербурга[141], где вскоре занялся подготовкой экспедиции, целью которой было спасение группы Толля[142]. Вместе с Матисеном в столице они вдвоём сделали всё, чтобы команда шхуны «Заря» полностью получила зарплату и все вознаграждения за безупречную работу в экспедиции Толля[143].
Судьба группы Толля и группы Бирули
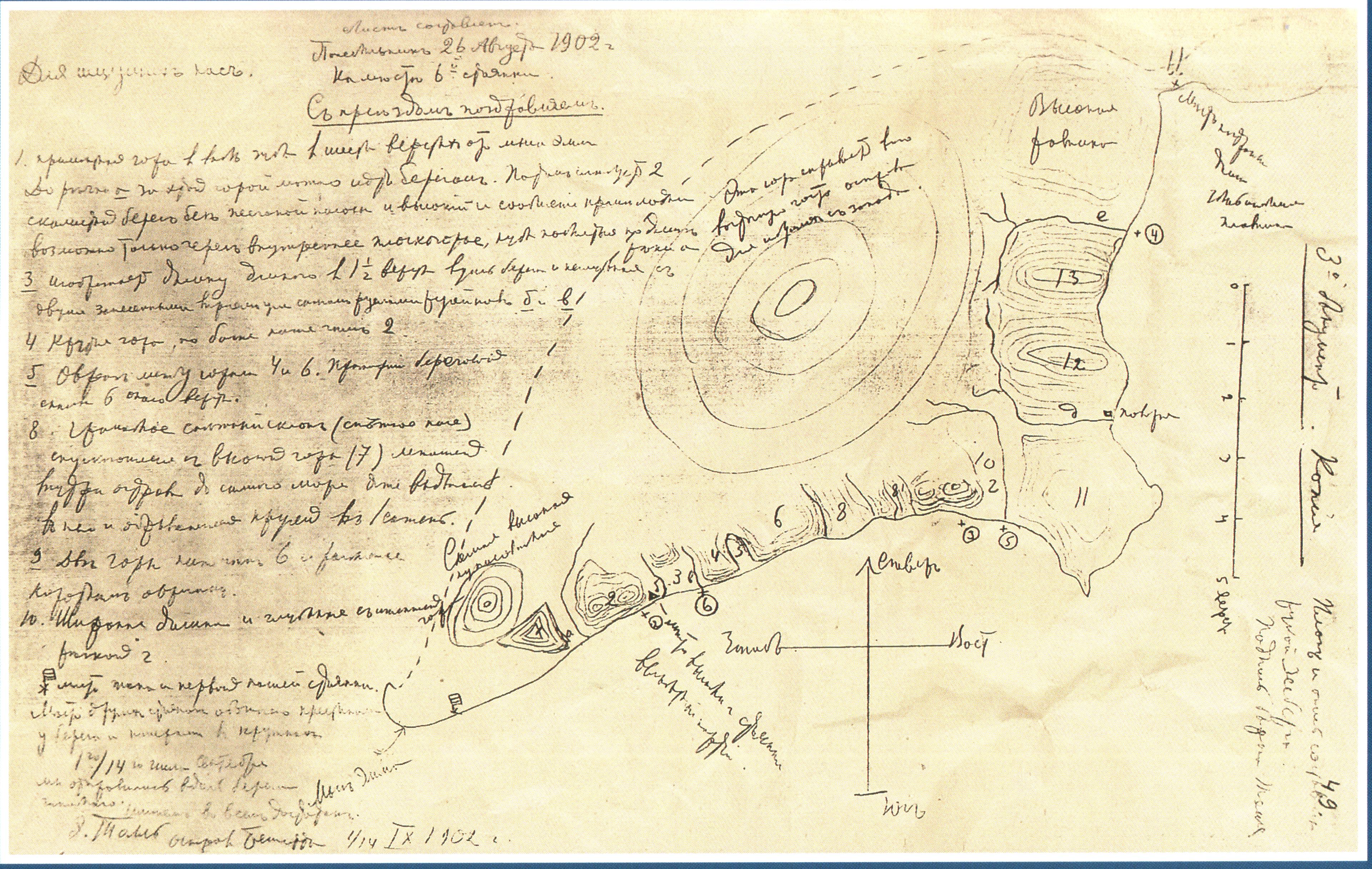 21 июля группа Толля прибыла на остров Беннетта. Учитывая запланированное на середину августа прибытие «Зари», руководитель мог либо обследовать остров, либо обустраивать лагерь на острове и заготовлять продукты на зиму. Второй вариант предполагал зимовку на острове: экспедиция теряла смысл, если бы, заготовив продукты, Толль сел затем на «Зарю» и покинул неисследованный остров[144]. Склонный к принятию рискованных решений, Толль пошёл на риск и в этот раз, решив сосредоточить все силы на исследовательской работе и сделать ставку на приход «Зари»[144]. Бесконтрольно распоряжаясь властью, на этот раз Толль погубил себя и троих своих спутников[1]. Он исследовал остров, выяснил, что его площадь составляет около 200 квадратных вёрст, высота над уровнем моря 457 метров. Было изучено геологическое строение острова. Толль увидел и записал, что в долинах острова встречаются «вымытые кости мамонта и других четвертичных животных». Животный мир включал медведей, моржей, оленей (стадо в 30 голов); с севера на юг пролетали гусиные стаи[145].
21 июля группа Толля прибыла на остров Беннетта. Учитывая запланированное на середину августа прибытие «Зари», руководитель мог либо обследовать остров, либо обустраивать лагерь на острове и заготовлять продукты на зиму. Второй вариант предполагал зимовку на острове: экспедиция теряла смысл, если бы, заготовив продукты, Толль сел затем на «Зарю» и покинул неисследованный остров[144]. Склонный к принятию рискованных решений, Толль пошёл на риск и в этот раз, решив сосредоточить все силы на исследовательской работе и сделать ставку на приход «Зари»[144]. Бесконтрольно распоряжаясь властью, на этот раз Толль погубил себя и троих своих спутников[1]. Он исследовал остров, выяснил, что его площадь составляет около 200 квадратных вёрст, высота над уровнем моря 457 метров. Было изучено геологическое строение острова. Толль увидел и записал, что в долинах острова встречаются «вымытые кости мамонта и других четвертичных животных». Животный мир включал медведей, моржей, оленей (стадо в 30 голов); с севера на юг пролетали гусиные стаи[145].
Группа Толля обеспечила себе кров, соорудив из пла́вника поварню. Этот же наличествовавший в избытке плавник мог служить и топливом. Гораздо хуже было с провиантом. Колчак писал, что «по какому-то недоразумению партией барона Толля не было использовано удобное время для охоты и не было сделано никаких запасов». Для удовлетворения текущих потребностей в пище вели охоту на оленей. Были убиты также 3 медведя, мяса которых хватило бы на несколько месяцев, однако оно было брошено на льду[145].
Когда стало понятно, что «Заря» уже не придёт, стрелять и заготавливать птиц было поздно: в поварне экспедицией Колчака было обнаружено не более 30 патронов для дробовика. Медведя свободно подстрелить тоже можно далеко не всегда. Олени ушли с острова Беннетта на юг осенью, вслед за ними пришлось уходить и людям[145].
26 октября 1902 года партия Толля двинулась с острова на юг. Записка Толля, обнаруженная позднее Колчаком, оканчивалась словами[146]:
Отправляемся сегодня на юг. Провизии имеем на 14—20 дней. Все здоровы. 26 октября 1902 г.
Экспедиция Колчака обследовала все острова Новосибирской группы, однако следов группы Толля нигде так и не обнаружили. По-видимому, она погибла во время перехода по льду с острова Беннетта на Новую Сибирь[147]. Оставленные для неё на южном направлении запасы продовольствия остались нетронутыми[24].
Партия Бирули, не дождавшись в конце лета прихода «Зари», соорудила на западном берегу острова Новая Сибирь пригодную для зимовки поварню, и в ноябре 1902 года, когда лёд окончательно встал, совершила благополучный переход с острова на материк, прибыв в Казачье в начале декабря[148][135].
Достижения и научное значение экспедиции барона Толля

 Научно-практические результаты экспедиции оказались высоки. Экспедиция положила начало комплексному исследованию арктических морей и суши. Значительные результаты были достигнуты, прежде всего, в описании побережья и промерах глубин, которые учёные делали на всём пути экспедиции. Это особенно важно, если учитывать, что предыдущие экспедиции под руководством Нансена и Норденшёльда систематических съёмок и промеров глубин не вели. Как отмечает П. В. Зырянов, это видно из простого сравнения современных очертаний полуострова Таймыр и тех, что дают карты начала XX века[105]. Группа Толля ценой жизни её участников обследовала неизученный остров Беннетта, собрав геологическую коллекцию.
Научно-практические результаты экспедиции оказались высоки. Экспедиция положила начало комплексному исследованию арктических морей и суши. Значительные результаты были достигнуты, прежде всего, в описании побережья и промерах глубин, которые учёные делали на всём пути экспедиции. Это особенно важно, если учитывать, что предыдущие экспедиции под руководством Нансена и Норденшёльда систематических съёмок и промеров глубин не вели. Как отмечает П. В. Зырянов, это видно из простого сравнения современных очертаний полуострова Таймыр и тех, что дают карты начала XX века[105]. Группа Толля ценой жизни её участников обследовала неизученный остров Беннетта, собрав геологическую коллекцию.
По результатам работ экспедиции была составлена геологическая карта полуострова Таймыра и острова Котельного. Краткий физико-географический и биологический очерк северного побережья Сибири содержит сведения о климате, гидрографии, геологии, орографии, животном и растительном мире Таймыра и Новосибирских островов. На материалах экспедиции лейтенант А. В. Колчак выполнил фундаментальное исследование, посвящённое льдам Карского и Восточно-Сибирского морей, представлявшее собой новый шаг в развитии полярной океанографии, а как незаурядный гидрохимик занимался измерением солёности, собирал пробы растворённых в морской воде газов, запланировав посвятить этой стороне исследований отдельную работу. Как участник экспедиции Колчак выполнял всевозможные работы и поручения, но как учёный-исследователь одновременно он занимался изучением «метаморфоз льда», что и составило материал для монографии «Лёд Карского и Сибирского морей», занимающей более 170 страниц с приложением 11 таблиц и 24 фотографий разных форм льда, где, в числе прочего, автор сформулировал основные направления и конкретизировал происходящее под влиянием ветров и течений движение льдов не только в районе Новосибирских островов, но и предложил схему движения арктического пака для всего полярного бассейна. Собранный же Колчаком гляциологический материал не потерял актуальности даже сегодня. К примеру, известный учёный, лауреат двух Государственных премий академик РАН А. П. Лисицын на научных конференциях многократно ссылался на арктические исследования А. В. Колчака, указывая на их значение для современной океанологии[149].
Научные результаты, собранные Русской полярной экспедицией Академии наук оказались весьма значительными и включали исследования в области метеорологии, океанографии, земного магнетизма, гляциологии, физической географии, ботаники, геологии, палеонтологии, этнографии, полярных сияний. Стало очевидно, что для их научной обработки потребуется много лет[150]: они действительно были обработаны в течение 10—15 лет и изданы в «Известиях Российской Академии наук», в навигационных картах и лоциях арктических морей. Публикация научных трудов РПЭ сама по себе оказалась достаточно дорогостоящим делом: сохранившаяся смета расходов на издание трудов экспедиции с 1904 по 1911 гг. свидетельствует о том, что оно во много раз превысило стоимость самой шхуны «Заря», на которой в течение 3 лет жили и плавали 20 человек[151].
По мнению исследователя Н. А. Черкашина экспедиция Толля имела и особый «провиденческий смысл»: она проводилась больше в интересах Военно-Морского флота, чем в интересах Академии наук, ведь кроме поисков Земли Санникова, полярники разыскивали и выходы каменного угля, чтобы обеспечить кораблям, идущим с Запада на Камчатку и во Владивосток, заправку на середине пути[152].
Русская полярная экспедиция в искусстве и историографии
При советской власти история экспедиции искажалась, замалчивались роли и заслуги Толля и, в первую очередь, Колчака — как учёного-океанолога отважного исследователя Арктики. Замалчивались его научные труды, получившие признание мировой общественности[2]. Но, при том, что деятельность будущего Верховного правителя России как полярного исследователя оставалась в «полутени», советские учёные использовали его труды, но обычно без ссылок на автора[153].
Так, в изданной в 1960 г. книге П. В. Виттенбурга 41-дневное 500-километровое обследование Толлем и Колчаком полуострова Таймыр с 7 апреля по 18 мая 1901 года изложено в сильно искажённом виде, а имя Колчака вообще не упоминается[154][155].
Примером фильтрации исторических фактов советской цензурой является и изданная в 1985 г. книга И. П. Магидовича и В. И. Магидовича «Очерки по истории географических открытий». В ней авторы довольно подробно описали экспедицию Толля 1900—1902 года (а также его экспедиции 1885—86 и 1893 годов), из участников Русской полярной экспедиции упомянули Толля, Матисена, Коломейцева, Расторгуева, Зееберга, Бегичева, но ни разу не назвали Колчака. Спасательная экспедиция Колчака 1903 года описана Магидовичами в абзаце, где рассказывается о вкладе в географические открытия Бегичева — будущего открывателя острова Малый Бегичев. При этом начальник и организатор спасательной экспедиции 1903 года традиционно не назван[156].
Эта традиция замалчивания даёт о себе знать и в наши дни. Так, в 2000 году — в год 100-летия Русской полярной экспедиции — это событие было обойдено молчанием как российской общественностью, так и научными кругами[157]. Даже изданный за границей в 1909 году дневник барона Толля, хранившийся на яхте «Заря» и, согласно завещанию его владельца, переданный его жене, в СССР был опубликован в 1959 году в переводе с немецкого в сильно урезанном виде: барон Толль в своих записках много места посвятил лейтенанту Колчаку и положительным оценкам его работы в ходе экспедиции[157].
Одним из известных эпизодов в этой кампании стало переименование в 1939 году острова в Арктике, названного Толлем именем Колчака — в память о заслугах последнего как учёного в ходе арктической экспедиции[84]. Как пишет историк В. В. Синюков, «репрессиям подверглись не только люди и их труды, но и целые острова»[158]: в конце 30-х годов острову советские власти дали имя матроса с «Зари» Расторгуева. Переименование произошло, несмотря даже на возникавшую в связи с ним очевидную топономическую несуразицу: остров с таким же названием уже был на картах и находился в Пясинском заливе — вблизи острова Колчака[2]! Менее известен эпизод с переименованием по тем же соображениям мыса Колчака — ему в период этой кампании дали имя писателя К. К. Случевского[159].
Писавший в своей биографической работе 1998 года о увековечивании памяти лейтенанта Колчака бароном Толлем уральский историк И. Ф. Плотников каялся в этой книге в лично отданной дани политике умолчаний и искажений советского времени[160]:
Однако и до настоящего времени возможности узнать какие-то подробности о Колчаке очень ограничены. Расширяются они пока медленно. В публикациях о Колчаке последних лет в отечественной литературе сделан заметный шаг к пересмотру советских оценок его деятельности и роли… впервые за семидесятилетнюю советскую историю, в условиях гласности, появилась возможность говорить читателю правду. Автор этих строк, как историк, занимаясь проблематикой гражданской войны, подпольной работы коммунистов, других политических сил, партизанским движением на Урале и в Сибири, в оценках деятельности А. В. Колчака отдал дань тогдашним непременным установкам — ленинской концепции. Об этом приходится сожалеть.— Плотников И. Ф. Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность
В 1926 году в СССР вышел роман В. А. Обручева «Земля Санникова», по мотивам которого в 1973 году был поставлен одноимённый фильм с участием О. Даля, В. Дворжецкого, Ю. Назарова, Г. Вицина и М. Эсамбаева. В первых строках романа Обручев описывает слушание заседанием Императорского Русского географического общества доклада экспедиции, «снаряжённой для поисков пропавшего без вести Толля и его спутников» из уст неназванного «морского офицера, совершившего смелое плавание в вельботе через Ледовитое море с Новосибирских островов на остров Беннетта, на который высадился барон Толль, оттуда не вернувшийся»; упоминается «мужественное лицо докладчика, обветренное полярными непогодами, остававшееся в полутени зелёного абажура лампы, освещавшей рукопись его доклада на кафедре и его флотский мундир с золотыми пуговицами и орденами». Несколько абзацев передают почти дословно содержание доклада лейтенанта Колчака, сделанного 10 января 1906 года на общем собрании отделений математической и физической географии Русского географического общества, равно как и выводы о том, что партия Толля погибла, а Земля Санникова не существует[161].
…докладчик — морской офицер с мужественным лицом — это, несомненно, А. В. Колчак. Неназванный и неузнанный, он со страниц известного романа, многократно переиздававшегося, долгие годы вёл разговор с отечественным читателем — все те годы, когда о его подвигах запрещалось говорить и его имя отовсюду вычёркивалось.— Зырянов П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России
Напишите отзыв о статье "Русская полярная экспедиция"
Комментарии
- ↑ Например, книга Адольфа Норденшёльда «Шведская полярная экспедиция 1878-79 г. Открытие Северо-восточного прохода» начата словами: «Арктические экспедиции, отправлявшиеся из Швеции в течение последних лет, приобрели глубокое национальное значение».
- ↑ Даты в статье даны по старому стилю.
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Чайковский, 2002.
- ↑ 1 2 3 Синюков Ч.2, 2009, с. 5.
- ↑ 1 2 3 4 Зырянов, 2012, с. 41—42.
- ↑ 1 2 3 4 5 Богданов, 1993, с. 18.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 65.
- ↑ Синюков, 2009, с. 196.
- ↑ 1 2 3 Синюков, 2009, с. 93.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 6.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 8.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 84.
- ↑ 1 2 Краснов, 2000, с. 60.
- ↑ 1 2 [www.e-reading-lib.org/chapter.php/105441/61/Dorozhkin_-_Puteshestvenniki.html Экспедиция барона Толля].
- ↑ 1 2 Черкашин, 2005, с. 56—57.
- ↑ Синюков, 2009, с. 75.
- ↑ Синюков, 2009, с. 85.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 58.
- ↑ 1 2 3 Зырянов, 2012, с. 43.
- ↑ Синюков, 2009, с. 74.
- ↑ Кузнецов, 2014, с. 15.
- ↑ Катин-Ярцев В. Н. На Крайний Север. (В Русской полярной экспедиции барона Э. В. Толля.) // Мир Божий : журнал. — 1904. — № 2. — С. 93.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 73.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 88.
- ↑ Кручинин, 2010, с. 20.
- ↑ 1 2 3 Хандорин, 2007.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 44.
- ↑ 1 2 3 Синюков, 2009, с. 87.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 9.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 46.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 67.
- ↑ Синюков, 2009, с. 80.
- ↑ Синюков, 2009, с. 89—90.
- ↑ Коломейцев Н. Н. Русская полярная экспедиция под начальством барона Толля // Изв. РГО. — Т. 38. — В. 3. — 1902. — С. 343.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 47.
- ↑ 1 2 Богданов, 1993, с. 19.
- ↑ 1 2 3 Синюков, 2009, с. 90.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 48.
- ↑ Краснов, 2000, с. 62.
- ↑ Синюков, 2009, с. 91.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 50.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 83.
- ↑ Кузнецов, 2014, с. 17—18.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 74.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 111.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 52.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 82.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 55.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 16.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 56.
- ↑ Толль, 1959, с. 24—27.
- ↑ 1 2 Синюков Ч.2, 2009, с. 133.
- ↑ Краснов, 2000, с. 64.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 95.
- ↑ 1 2 3 4 Зырянов, 2012, с. 57—58.
- ↑ 1 2 Краснов, 2000, с. 65.
- ↑ Синюков, 2009, с. 100.
- ↑ Кузнецов, 2014, с. 20.
- ↑ 1 2 Черкашин, 2005, с. 96—97.
- ↑ 1 2 Черкашин, 2005, с. 88.
- ↑ Синюков, 2009, с. 101.
- ↑ Синюков, 2009, с. 102.
- ↑ Синюков, 2009, с. 107.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 84.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 108.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 17.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 60.
- ↑ 1 2 3 Кузнецов, 2014, с. 19.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 113.
- ↑ Синюков, 2009, с. 265.
- ↑ Синюков, 2009, с. 114.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 62.
- ↑ Синюков, 2009, с. 116.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 86—87.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Зырянов, 2012, с. 63—68.
- ↑ Толль, 1959, с. 102, 128.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 116.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 92.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 21.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 118.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 91.
- ↑ Синюков, 2009, с. 123.
- ↑ Синюков Ч.2, 2009, с. 80.
- ↑ Синюков, 2009, с. 116, 122.
- ↑ 1 2 Черкашин, 2005, с. 93.
- ↑ 1 2 Кручинин, 2010, с. 23.
- ↑ [www.gpavet.narod.ru/Public/MapError/maperror.htm АВЕТИСОВ Г. П. Об одной картографической ошибке]
- ↑ Синюков Ч.2, 2009, с. 201.
- ↑ Синюков, 2009, с. 126.
- ↑ 1 2 Краснов, 2000, с. 66.
- ↑ [www.shparo.ru/Toll/toll_main.htm Клад Эдуарда Толля]
- ↑ 1 2 3 4 Кузнецов, 2014, с. 22.
- ↑ 1 2 3 4 Синюков, 2009, с. 130—131.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 69.
- ↑ 1 2 3 4 Синюков, 2009, с. 133.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 70.
- ↑ Толль, 1959, с. 218.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 71.
- ↑ 1 2 3 Синюков, 2009, с. 128-129.
- ↑ 1 2 3 Кузнецов, 2014, с. 23.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 132.
- ↑ Богданов, 1993, с. 20.
- ↑ Краснов, 2000, с. 66.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 72.
- ↑ Синюков В. В. Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики. — М.: Наука, 2000. — С. 76
- ↑ Синюков, 2009, с. 135.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 73.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 94.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 74.
- ↑ 1 2 3 4 Зырянов, 2012, с. 76.
- ↑ Кузнецов, 2014, с. 23.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 75.
- ↑ 1 2 3 Краснов, 2000, с. 67.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 99.
- ↑ 1 2 3 4 Зырянов, 2012, с. 77—78.
- ↑ [uni-persona.srcc.msu.ru/site/research/zajonchk/tom4_2/V4P23050.htm Universitas Personarum, № 3033].
- ↑ [guides.rusarchives.ru/browse/index/founder.html;jsessionid=abckt7AJrjsD__2fk_vSs?founder=%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%9D-%D0%AF%D0%A0%D0%A6%D0%95%D0%92%20%D0%92%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7,%20%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%A7,%20%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%98%D0%A1%D0%A2,%20%D0%A7%D0%9B%D0%95%D0%9D%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%22%D0%A1%D0%9E%D0%AE%D0%97%D0%90%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%91%D0%AB%20%D0%97%D0%90%20%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%A0%D0%90%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%95%D0%93%D0%9E%20%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A1%D0%90%22 Катин-Ярцев В. Н.].
- ↑ Синюков, 2009, с. 141.
- ↑ 1 2 Синюков, 2009, с. 146.
- ↑ Синюков, 2009, с. 134.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 72.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 24.
- ↑ Краснов, 2000, с. 71.
- ↑ 1 2 Черкашин, 2005, с. 71.
- ↑ 1 2 Черкашин, 2005, с. 97.
- ↑ Синюков, 2009, с. 143.
- ↑ Синюков, 2009, с. 148.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 79.
- ↑ 1 2 3 Черкашин, 2005, с. 72.
- ↑ 1 2 3 Синюков, 2009, с. 150.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 80.
- ↑ Синюков, 2009, с. 152.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 81.
- ↑ Кузнецов, 2014, с. 25.
- ↑ Визе В. Ю. Моря советской Арктики. Очерки по истории исследования. — 3-е изд. — М.—Л.: Изд-во Главсевморпути, 1948. — С. 272. — 296 с.
- ↑ Зубов Н. Н. Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов. — М.: Географгиз, 1954. — С. 333. — 476 с.
- ↑ 1 2 Кузнецов, 2014, с. 26.
- ↑ Синюков, 2009, с. 153.
- ↑ Синюков, 2009, с. 154.
- ↑ 1 2 3 Зырянов, 2012, с. 82.
- ↑ Синюков, 2009, с. 155.
- ↑ Синюков, 2009, с. 158.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 83.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 86—87.
- ↑ Синюков, 2009, с. 161.
- ↑ 1 2 Зырянов, 2012, с. 94.
- ↑ 1 2 3 Зырянов, 2012, с. 93.
- ↑ Толль, 1959, с. 329.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 95.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 87.
- ↑ Синюков, 2009, с. 264, 267, 271, 274.
- ↑ Синюков, 2009, с. 275.
- ↑ Синюков, 2009, с. 277.
- ↑ Черкашин, 2005, с. 110.
- ↑ Кузнецов, 2014, с. 3.
- ↑ Виттенбург П. В. Жизнь и научная деятельность Э. В. Толля. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1960. — 247 с.
- ↑ Синюков, 2009, с. 122.
- ↑ Магидович, 1985, с. 80.
- ↑ 1 2 Привалихин, В. [www.redstar.ru/index.php/daty/item/533-arktika-barona-tollya Арктика барона Толля]
- ↑ Синюков, 2009, с. 279.
- ↑ Краснов, 2000, с. 68.
- ↑ Плотников, 1998, с. 8.
- ↑ Зырянов, 2012, с. 174.
Литература
- Зырянов, П. Н. Адмирал Колчак, верховный правитель России. — 4-е изд. — М.: Мол. гвардия, 2012. — 637 с. — (Жизнь замечательных людей; вып. 1356). — ISBN 978-5-235-03375-7.
- Краснов, В. Г. Колчак. И жизнь, и смерть за Россию: В 2 кн.. — М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000. — 431 с. — (Досье). — ISBN 5-224-00829-8.
- Кручинин, А. С. Адмирал Колчак: жизнь, подвиг, память. — М.: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 2010. — 538 с. — ISBN 978-5-17-063753-9.
- Кузнецов, Н. А. В поисках Земли Санникова. Полярные экспедиции Толля и Колчака. — М.: Paulsen, 2014. — 40 с. — ISBN 978-5-98797-081-2.
- Магидович, И. П., Магидович, В. И. Очерки истории географических открытий. — 3-е изд. — М.: Просвещение, 1985. — Т. 4. — 335 с.
- Плотников, И. Ф. [www.xxl3.ru/belie/plotnikov/02.html Александр Васильевич Колчак. Жизнь и деятельность]. — Ростов н/Д.: Феникс, 1998. — 320 с. — ISBN 5-222-00228-4.
- Синюков, В. В. Александр Васильевич Колчак как исследователь Арктики. — М.: Наука, 2000.
- Синюков, В. В. Александр Васильевич Колчак : Учёный и патриот : в 2 ч. / В. В. Синюков; отв. ред. А. П. Лисицын ; Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. — М.: Наука, 2009. — ISBN 978-5-02-035740-2 (ч. 1).
- Синюков, В. В. Александр Васильевич Колчак : Учёный и патриот : в 2 ч. / В. В. Синюков; отв. ред. А. П. Лисицын ; Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова РАН. — М.: Наука, 2009. — ISBN 978-5-02-035761-7 (ч. 2).
- Толль, Э. В. Плавание на яхте «Заря» / Пер. с нем. — М.: Географгиз, 1959. — 340 с.
- Хандорин, В. Г. [kolchak.sitecity.ru/stext_1811040303.phtml Под полярным небом] // Адмирал Колчак: правда и мифы. — Томск: Изд-во Томского ун-та, 2007. — 288 с. — ISBN 978-5-7511-1842-6.
- Чайковский Ю. В. [www.ihst.ru/projects/sohist/papers/ch02vr.htm Возвращение лейтенанта Колчака. К 100-летию Русской полярной экспедиции (1900–1903)] // Вестник РАН. — 2002. — № 2. — С. 152–161.
- Черкашин, Н. А. Адмирал Колчак: диктатор поневоле. — М.: Вече, 2005. — 376 с. — (Досье без ретуши). — ISBN 5-9533-0518-4.
- Богданов, К. А. Адмирал Колчак: Биографическая повесть-хроника. — СПб.: Судостроение, 1993. — 304 с. — ISBN 5-7355-0481-9.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Русская полярная экспедиция
– Я люблю тебя больше, лучше, чем прежде, – сказал князь Андрей, поднимая рукой ее лицо так, чтобы он мог глядеть в ее глаза.Глаза эти, налитые счастливыми слезами, робко, сострадательно и радостно любовно смотрели на него. Худое и бледное лицо Наташи с распухшими губами было более чем некрасиво, оно было страшно. Но князь Андрей не видел этого лица, он видел сияющие глаза, которые были прекрасны. Сзади их послышался говор.
Петр камердинер, теперь совсем очнувшийся от сна, разбудил доктора. Тимохин, не спавший все время от боли в ноге, давно уже видел все, что делалось, и, старательно закрывая простыней свое неодетое тело, ежился на лавке.
– Это что такое? – сказал доктор, приподнявшись с своего ложа. – Извольте идти, сударыня.
В это же время в дверь стучалась девушка, посланная графиней, хватившейся дочери.
Как сомнамбулка, которую разбудили в середине ее сна, Наташа вышла из комнаты и, вернувшись в свою избу, рыдая упала на свою постель.
С этого дня, во время всего дальнейшего путешествия Ростовых, на всех отдыхах и ночлегах, Наташа не отходила от раненого Болконского, и доктор должен был признаться, что он не ожидал от девицы ни такой твердости, ни такого искусства ходить за раненым.
Как ни страшна казалась для графини мысль, что князь Андрей мог (весьма вероятно, по словам доктора) умереть во время дороги на руках ее дочери, она не могла противиться Наташе. Хотя вследствие теперь установившегося сближения между раненым князем Андреем и Наташей приходило в голову, что в случае выздоровления прежние отношения жениха и невесты будут возобновлены, никто, еще менее Наташа и князь Андрей, не говорил об этом: нерешенный, висящий вопрос жизни или смерти не только над Болконским, но над Россией заслонял все другие предположения.
Пьер проснулся 3 го сентября поздно. Голова его болела, платье, в котором он спал не раздеваясь, тяготило его тело, и на душе было смутное сознание чего то постыдного, совершенного накануне; это постыдное был вчерашний разговор с капитаном Рамбалем.
Часы показывали одиннадцать, но на дворе казалось особенно пасмурно. Пьер встал, протер глаза и, увидав пистолет с вырезным ложем, который Герасим положил опять на письменный стол, Пьер вспомнил то, где он находился и что ему предстояло именно в нынешний день.
«Уж не опоздал ли я? – подумал Пьер. – Нет, вероятно, он сделает свой въезд в Москву не ранее двенадцати». Пьер не позволял себе размышлять о том, что ему предстояло, но торопился поскорее действовать.
Оправив на себе платье, Пьер взял в руки пистолет и сбирался уже идти. Но тут ему в первый раз пришла мысль о том, каким образом, не в руке же, по улице нести ему это оружие. Даже и под широким кафтаном трудно было спрятать большой пистолет. Ни за поясом, ни под мышкой нельзя было поместить его незаметным. Кроме того, пистолет был разряжен, а Пьер не успел зарядить его. «Все равно, кинжал», – сказал себе Пьер, хотя он не раз, обсуживая исполнение своего намерения, решал сам с собою, что главная ошибка студента в 1809 году состояла в том, что он хотел убить Наполеона кинжалом. Но, как будто главная цель Пьера состояла не в том, чтобы исполнить задуманное дело, а в том, чтобы показать самому себе, что не отрекается от своего намерения и делает все для исполнения его, Пьер поспешно взял купленный им у Сухаревой башни вместе с пистолетом тупой зазубренный кинжал в зеленых ножнах и спрятал его под жилет.
Подпоясав кафтан и надвинув шапку, Пьер, стараясь не шуметь и не встретить капитана, прошел по коридору и вышел на улицу.
Тот пожар, на который так равнодушно смотрел он накануне вечером, за ночь значительно увеличился. Москва горела уже с разных сторон. Горели в одно и то же время Каретный ряд, Замоскворечье, Гостиный двор, Поварская, барки на Москве реке и дровяной рынок у Дорогомиловского моста.
Путь Пьера лежал через переулки на Поварскую и оттуда на Арбат, к Николе Явленному, у которого он в воображении своем давно определил место, на котором должно быть совершено его дело. У большей части домов были заперты ворота и ставни. Улицы и переулки были пустынны. В воздухе пахло гарью и дымом. Изредка встречались русские с беспокойно робкими лицами и французы с негородским, лагерным видом, шедшие по серединам улиц. И те и другие с удивлением смотрели на Пьера. Кроме большого роста и толщины, кроме странного мрачно сосредоточенного и страдальческого выражения лица и всей фигуры, русские присматривались к Пьеру, потому что не понимали, к какому сословию мог принадлежать этот человек. Французы же с удивлением провожали его глазами, в особенности потому, что Пьер, противно всем другим русским, испуганно или любопытна смотревшим на французов, не обращал на них никакого внимания. У ворот одного дома три француза, толковавшие что то не понимавшим их русским людям, остановили Пьера, спрашивая, не знает ли он по французски?
Пьер отрицательно покачал головой и пошел дальше. В другом переулке на него крикнул часовой, стоявший у зеленого ящика, и Пьер только на повторенный грозный крик и звук ружья, взятого часовым на руку, понял, что он должен был обойти другой стороной улицы. Он ничего не слышал и не видел вокруг себя. Он, как что то страшное и чуждое ему, с поспешностью и ужасом нес в себе свое намерение, боясь – наученный опытом прошлой ночи – как нибудь растерять его. Но Пьеру не суждено было донести в целости свое настроение до того места, куда он направлялся. Кроме того, ежели бы даже он и не был ничем задержан на пути, намерение его не могло быть исполнено уже потому, что Наполеон тому назад более четырех часов проехал из Дорогомиловского предместья через Арбат в Кремль и теперь в самом мрачном расположении духа сидел в царском кабинете кремлевского дворца и отдавал подробные, обстоятельные приказания о мерах, которые немедленно должны были бытт, приняты для тушения пожара, предупреждения мародерства и успокоения жителей. Но Пьер не знал этого; он, весь поглощенный предстоящим, мучился, как мучаются люди, упрямо предпринявшие дело невозможное – не по трудностям, но по несвойственности дела с своей природой; он мучился страхом того, что он ослабеет в решительную минуту и, вследствие того, потеряет уважение к себе.
Он хотя ничего не видел и не слышал вокруг себя, но инстинктом соображал дорогу и не ошибался переулками, выводившими его на Поварскую.
По мере того как Пьер приближался к Поварской, дым становился сильнее и сильнее, становилось даже тепло от огня пожара. Изредка взвивались огненные языка из за крыш домов. Больше народу встречалось на улицах, и народ этот был тревожнее. Но Пьер, хотя и чувствовал, что что то такое необыкновенное творилось вокруг него, не отдавал себе отчета о том, что он подходил к пожару. Проходя по тропинке, шедшей по большому незастроенному месту, примыкавшему одной стороной к Поварской, другой к садам дома князя Грузинского, Пьер вдруг услыхал подле самого себя отчаянный плач женщины. Он остановился, как бы пробудившись от сна, и поднял голову.
В стороне от тропинки, на засохшей пыльной траве, были свалены кучей домашние пожитки: перины, самовар, образа и сундуки. На земле подле сундуков сидела немолодая худая женщина, с длинными высунувшимися верхними зубами, одетая в черный салоп и чепчик. Женщина эта, качаясь и приговаривая что то, надрываясь плакала. Две девочки, от десяти до двенадцати лет, одетые в грязные коротенькие платьица и салопчики, с выражением недоумения на бледных, испуганных лицах, смотрели на мать. Меньшой мальчик, лет семи, в чуйке и в чужом огромном картузе, плакал на руках старухи няньки. Босоногая грязная девка сидела на сундуке и, распустив белесую косу, обдергивала опаленные волосы, принюхиваясь к ним. Муж, невысокий сутуловатый человек в вицмундире, с колесообразными бакенбардочками и гладкими височками, видневшимися из под прямо надетого картуза, с неподвижным лицом раздвигал сундуки, поставленные один на другом, и вытаскивал из под них какие то одеяния.
Женщина почти бросилась к ногам Пьера, когда она увидала его.
– Батюшки родимые, христиане православные, спасите, помогите, голубчик!.. кто нибудь помогите, – выговаривала она сквозь рыдания. – Девочку!.. Дочь!.. Дочь мою меньшую оставили!.. Сгорела! О о оо! для того я тебя леле… О о оо!
– Полно, Марья Николаевна, – тихим голосом обратился муж к жене, очевидно, для того только, чтобы оправдаться пред посторонним человеком. – Должно, сестрица унесла, а то больше где же быть? – прибавил он.
– Истукан! Злодей! – злобно закричала женщина, вдруг прекратив плач. – Сердца в тебе нет, свое детище не жалеешь. Другой бы из огня достал. А это истукан, а не человек, не отец. Вы благородный человек, – скороговоркой, всхлипывая, обратилась женщина к Пьеру. – Загорелось рядом, – бросило к нам. Девка закричала: горит! Бросились собирать. В чем были, в том и выскочили… Вот что захватили… Божье благословенье да приданую постель, а то все пропало. Хвать детей, Катечки нет. О, господи! О о о! – и опять она зарыдала. – Дитятко мое милое, сгорело! сгорело!
– Да где, где же она осталась? – сказал Пьер. По выражению оживившегося лица его женщина поняла, что этот человек мог помочь ей.
– Батюшка! Отец! – закричала она, хватая его за ноги. – Благодетель, хоть сердце мое успокой… Аниска, иди, мерзкая, проводи, – крикнула она на девку, сердито раскрывая рот и этим движением еще больше выказывая свои длинные зубы.
– Проводи, проводи, я… я… сделаю я, – запыхавшимся голосом поспешно сказал Пьер.
Грязная девка вышла из за сундука, прибрала косу и, вздохнув, пошла тупыми босыми ногами вперед по тропинке. Пьер как бы вдруг очнулся к жизни после тяжелого обморока. Он выше поднял голову, глаза его засветились блеском жизни, и он быстрыми шагами пошел за девкой, обогнал ее и вышел на Поварскую. Вся улица была застлана тучей черного дыма. Языки пламени кое где вырывались из этой тучи. Народ большой толпой теснился перед пожаром. В середине улицы стоял французский генерал и говорил что то окружавшим его. Пьер, сопутствуемый девкой, подошел было к тому месту, где стоял генерал; но французские солдаты остановили его.
– On ne passe pas, [Тут не проходят,] – крикнул ему голос.
– Сюда, дяденька! – проговорила девка. – Мы переулком, через Никулиных пройдем.
Пьер повернулся назад и пошел, изредка подпрыгивая, чтобы поспевать за нею. Девка перебежала улицу, повернула налево в переулок и, пройдя три дома, завернула направо в ворота.
– Вот тут сейчас, – сказала девка, и, пробежав двор, она отворила калитку в тесовом заборе и, остановившись, указала Пьеру на небольшой деревянный флигель, горевший светло и жарко. Одна сторона его обрушилась, другая горела, и пламя ярко выбивалось из под отверстий окон и из под крыши.
Когда Пьер вошел в калитку, его обдало жаром, и он невольно остановился.
– Который, который ваш дом? – спросил он.
– О о ох! – завыла девка, указывая на флигель. – Он самый, она самая наша фатера была. Сгорела, сокровище ты мое, Катечка, барышня моя ненаглядная, о ох! – завыла Аниска при виде пожара, почувствовавши необходимость выказать и свои чувства.
Пьер сунулся к флигелю, но жар был так силен, что он невольна описал дугу вокруг флигеля и очутился подле большого дома, который еще горел только с одной стороны с крыши и около которого кишела толпа французов. Пьер сначала не понял, что делали эти французы, таскавшие что то; но, увидав перед собою француза, который бил тупым тесаком мужика, отнимая у него лисью шубу, Пьер понял смутно, что тут грабили, но ему некогда было останавливаться на этой мысли.
Звук треска и гула заваливающихся стен и потолков, свиста и шипенья пламени и оживленных криков народа, вид колеблющихся, то насупливающихся густых черных, то взмывающих светлеющих облаков дыма с блестками искр и где сплошного, сноповидного, красного, где чешуйчато золотого, перебирающегося по стенам пламени, ощущение жара и дыма и быстроты движения произвели на Пьера свое обычное возбуждающее действие пожаров. Действие это было в особенности сильно на Пьера, потому что Пьер вдруг при виде этого пожара почувствовал себя освобожденным от тяготивших его мыслей. Он чувствовал себя молодым, веселым, ловким и решительным. Он обежал флигелек со стороны дома и хотел уже бежать в ту часть его, которая еще стояла, когда над самой головой его послышался крик нескольких голосов и вслед за тем треск и звон чего то тяжелого, упавшего подле него.
Пьер оглянулся и увидал в окнах дома французов, выкинувших ящик комода, наполненный какими то металлическими вещами. Другие французские солдаты, стоявшие внизу, подошли к ящику.
– Eh bien, qu'est ce qu'il veut celui la, [Этому что еще надо,] – крикнул один из французов на Пьера.
– Un enfant dans cette maison. N'avez vous pas vu un enfant? [Ребенка в этом доме. Не видали ли вы ребенка?] – сказал Пьер.
– Tiens, qu'est ce qu'il chante celui la? Va te promener, [Этот что еще толкует? Убирайся к черту,] – послышались голоса, и один из солдат, видимо, боясь, чтобы Пьер не вздумал отнимать у них серебро и бронзы, которые были в ящике, угрожающе надвинулся на него.
– Un enfant? – закричал сверху француз. – J'ai entendu piailler quelque chose au jardin. Peut etre c'est sou moutard au bonhomme. Faut etre humain, voyez vous… [Ребенок? Я слышал, что то пищало в саду. Может быть, это его ребенок. Что ж, надо по человечеству. Мы все люди…]
– Ou est il? Ou est il? [Где он? Где он?] – спрашивал Пьер.
– Par ici! Par ici! [Сюда, сюда!] – кричал ему француз из окна, показывая на сад, бывший за домом. – Attendez, je vais descendre. [Погодите, я сейчас сойду.]
И действительно, через минуту француз, черноглазый малый с каким то пятном на щеке, в одной рубашке выскочил из окна нижнего этажа и, хлопнув Пьера по плечу, побежал с ним в сад.
– Depechez vous, vous autres, – крикнул он своим товарищам, – commence a faire chaud. [Эй, вы, живее, припекать начинает.]
Выбежав за дом на усыпанную песком дорожку, француз дернул за руку Пьера и указал ему на круг. Под скамейкой лежала трехлетняя девочка в розовом платьице.
– Voila votre moutard. Ah, une petite, tant mieux, – сказал француз. – Au revoir, mon gros. Faut etre humain. Nous sommes tous mortels, voyez vous, [Вот ваш ребенок. А, девочка, тем лучше. До свидания, толстяк. Что ж, надо по человечеству. Все люди,] – и француз с пятном на щеке побежал назад к своим товарищам.
Пьер, задыхаясь от радости, подбежал к девочке и хотел взять ее на руки. Но, увидав чужого человека, золотушно болезненная, похожая на мать, неприятная на вид девочка закричала и бросилась бежать. Пьер, однако, схватил ее и поднял на руки; она завизжала отчаянно злобным голосом и своими маленькими ручонками стала отрывать от себя руки Пьера и сопливым ртом кусать их. Пьера охватило чувство ужаса и гадливости, подобное тому, которое он испытывал при прикосновении к какому нибудь маленькому животному. Но он сделал усилие над собою, чтобы не бросить ребенка, и побежал с ним назад к большому дому. Но пройти уже нельзя было назад той же дорогой; девки Аниски уже не было, и Пьер с чувством жалости и отвращения, прижимая к себе как можно нежнее страдальчески всхлипывавшую и мокрую девочку, побежал через сад искать другого выхода.
Когда Пьер, обежав дворами и переулками, вышел назад с своей ношей к саду Грузинского, на углу Поварской, он в первую минуту не узнал того места, с которого он пошел за ребенком: так оно было загромождено народом и вытащенными из домов пожитками. Кроме русских семей с своим добром, спасавшихся здесь от пожара, тут же было и несколько французских солдат в различных одеяниях. Пьер не обратил на них внимания. Он спешил найти семейство чиновника, с тем чтобы отдать дочь матери и идти опять спасать еще кого то. Пьеру казалось, что ему что то еще многое и поскорее нужно сделать. Разгоревшись от жара и беготни, Пьер в эту минуту еще сильнее, чем прежде, испытывал то чувство молодости, оживления и решительности, которое охватило его в то время, как он побежал спасать ребенка. Девочка затихла теперь и, держась ручонками за кафтан Пьера, сидела на его руке и, как дикий зверек, оглядывалась вокруг себя. Пьер изредка поглядывал на нее и слегка улыбался. Ему казалось, что он видел что то трогательно невинное и ангельское в этом испуганном и болезненном личике.
На прежнем месте ни чиновника, ни его жены уже не было. Пьер быстрыми шагами ходил между народом, оглядывая разные лица, попадавшиеся ему. Невольно он заметил грузинское или армянское семейство, состоявшее из красивого, с восточным типом лица, очень старого человека, одетого в новый крытый тулуп и новые сапоги, старухи такого же типа и молодой женщины. Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным, необыкновенно нежно румяным и красивым лицом без всякого выражения. Среди раскиданных пожитков, в толпе на площади, она, в своем богатом атласном салопе и ярко лиловом платке, накрывавшем ее голову, напоминала нежное тепличное растение, выброшенное на снег. Она сидела на узлах несколько позади старухи и неподвижно большими черными продолговатыми, с длинными ресницами, глазами смотрела в землю. Видимо, она знала свою красоту и боялась за нее. Лицо это поразило Пьера, и он, в своей поспешности, проходя вдоль забора, несколько раз оглянулся на нее. Дойдя до забора и все таки не найдя тех, кого ему было нужно, Пьер остановился, оглядываясь.
Фигура Пьера с ребенком на руках теперь была еще более замечательна, чем прежде, и около него собралось несколько человек русских мужчин и женщин.
– Или потерял кого, милый человек? Сами вы из благородных, что ли? Чей ребенок то? – спрашивали у него.
Пьер отвечал, что ребенок принадлежал женщине и черном салопе, которая сидела с детьми на этом месте, и спрашивал, не знает ли кто ее и куда она перешла.
– Ведь это Анферовы должны быть, – сказал старый дьякон, обращаясь к рябой бабе. – Господи помилуй, господи помилуй, – прибавил он привычным басом.
– Где Анферовы! – сказала баба. – Анферовы еще с утра уехали. А это либо Марьи Николавны, либо Ивановы.
– Он говорит – женщина, а Марья Николавна – барыня, – сказал дворовый человек.
– Да вы знаете ее, зубы длинные, худая, – говорил Пьер.
– И есть Марья Николавна. Они ушли в сад, как тут волки то эти налетели, – сказала баба, указывая на французских солдат.
– О, господи помилуй, – прибавил опять дьякон.
– Вы пройдите вот туда то, они там. Она и есть. Все убивалась, плакала, – сказала опять баба. – Она и есть. Вот сюда то.
Но Пьер не слушал бабу. Он уже несколько секунд, не спуская глаз, смотрел на то, что делалось в нескольких шагах от него. Он смотрел на армянское семейство и двух французских солдат, подошедших к армянам. Один из этих солдат, маленький вертлявый человечек, был одет в синюю шинель, подпоясанную веревкой. На голове его был колпак, и ноги были босые. Другой, который особенно поразил Пьера, был длинный, сутуловатый, белокурый, худой человек с медлительными движениями и идиотическим выражением лица. Этот был одет в фризовый капот, в синие штаны и большие рваные ботфорты. Маленький француз, без сапог, в синей шипели, подойдя к армянам, тотчас же, сказав что то, взялся за ноги старика, и старик тотчас же поспешно стал снимать сапоги. Другой, в капоте, остановился против красавицы армянки и молча, неподвижно, держа руки в карманах, смотрел на нее.
– Возьми, возьми ребенка, – проговорил Пьер, подавая девочку и повелительно и поспешно обращаясь к бабе. – Ты отдай им, отдай! – закричал он почти на бабу, сажая закричавшую девочку на землю, и опять оглянулся на французов и на армянское семейство. Старик уже сидел босой. Маленький француз снял с него последний сапог и похлопывал сапогами один о другой. Старик, всхлипывая, говорил что то, но Пьер только мельком видел это; все внимание его было обращено на француза в капоте, который в это время, медлительно раскачиваясь, подвинулся к молодой женщине и, вынув руки из карманов, взялся за ее шею.
Красавица армянка продолжала сидеть в том же неподвижном положении, с опущенными длинными ресницами, и как будто не видала и не чувствовала того, что делал с нею солдат.
Пока Пьер пробежал те несколько шагов, которые отделяли его от французов, длинный мародер в капоте уж рвал с шеи армянки ожерелье, которое было на ней, и молодая женщина, хватаясь руками за шею, кричала пронзительным голосом.
– Laissez cette femme! [Оставьте эту женщину!] – бешеным голосом прохрипел Пьер, схватывая длинного, сутоловатого солдата за плечи и отбрасывая его. Солдат упал, приподнялся и побежал прочь. Но товарищ его, бросив сапоги, вынул тесак и грозно надвинулся на Пьера.
– Voyons, pas de betises! [Ну, ну! Не дури!] – крикнул он.
Пьер был в том восторге бешенства, в котором он ничего не помнил и в котором силы его удесятерялись. Он бросился на босого француза и, прежде чем тот успел вынуть свой тесак, уже сбил его с ног и молотил по нем кулаками. Послышался одобрительный крик окружавшей толпы, в то же время из за угла показался конный разъезд французских уланов. Уланы рысью подъехали к Пьеру и французу и окружили их. Пьер ничего не помнил из того, что было дальше. Он помнил, что он бил кого то, его били и что под конец он почувствовал, что руки его связаны, что толпа французских солдат стоит вокруг него и обыскивает его платье.
– Il a un poignard, lieutenant, [Поручик, у него кинжал,] – были первые слова, которые понял Пьер.
– Ah, une arme! [А, оружие!] – сказал офицер и обратился к босому солдату, который был взят с Пьером.
– C'est bon, vous direz tout cela au conseil de guerre, [Хорошо, хорошо, на суде все расскажешь,] – сказал офицер. И вслед за тем повернулся к Пьеру: – Parlez vous francais vous? [Говоришь ли по французски?]
Пьер оглядывался вокруг себя налившимися кровью глазами и не отвечал. Вероятно, лицо его показалось очень страшно, потому что офицер что то шепотом сказал, и еще четыре улана отделились от команды и стали по обеим сторонам Пьера.
– Parlez vous francais? – повторил ему вопрос офицер, держась вдали от него. – Faites venir l'interprete. [Позовите переводчика.] – Из за рядов выехал маленький человечек в штатском русском платье. Пьер по одеянию и говору его тотчас же узнал в нем француза одного из московских магазинов.
– Il n'a pas l'air d'un homme du peuple, [Он не похож на простолюдина,] – сказал переводчик, оглядев Пьера.
– Oh, oh! ca m'a bien l'air d'un des incendiaires, – смазал офицер. – Demandez lui ce qu'il est? [О, о! он очень похож на поджигателя. Спросите его, кто он?] – прибавил он.
– Ти кто? – спросил переводчик. – Ти должно отвечать начальство, – сказал он.
– Je ne vous dirai pas qui je suis. Je suis votre prisonnier. Emmenez moi, [Я не скажу вам, кто я. Я ваш пленный. Уводите меня,] – вдруг по французски сказал Пьер.
– Ah, Ah! – проговорил офицер, нахмурившись. – Marchons! [A! A! Ну, марш!]
Около улан собралась толпа. Ближе всех к Пьеру стояла рябая баба с девочкою; когда объезд тронулся, она подвинулась вперед.
– Куда же это ведут тебя, голубчик ты мой? – сказала она. – Девочку то, девочку то куда я дену, коли она не ихняя! – говорила баба.
– Qu'est ce qu'elle veut cette femme? [Чего ей нужно?] – спросил офицер.
Пьер был как пьяный. Восторженное состояние его еще усилилось при виде девочки, которую он спас.
– Ce qu'elle dit? – проговорил он. – Elle m'apporte ma fille que je viens de sauver des flammes, – проговорил он. – Adieu! [Чего ей нужно? Она несет дочь мою, которую я спас из огня. Прощай!] – и он, сам не зная, как вырвалась у него эта бесцельная ложь, решительным, торжественным шагом пошел между французами.
Разъезд французов был один из тех, которые были посланы по распоряжению Дюронеля по разным улицам Москвы для пресечения мародерства и в особенности для поимки поджигателей, которые, по общему, в тот день проявившемуся, мнению у французов высших чинов, были причиною пожаров. Объехав несколько улиц, разъезд забрал еще человек пять подозрительных русских, одного лавочника, двух семинаристов, мужика и дворового человека и нескольких мародеров. Но из всех подозрительных людей подозрительнее всех казался Пьер. Когда их всех привели на ночлег в большой дом на Зубовском валу, в котором была учреждена гауптвахта, то Пьера под строгим караулом поместили отдельно.
В Петербурге в это время в высших кругах, с большим жаром чем когда нибудь, шла сложная борьба партий Румянцева, французов, Марии Феодоровны, цесаревича и других, заглушаемая, как всегда, трубением придворных трутней. Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по старому; и из за хода этой жизни надо было делать большие усилия, чтобы сознавать опасность и то трудное положение, в котором находился русский народ. Те же были выходы, балы, тот же французский театр, те же интересы дворов, те же интересы службы и интриги. Только в самых высших кругах делались усилия для того, чтобы напоминать трудность настоящего положения. Рассказывалось шепотом о том, как противоположно одна другой поступили, в столь трудных обстоятельствах, обе императрицы. Императрица Мария Феодоровна, озабоченная благосостоянием подведомственных ей богоугодных и воспитательных учреждений, сделала распоряжение об отправке всех институтов в Казань, и вещи этих заведений уже были уложены. Императрица же Елизавета Алексеевна на вопрос о том, какие ей угодно сделать распоряжения, с свойственным ей русским патриотизмом изволила ответить, что о государственных учреждениях она не может делать распоряжений, так как это касается государя; о том же, что лично зависит от нее, она изволила сказать, что она последняя выедет из Петербурга.
У Анны Павловны 26 го августа, в самый день Бородинского сражения, был вечер, цветком которого должно было быть чтение письма преосвященного, написанного при посылке государю образа преподобного угодника Сергия. Письмо это почиталось образцом патриотического духовного красноречия. Прочесть его должен был сам князь Василий, славившийся своим искусством чтения. (Он же читывал и у императрицы.) Искусство чтения считалось в том, чтобы громко, певуче, между отчаянным завыванием и нежным ропотом переливать слова, совершенно независимо от их значения, так что совершенно случайно на одно слово попадало завывание, на другие – ропот. Чтение это, как и все вечера Анны Павловны, имело политическое значение. На этом вечере должно было быть несколько важных лиц, которых надо было устыдить за их поездки во французский театр и воодушевить к патриотическому настроению. Уже довольно много собралось народа, но Анна Павловна еще не видела в гостиной всех тех, кого нужно было, и потому, не приступая еще к чтению, заводила общие разговоры.
Новостью дня в этот день в Петербурге была болезнь графини Безуховой. Графиня несколько дней тому назад неожиданно заболела, пропустила несколько собраний, которых она была украшением, и слышно было, что она никого не принимает и что вместо знаменитых петербургских докторов, обыкновенно лечивших ее, она вверилась какому то итальянскому доктору, лечившему ее каким то новым и необыкновенным способом.
Все очень хорошо знали, что болезнь прелестной графини происходила от неудобства выходить замуж сразу за двух мужей и что лечение итальянца состояло в устранении этого неудобства; но в присутствии Анны Павловны не только никто не смел думать об этом, но как будто никто и не знал этого.
– On dit que la pauvre comtesse est tres mal. Le medecin dit que c'est l'angine pectorale. [Говорят, что бедная графиня очень плоха. Доктор сказал, что это грудная болезнь.]
– L'angine? Oh, c'est une maladie terrible! [Грудная болезнь? О, это ужасная болезнь!]
– On dit que les rivaux se sont reconcilies grace a l'angine… [Говорят, что соперники примирились благодаря этой болезни.]
Слово angine повторялось с большим удовольствием.
– Le vieux comte est touchant a ce qu'on dit. Il a pleure comme un enfant quand le medecin lui a dit que le cas etait dangereux. [Старый граф очень трогателен, говорят. Он заплакал, как дитя, когда доктор сказал, что случай опасный.]
– Oh, ce serait une perte terrible. C'est une femme ravissante. [О, это была бы большая потеря. Такая прелестная женщина.]
– Vous parlez de la pauvre comtesse, – сказала, подходя, Анна Павловна. – J'ai envoye savoir de ses nouvelles. On m'a dit qu'elle allait un peu mieux. Oh, sans doute, c'est la plus charmante femme du monde, – сказала Анна Павловна с улыбкой над своей восторженностью. – Nous appartenons a des camps differents, mais cela ne m'empeche pas de l'estimer, comme elle le merite. Elle est bien malheureuse, [Вы говорите про бедную графиню… Я посылала узнавать о ее здоровье. Мне сказали, что ей немного лучше. О, без сомнения, это прелестнейшая женщина в мире. Мы принадлежим к различным лагерям, но это не мешает мне уважать ее по ее заслугам. Она так несчастна.] – прибавила Анна Павловна.
Полагая, что этими словами Анна Павловна слегка приподнимала завесу тайны над болезнью графини, один неосторожный молодой человек позволил себе выразить удивление в том, что не призваны известные врачи, а лечит графиню шарлатан, который может дать опасные средства.
– Vos informations peuvent etre meilleures que les miennes, – вдруг ядовито напустилась Анна Павловна на неопытного молодого человека. – Mais je sais de bonne source que ce medecin est un homme tres savant et tres habile. C'est le medecin intime de la Reine d'Espagne. [Ваши известия могут быть вернее моих… но я из хороших источников знаю, что этот доктор очень ученый и искусный человек. Это лейб медик королевы испанской.] – И таким образом уничтожив молодого человека, Анна Павловна обратилась к Билибину, который в другом кружке, подобрав кожу и, видимо, сбираясь распустить ее, чтобы сказать un mot, говорил об австрийцах.
– Je trouve que c'est charmant! [Я нахожу, что это прелестно!] – говорил он про дипломатическую бумагу, при которой отосланы были в Вену австрийские знамена, взятые Витгенштейном, le heros de Petropol [героем Петрополя] (как его называли в Петербурге).
– Как, как это? – обратилась к нему Анна Павловна, возбуждая молчание для услышания mot, которое она уже знала.
И Билибин повторил следующие подлинные слова дипломатической депеши, им составленной:
– L'Empereur renvoie les drapeaux Autrichiens, – сказал Билибин, – drapeaux amis et egares qu'il a trouve hors de la route, [Император отсылает австрийские знамена, дружеские и заблудшиеся знамена, которые он нашел вне настоящей дороги.] – докончил Билибин, распуская кожу.
– Charmant, charmant, [Прелестно, прелестно,] – сказал князь Василий.
– C'est la route de Varsovie peut etre, [Это варшавская дорога, может быть.] – громко и неожиданно сказал князь Ипполит. Все оглянулись на него, не понимая того, что он хотел сказать этим. Князь Ипполит тоже с веселым удивлением оглядывался вокруг себя. Он так же, как и другие, не понимал того, что значили сказанные им слова. Он во время своей дипломатической карьеры не раз замечал, что таким образом сказанные вдруг слова оказывались очень остроумны, и он на всякий случай сказал эти слова, первые пришедшие ему на язык. «Может, выйдет очень хорошо, – думал он, – а ежели не выйдет, они там сумеют это устроить». Действительно, в то время как воцарилось неловкое молчание, вошло то недостаточно патриотическое лицо, которого ждала для обращения Анна Павловна, и она, улыбаясь и погрозив пальцем Ипполиту, пригласила князя Василия к столу, и, поднося ему две свечи и рукопись, попросила его начать. Все замолкло.
– Всемилостивейший государь император! – строго провозгласил князь Василий и оглянул публику, как будто спрашивая, не имеет ли кто сказать что нибудь против этого. Но никто ничего не сказал. – «Первопрестольный град Москва, Новый Иерусалим, приемлет Христа своего, – вдруг ударил он на слове своего, – яко мать во объятия усердных сынов своих, и сквозь возникающую мглу, провидя блистательную славу твоея державы, поет в восторге: «Осанна, благословен грядый!» – Князь Василий плачущим голосом произнес эти последние слова.
Билибин рассматривал внимательно свои ногти, и многие, видимо, робели, как бы спрашивая, в чем же они виноваты? Анна Павловна шепотом повторяла уже вперед, как старушка молитву причастия: «Пусть дерзкий и наглый Голиаф…» – прошептала она.
Князь Василий продолжал:
– «Пусть дерзкий и наглый Голиаф от пределов Франции обносит на краях России смертоносные ужасы; кроткая вера, сия праща российского Давида, сразит внезапно главу кровожаждущей его гордыни. Се образ преподобного Сергия, древнего ревнителя о благе нашего отечества, приносится вашему императорскому величеству. Болезную, что слабеющие мои силы препятствуют мне насладиться любезнейшим вашим лицезрением. Теплые воссылаю к небесам молитвы, да всесильный возвеличит род правых и исполнит во благих желания вашего величества».
– Quelle force! Quel style! [Какая сила! Какой слог!] – послышались похвалы чтецу и сочинителю. Воодушевленные этой речью, гости Анны Павловны долго еще говорили о положении отечества и делали различные предположения об исходе сражения, которое на днях должно было быть дано.
– Vous verrez, [Вы увидите.] – сказала Анна Павловна, – что завтра, в день рождения государя, мы получим известие. У меня есть хорошее предчувствие.
Предчувствие Анны Павловны действительно оправдалось. На другой день, во время молебствия во дворце по случаю дня рождения государя, князь Волконский был вызван из церкви и получил конверт от князя Кутузова. Это было донесение Кутузова, писанное в день сражения из Татариновой. Кутузов писал, что русские не отступили ни на шаг, что французы потеряли гораздо более нашего, что он доносит второпях с поля сражения, не успев еще собрать последних сведений. Стало быть, это была победа. И тотчас же, не выходя из храма, была воздана творцу благодарность за его помощь и за победу.
Предчувствие Анны Павловны оправдалось, и в городе все утро царствовало радостно праздничное настроение духа. Все признавали победу совершенною, и некоторые уже говорили о пленении самого Наполеона, о низложении его и избрании новой главы для Франции.
Вдали от дела и среди условий придворной жизни весьма трудно, чтобы события отражались во всей их полноте и силе. Невольно события общие группируются около одного какого нибудь частного случая. Так теперь главная радость придворных заключалась столько же в том, что мы победили, сколько и в том, что известие об этой победе пришлось именно в день рождения государя. Это было как удавшийся сюрприз. В известии Кутузова сказано было тоже о потерях русских, и в числе их названы Тучков, Багратион, Кутайсов. Тоже и печальная сторона события невольно в здешнем, петербургском мире сгруппировалась около одного события – смерти Кутайсова. Его все знали, государь любил его, он был молод и интересен. В этот день все встречались с словами:
– Как удивительно случилось. В самый молебен. А какая потеря Кутайсов! Ах, как жаль!
– Что я вам говорил про Кутузова? – говорил теперь князь Василий с гордостью пророка. – Я говорил всегда, что он один способен победить Наполеона.
Но на другой день не получалось известия из армии, и общий голос стал тревожен. Придворные страдали за страдания неизвестности, в которой находился государь.
– Каково положение государя! – говорили придворные и уже не превозносили, как третьего дня, а теперь осуждали Кутузова, бывшего причиной беспокойства государя. Князь Василий в этот день уже не хвастался более своим protege Кутузовым, а хранил молчание, когда речь заходила о главнокомандующем. Кроме того, к вечеру этого дня как будто все соединилось для того, чтобы повергнуть в тревогу и беспокойство петербургских жителей: присоединилась еще одна страшная новость. Графиня Елена Безухова скоропостижно умерла от этой страшной болезни, которую так приятно было выговаривать. Официально в больших обществах все говорили, что графиня Безухова умерла от страшного припадка angine pectorale [грудной ангины], но в интимных кружках рассказывали подробности о том, как le medecin intime de la Reine d'Espagne [лейб медик королевы испанской] предписал Элен небольшие дозы какого то лекарства для произведения известного действия; но как Элен, мучимая тем, что старый граф подозревал ее, и тем, что муж, которому она писала (этот несчастный развратный Пьер), не отвечал ей, вдруг приняла огромную дозу выписанного ей лекарства и умерла в мучениях, прежде чем могли подать помощь. Рассказывали, что князь Василий и старый граф взялись было за итальянца; но итальянец показал такие записки от несчастной покойницы, что его тотчас же отпустили.
Общий разговор сосредоточился около трех печальных событий: неизвестности государя, погибели Кутайсова и смерти Элен.
На третий день после донесения Кутузова в Петербург приехал помещик из Москвы, и по всему городу распространилось известие о сдаче Москвы французам. Это было ужасно! Каково было положение государя! Кутузов был изменник, и князь Василий во время visites de condoleance [визитов соболезнования] по случаю смерти его дочери, которые ему делали, говорил о прежде восхваляемом им Кутузове (ему простительно было в печали забыть то, что он говорил прежде), он говорил, что нельзя было ожидать ничего другого от слепого и развратного старика.
– Я удивляюсь только, как можно было поручить такому человеку судьбу России.
Пока известие это было еще неофициально, в нем можно было еще сомневаться, но на другой день пришло от графа Растопчина следующее донесение:
«Адъютант князя Кутузова привез мне письмо, в коем он требует от меня полицейских офицеров для сопровождения армии на Рязанскую дорогу. Он говорит, что с сожалением оставляет Москву. Государь! поступок Кутузова решает жребий столицы и Вашей империи. Россия содрогнется, узнав об уступлении города, где сосредоточивается величие России, где прах Ваших предков. Я последую за армией. Я все вывез, мне остается плакать об участи моего отечества».
Получив это донесение, государь послал с князем Волконским следующий рескрипт Кутузову:
«Князь Михаил Иларионович! С 29 августа не имею я никаких донесений от вас. Между тем от 1 го сентября получил я через Ярославль, от московского главнокомандующего, печальное известие, что вы решились с армиею оставить Москву. Вы сами можете вообразить действие, какое произвело на меня это известие, а молчание ваше усугубляет мое удивление. Я отправляю с сим генерал адъютанта князя Волконского, дабы узнать от вас о положении армии и о побудивших вас причинах к столь печальной решимости».
Девять дней после оставления Москвы в Петербург приехал посланный от Кутузова с официальным известием об оставлении Москвы. Посланный этот был француз Мишо, не знавший по русски, но quoique etranger, Busse de c?ur et d'ame, [впрочем, хотя иностранец, но русский в глубине души,] как он сам говорил про себя.
Государь тотчас же принял посланного в своем кабинете, во дворце Каменного острова. Мишо, который никогда не видал Москвы до кампании и который не знал по русски, чувствовал себя все таки растроганным, когда он явился перед notre tres gracieux souverain [нашим всемилостивейшим повелителем] (как он писал) с известием о пожаре Москвы, dont les flammes eclairaient sa route [пламя которой освещало его путь].
Хотя источник chagrin [горя] г на Мишо и должен был быть другой, чем тот, из которого вытекало горе русских людей, Мишо имел такое печальное лицо, когда он был введен в кабинет государя, что государь тотчас же спросил у него:
– M'apportez vous de tristes nouvelles, colonel? [Какие известия привезли вы мне? Дурные, полковник?]
– Bien tristes, sire, – отвечал Мишо, со вздохом опуская глаза, – l'abandon de Moscou. [Очень дурные, ваше величество, оставление Москвы.]
– Aurait on livre mon ancienne capitale sans se battre? [Неужели предали мою древнюю столицу без битвы?] – вдруг вспыхнув, быстро проговорил государь.
Мишо почтительно передал то, что ему приказано было передать от Кутузова, – именно то, что под Москвою драться не было возможности и что, так как оставался один выбор – потерять армию и Москву или одну Москву, то фельдмаршал должен был выбрать последнее.
Государь выслушал молча, не глядя на Мишо.
– L'ennemi est il en ville? [Неприятель вошел в город?] – спросил он.
– Oui, sire, et elle est en cendres a l'heure qu'il est. Je l'ai laissee toute en flammes, [Да, ваше величество, и он обращен в пожарище в настоящее время. Я оставил его в пламени.] – решительно сказал Мишо; но, взглянув на государя, Мишо ужаснулся тому, что он сделал. Государь тяжело и часто стал дышать, нижняя губа его задрожала, и прекрасные голубые глаза мгновенно увлажились слезами.
Но это продолжалось только одну минуту. Государь вдруг нахмурился, как бы осуждая самого себя за свою слабость. И, приподняв голову, твердым голосом обратился к Мишо.
– Je vois, colonel, par tout ce qui nous arrive, – сказал он, – que la providence exige de grands sacrifices de nous… Je suis pret a me soumettre a toutes ses volontes; mais dites moi, Michaud, comment avez vous laisse l'armee, en voyant ainsi, sans coup ferir abandonner mon ancienne capitale? N'avez vous pas apercu du decouragement?.. [Я вижу, полковник, по всему, что происходит, что провидение требует от нас больших жертв… Я готов покориться его воле; но скажите мне, Мишо, как оставили вы армию, покидавшую без битвы мою древнюю столицу? Не заметили ли вы в ней упадка духа?]
Увидав успокоение своего tres gracieux souverain, Мишо тоже успокоился, но на прямой существенный вопрос государя, требовавший и прямого ответа, он не успел еще приготовить ответа.
– Sire, me permettrez vous de vous parler franchement en loyal militaire? [Государь, позволите ли вы мне говорить откровенно, как подобает настоящему воину?] – сказал он, чтобы выиграть время.
– Colonel, je l'exige toujours, – сказал государь. – Ne me cachez rien, je veux savoir absolument ce qu'il en est. [Полковник, я всегда этого требую… Не скрывайте ничего, я непременно хочу знать всю истину.]
– Sire! – сказал Мишо с тонкой, чуть заметной улыбкой на губах, успев приготовить свой ответ в форме легкого и почтительного jeu de mots [игры слов]. – Sire! j'ai laisse toute l'armee depuis les chefs jusqu'au dernier soldat, sans exception, dans une crainte epouvantable, effrayante… [Государь! Я оставил всю армию, начиная с начальников и до последнего солдата, без исключения, в великом, отчаянном страхе…]
– Comment ca? – строго нахмурившись, перебил государь. – Mes Russes se laisseront ils abattre par le malheur… Jamais!.. [Как так? Мои русские могут ли пасть духом перед неудачей… Никогда!..]
Этого только и ждал Мишо для вставления своей игры слов.
– Sire, – сказал он с почтительной игривостью выражения, – ils craignent seulement que Votre Majeste par bonte de c?ur ne se laisse persuader de faire la paix. Ils brulent de combattre, – говорил уполномоченный русского народа, – et de prouver a Votre Majeste par le sacrifice de leur vie, combien ils lui sont devoues… [Государь, они боятся только того, чтобы ваше величество по доброте души своей не решились заключить мир. Они горят нетерпением снова драться и доказать вашему величеству жертвой своей жизни, насколько они вам преданы…]
– Ah! – успокоенно и с ласковым блеском глаз сказал государь, ударяя по плечу Мишо. – Vous me tranquillisez, colonel. [А! Вы меня успокоиваете, полковник.]
Государь, опустив голову, молчал несколько времени.
– Eh bien, retournez a l'armee, [Ну, так возвращайтесь к армии.] – сказал он, выпрямляясь во весь рост и с ласковым и величественным жестом обращаясь к Мишо, – et dites a nos braves, dites a tous mes bons sujets partout ou vous passerez, que quand je n'aurais plus aucun soldat, je me mettrai moi meme, a la tete de ma chere noblesse, de mes bons paysans et j'userai ainsi jusqu'a la derniere ressource de mon empire. Il m'en offre encore plus que mes ennemis ne pensent, – говорил государь, все более и более воодушевляясь. – Mais si jamais il fut ecrit dans les decrets de la divine providence, – сказал он, подняв свои прекрасные, кроткие и блестящие чувством глаза к небу, – que ma dinastie dut cesser de rogner sur le trone de mes ancetres, alors, apres avoir epuise tous les moyens qui sont en mon pouvoir, je me laisserai croitre la barbe jusqu'ici (государь показал рукой на половину груди), et j'irai manger des pommes de terre avec le dernier de mes paysans plutot, que de signer la honte de ma patrie et de ma chere nation, dont je sais apprecier les sacrifices!.. [Скажите храбрецам нашим, скажите всем моим подданным, везде, где вы проедете, что, когда у меня не будет больше ни одного солдата, я сам стану во главе моих любезных дворян и добрых мужиков и истощу таким образом последние средства моего государства. Они больше, нежели думают мои враги… Но если бы предназначено было божественным провидением, чтобы династия наша перестала царствовать на престоле моих предков, тогда, истощив все средства, которые в моих руках, я отпущу бороду до сих пор и скорее пойду есть один картофель с последним из моих крестьян, нежели решусь подписать позор моей родины и моего дорогого народа, жертвы которого я умею ценить!..] Сказав эти слова взволнованным голосом, государь вдруг повернулся, как бы желая скрыть от Мишо выступившие ему на глаза слезы, и прошел в глубь своего кабинета. Постояв там несколько мгновений, он большими шагами вернулся к Мишо и сильным жестом сжал его руку пониже локтя. Прекрасное, кроткое лицо государя раскраснелось, и глаза горели блеском решимости и гнева.
– Colonel Michaud, n'oubliez pas ce que je vous dis ici; peut etre qu'un jour nous nous le rappellerons avec plaisir… Napoleon ou moi, – сказал государь, дотрогиваясь до груди. – Nous ne pouvons plus regner ensemble. J'ai appris a le connaitre, il ne me trompera plus… [Полковник Мишо, не забудьте, что я вам сказал здесь; может быть, мы когда нибудь вспомним об этом с удовольствием… Наполеон или я… Мы больше не можем царствовать вместе. Я узнал его теперь, и он меня больше не обманет…] – И государь, нахмурившись, замолчал. Услышав эти слова, увидав выражение твердой решимости в глазах государя, Мишо – quoique etranger, mais Russe de c?ur et d'ame – почувствовал себя в эту торжественную минуту – entousiasme par tout ce qu'il venait d'entendre [хотя иностранец, но русский в глубине души… восхищенным всем тем, что он услышал] (как он говорил впоследствии), и он в следующих выражениях изобразил как свои чувства, так и чувства русского народа, которого он считал себя уполномоченным.
– Sire! – сказал он. – Votre Majeste signe dans ce moment la gloire de la nation et le salut de l'Europe! [Государь! Ваше величество подписывает в эту минуту славу народа и спасение Европы!]
Государь наклонением головы отпустил Мишо.
В то время как Россия была до половины завоевана, и жители Москвы бежали в дальние губернии, и ополченье за ополченьем поднималось на защиту отечества, невольно представляется нам, не жившим в то время, что все русские люди от мала до велика были заняты только тем, чтобы жертвовать собою, спасать отечество или плакать над его погибелью. Рассказы, описания того времени все без исключения говорят только о самопожертвовании, любви к отечеству, отчаянье, горе и геройстве русских. В действительности же это так не было. Нам кажется это так только потому, что мы видим из прошедшего один общий исторический интерес того времени и не видим всех тех личных, человеческих интересов, которые были у людей того времени. А между тем в действительности те личные интересы настоящего до такой степени значительнее общих интересов, что из за них никогда не чувствуется (вовсе не заметен даже) интерес общий. Большая часть людей того времени не обращали никакого внимания на общий ход дел, а руководились только личными интересами настоящего. И эти то люди были самыми полезными деятелями того времени.
Те же, которые пытались понять общий ход дел и с самопожертвованием и геройством хотели участвовать в нем, были самые бесполезные члены общества; они видели все навыворот, и все, что они делали для пользы, оказывалось бесполезным вздором, как полки Пьера, Мамонова, грабившие русские деревни, как корпия, щипанная барынями и никогда не доходившая до раненых, и т. п. Даже те, которые, любя поумничать и выразить свои чувства, толковали о настоящем положении России, невольно носили в речах своих отпечаток или притворства и лжи, или бесполезного осуждения и злобы на людей, обвиняемых за то, в чем никто не мог быть виноват. В исторических событиях очевиднее всего запрещение вкушения плода древа познания. Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и человек, играющий роль в историческом событии, никогда не понимает его значения. Ежели он пытается понять его, он поражается бесплодностью.
Значение совершавшегося тогда в России события тем незаметнее было, чем ближе было в нем участие человека. В Петербурге и губернских городах, отдаленных от Москвы, дамы и мужчины в ополченских мундирах оплакивали Россию и столицу и говорили о самопожертвовании и т. п.; но в армии, которая отступала за Москву, почти не говорили и не думали о Москве, и, глядя на ее пожарище, никто не клялся отомстить французам, а думали о следующей трети жалованья, о следующей стоянке, о Матрешке маркитантше и тому подобное…
Николай Ростов без всякой цели самопожертвования, а случайно, так как война застала его на службе, принимал близкое и продолжительное участие в защите отечества и потому без отчаяния и мрачных умозаключений смотрел на то, что совершалось тогда в России. Ежели бы у него спросили, что он думает о теперешнем положении России, он бы сказал, что ему думать нечего, что на то есть Кутузов и другие, а что он слышал, что комплектуются полки, и что, должно быть, драться еще долго будут, и что при теперешних обстоятельствах ему не мудрено года через два получить полк.
По тому, что он так смотрел на дело, он не только без сокрушения о том, что лишается участия в последней борьбе, принял известие о назначении его в командировку за ремонтом для дивизии в Воронеж, но и с величайшим удовольствием, которое он не скрывал и которое весьма хорошо понимали его товарищи.
За несколько дней до Бородинского сражения Николай получил деньги, бумаги и, послав вперед гусар, на почтовых поехал в Воронеж.
Только тот, кто испытал это, то есть пробыл несколько месяцев не переставая в атмосфере военной, боевой жизни, может понять то наслаждение, которое испытывал Николай, когда он выбрался из того района, до которого достигали войска своими фуражировками, подвозами провианта, гошпиталями; когда он, без солдат, фур, грязных следов присутствия лагеря, увидал деревни с мужиками и бабами, помещичьи дома, поля с пасущимся скотом, станционные дома с заснувшими смотрителями. Он почувствовал такую радость, как будто в первый раз все это видел. В особенности то, что долго удивляло и радовало его, – это были женщины, молодые, здоровые, за каждой из которых не было десятка ухаживающих офицеров, и женщины, которые рады и польщены были тем, что проезжий офицер шутит с ними.
В самом веселом расположении духа Николай ночью приехал в Воронеж в гостиницу, заказал себе все то, чего он долго лишен был в армии, и на другой день, чисто начисто выбрившись и надев давно не надеванную парадную форму, поехал являться к начальству.
Начальник ополчения был статский генерал, старый человек, который, видимо, забавлялся своим военным званием и чином. Он сердито (думая, что в этом военное свойство) принял Николая и значительно, как бы имея на то право и как бы обсуживая общий ход дела, одобряя и не одобряя, расспрашивал его. Николай был так весел, что ему только забавно было это.
От начальника ополчения он поехал к губернатору. Губернатор был маленький живой человечек, весьма ласковый и простой. Он указал Николаю на те заводы, в которых он мог достать лошадей, рекомендовал ему барышника в городе и помещика за двадцать верст от города, у которых были лучшие лошади, и обещал всякое содействие.
– Вы графа Ильи Андреевича сын? Моя жена очень дружна была с вашей матушкой. По четвергам у меня собираются; нынче четверг, милости прошу ко мне запросто, – сказал губернатор, отпуская его.
Прямо от губернатора Николай взял перекладную и, посадив с собою вахмистра, поскакал за двадцать верст на завод к помещику. Все в это первое время пребывания его в Воронеже было для Николая весело и легко, и все, как это бывает, когда человек сам хорошо расположен, все ладилось и спорилось.
Помещик, к которому приехал Николай, был старый кавалерист холостяк, лошадиный знаток, охотник, владетель коверной, столетней запеканки, старого венгерского и чудных лошадей.
Николай в два слова купил за шесть тысяч семнадцать жеребцов на подбор (как он говорил) для казового конца своего ремонта. Пообедав и выпив немножко лишнего венгерского, Ростов, расцеловавшись с помещиком, с которым он уже сошелся на «ты», по отвратительной дороге, в самом веселом расположении духа, поскакал назад, беспрестанно погоняя ямщика, с тем чтобы поспеть на вечер к губернатору.
Переодевшись, надушившись и облив голову холодной подои, Николай хотя несколько поздно, но с готовой фразой: vaut mieux tard que jamais, [лучше поздно, чем никогда,] явился к губернатору.
Это был не бал, и не сказано было, что будут танцевать; но все знали, что Катерина Петровна будет играть на клавикордах вальсы и экосезы и что будут танцевать, и все, рассчитывая на это, съехались по бальному.
Губернская жизнь в 1812 году была точно такая же, как и всегда, только с тою разницею, что в городе было оживленнее по случаю прибытия многих богатых семей из Москвы и что, как и во всем, что происходило в то время в России, была заметна какая то особенная размашистость – море по колено, трын трава в жизни, да еще в том, что тот пошлый разговор, который необходим между людьми и который прежде велся о погоде и об общих знакомых, теперь велся о Москве, о войске и Наполеоне.
Общество, собранное у губернатора, было лучшее общество Воронежа.
Дам было очень много, было несколько московских знакомых Николая; но мужчин не было никого, кто бы сколько нибудь мог соперничать с георгиевским кавалером, ремонтером гусаром и вместе с тем добродушным и благовоспитанным графом Ростовым. В числе мужчин был один пленный итальянец – офицер французской армии, и Николай чувствовал, что присутствие этого пленного еще более возвышало значение его – русского героя. Это был как будто трофей. Николай чувствовал это, и ему казалось, что все так же смотрели на итальянца, и Николай обласкал этого офицера с достоинством и воздержностью.
Как только вошел Николай в своей гусарской форме, распространяя вокруг себя запах духов и вина, и сам сказал и слышал несколько раз сказанные ему слова: vaut mieux tard que jamais, его обступили; все взгляды обратились на него, и он сразу почувствовал, что вступил в подобающее ему в губернии и всегда приятное, но теперь, после долгого лишения, опьянившее его удовольствием положение всеобщего любимца. Не только на станциях, постоялых дворах и в коверной помещика были льстившиеся его вниманием служанки; но здесь, на вечере губернатора, было (как показалось Николаю) неисчерпаемое количество молоденьких дам и хорошеньких девиц, которые с нетерпением только ждали того, чтобы Николай обратил на них внимание. Дамы и девицы кокетничали с ним, и старушки с первого дня уже захлопотали о том, как бы женить и остепенить этого молодца повесу гусара. В числе этих последних была сама жена губернатора, которая приняла Ростова, как близкого родственника, и называла его «Nicolas» и «ты».
Катерина Петровна действительно стала играть вальсы и экосезы, и начались танцы, в которых Николай еще более пленил своей ловкостью все губернское общество. Он удивил даже всех своей особенной, развязной манерой в танцах. Николай сам был несколько удивлен своей манерой танцевать в этот вечер. Он никогда так не танцевал в Москве и счел бы даже неприличным и mauvais genre [дурным тоном] такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность удивить их всех чем нибудь необыкновенным, чем нибудь таким, что они должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в провинции.
Во весь вечер Николай обращал больше всего внимания на голубоглазую, полную и миловидную блондинку, жену одного из губернских чиновников. С тем наивным убеждением развеселившихся молодых людей, что чужие жены сотворены для них, Ростов не отходил от этой дамы и дружески, несколько заговорщически, обращался с ее мужем, как будто они хотя и не говорили этого, но знали, как славно они сойдутся – то есть Николай с женой этого мужа. Муж, однако, казалось, не разделял этого убеждения и старался мрачно обращаться с Ростовым. Но добродушная наивность Николая была так безгранична, что иногда муж невольно поддавался веселому настроению духа Николая. К концу вечера, однако, по мере того как лицо жены становилось все румянее и оживленнее, лицо ее мужа становилось все грустнее и бледнее, как будто доля оживления была одна на обоих, и по мере того как она увеличивалась в жене, она уменьшалась в муже.
Николай, с несходящей улыбкой на лице, несколько изогнувшись на кресле, сидел, близко наклоняясь над блондинкой и говоря ей мифологические комплименты.
Переменяя бойко положение ног в натянутых рейтузах, распространяя от себя запах духов и любуясь и своей дамой, и собою, и красивыми формами своих ног под натянутыми кичкирами, Николай говорил блондинке, что он хочет здесь, в Воронеже, похитить одну даму.
– Какую же?
– Прелестную, божественную. Глаза у ней (Николай посмотрел на собеседницу) голубые, рот – кораллы, белизна… – он глядел на плечи, – стан – Дианы…
Муж подошел к ним и мрачно спросил у жены, о чем она говорит.
– А! Никита Иваныч, – сказал Николай, учтиво вставая. И, как бы желая, чтобы Никита Иваныч принял участие в его шутках, он начал и ему сообщать свое намерение похитить одну блондинку.
Муж улыбался угрюмо, жена весело. Добрая губернаторша с неодобрительным видом подошла к ним.
– Анна Игнатьевна хочет тебя видеть, Nicolas, – сказала она, таким голосом выговаривая слова: Анна Игнатьевна, что Ростову сейчас стало понятно, что Анна Игнатьевна очень важная дама. – Пойдем, Nicolas. Ведь ты позволил мне так называть тебя?
– О да, ma tante. Кто же это?
– Анна Игнатьевна Мальвинцева. Она слышала о тебе от своей племянницы, как ты спас ее… Угадаешь?..
– Мало ли я их там спасал! – сказал Николай.
– Ее племянницу, княжну Болконскую. Она здесь, в Воронеже, с теткой. Ого! как покраснел! Что, или?..
– И не думал, полноте, ma tante.
– Ну хорошо, хорошо. О! какой ты!
Губернаторша подводила его к высокой и очень толстой старухе в голубом токе, только что кончившей свою карточную партию с самыми важными лицами в городе. Это была Мальвинцева, тетка княжны Марьи по матери, богатая бездетная вдова, жившая всегда в Воронеже. Она стояла, рассчитываясь за карты, когда Ростов подошел к ней. Она строго и важно прищурилась, взглянула на него и продолжала бранить генерала, выигравшего у нее.
– Очень рада, мой милый, – сказала она, протянув ему руку. – Милости прошу ко мне.
Поговорив о княжне Марье и покойнике ее отце, которого, видимо, не любила Мальвинцева, и расспросив о том, что Николай знал о князе Андрее, который тоже, видимо, не пользовался ее милостями, важная старуха отпустила его, повторив приглашение быть у нее.
Николай обещал и опять покраснел, когда откланивался Мальвинцевой. При упоминании о княжне Марье Ростов испытывал непонятное для него самого чувство застенчивости, даже страха.
Отходя от Мальвинцевой, Ростов хотел вернуться к танцам, но маленькая губернаторша положила свою пухленькую ручку на рукав Николая и, сказав, что ей нужно поговорить с ним, повела его в диванную, из которой бывшие в ней вышли тотчас же, чтобы не мешать губернаторше.
– Знаешь, mon cher, – сказала губернаторша с серьезным выражением маленького доброго лица, – вот это тебе точно партия; хочешь, я тебя сосватаю?
– Кого, ma tante? – спросил Николай.
– Княжну сосватаю. Катерина Петровна говорит, что Лили, а по моему, нет, – княжна. Хочешь? Я уверена, твоя maman благодарить будет. Право, какая девушка, прелесть! И она совсем не так дурна.
– Совсем нет, – как бы обидевшись, сказал Николай. – Я, ma tante, как следует солдату, никуда не напрашиваюсь и ни от чего не отказываюсь, – сказал Ростов прежде, чем он успел подумать о том, что он говорит.
– Так помни же: это не шутка.
– Какая шутка!
– Да, да, – как бы сама с собою говоря, сказала губернаторша. – А вот что еще, mon cher, entre autres. Vous etes trop assidu aupres de l'autre, la blonde. [мой друг. Ты слишком ухаживаешь за той, за белокурой.] Муж уж жалок, право…
– Ах нет, мы с ним друзья, – в простоте душевной сказал Николай: ему и в голову не приходило, чтобы такое веселое для него препровождение времени могло бы быть для кого нибудь не весело.
«Что я за глупость сказал, однако, губернаторше! – вдруг за ужином вспомнилось Николаю. – Она точно сватать начнет, а Соня?..» И, прощаясь с губернаторшей, когда она, улыбаясь, еще раз сказала ему: «Ну, так помни же», – он отвел ее в сторону:
– Но вот что, по правде вам сказать, ma tante…
– Что, что, мой друг; пойдем вот тут сядем.
Николай вдруг почувствовал желание и необходимость рассказать все свои задушевные мысли (такие, которые и не рассказал бы матери, сестре, другу) этой почти чужой женщине. Николаю потом, когда он вспоминал об этом порыве ничем не вызванной, необъяснимой откровенности, которая имела, однако, для него очень важные последствия, казалось (как это и кажется всегда людям), что так, глупый стих нашел; а между тем этот порыв откровенности, вместе с другими мелкими событиями, имел для него и для всей семьи огромные последствия.
– Вот что, ma tante. Maman меня давно женить хочет на богатой, но мне мысль одна эта противна, жениться из за денег.
– О да, понимаю, – сказала губернаторша.
– Но княжна Болконская, это другое дело; во первых, я вам правду скажу, она мне очень нравится, она по сердцу мне, и потом, после того как я ее встретил в таком положении, так странно, мне часто в голову приходило что это судьба. Особенно подумайте: maman давно об этом думала, но прежде мне ее не случалось встречать, как то все так случалось: не встречались. И во время, когда Наташа была невестой ее брата, ведь тогда мне бы нельзя было думать жениться на ней. Надо же, чтобы я ее встретил именно тогда, когда Наташина свадьба расстроилась, ну и потом всё… Да, вот что. Я никому не говорил этого и не скажу. А вам только.
Губернаторша пожала его благодарно за локоть.
– Вы знаете Софи, кузину? Я люблю ее, я обещал жениться и женюсь на ней… Поэтому вы видите, что про это не может быть и речи, – нескладно и краснея говорил Николай.
– Mon cher, mon cher, как же ты судишь? Да ведь у Софи ничего нет, а ты сам говорил, что дела твоего папа очень плохи. А твоя maman? Это убьет ее, раз. Потом Софи, ежели она девушка с сердцем, какая жизнь для нее будет? Мать в отчаянии, дела расстроены… Нет, mon cher, ты и Софи должны понять это.
Николай молчал. Ему приятно было слышать эти выводы.
– Все таки, ma tante, этого не может быть, – со вздохом сказал он, помолчав немного. – Да пойдет ли еще за меня княжна? и опять, она теперь в трауре. Разве можно об этом думать?
– Да разве ты думаешь, что я тебя сейчас и женю. Il y a maniere et maniere, [На все есть манера.] – сказала губернаторша.
– Какая вы сваха, ma tante… – сказал Nicolas, целуя ее пухлую ручку.
Приехав в Москву после своей встречи с Ростовым, княжна Марья нашла там своего племянника с гувернером и письмо от князя Андрея, который предписывал им их маршрут в Воронеж, к тетушке Мальвинцевой. Заботы о переезде, беспокойство о брате, устройство жизни в новом доме, новые лица, воспитание племянника – все это заглушило в душе княжны Марьи то чувство как будто искушения, которое мучило ее во время болезни и после кончины ее отца и в особенности после встречи с Ростовым. Она была печальна. Впечатление потери отца, соединявшееся в ее душе с погибелью России, теперь, после месяца, прошедшего с тех пор в условиях покойной жизни, все сильнее и сильнее чувствовалось ей. Она была тревожна: мысль об опасностях, которым подвергался ее брат – единственный близкий человек, оставшийся у нее, мучила ее беспрестанно. Она была озабочена воспитанием племянника, для которого она чувствовала себя постоянно неспособной; но в глубине души ее было согласие с самой собою, вытекавшее из сознания того, что она задавила в себе поднявшиеся было, связанные с появлением Ростова, личные мечтания и надежды.
Когда на другой день после своего вечера губернаторша приехала к Мальвинцевой и, переговорив с теткой о своих планах (сделав оговорку о том, что, хотя при теперешних обстоятельствах нельзя и думать о формальном сватовстве, все таки можно свести молодых людей, дать им узнать друг друга), и когда, получив одобрение тетки, губернаторша при княжне Марье заговорила о Ростове, хваля его и рассказывая, как он покраснел при упоминании о княжне, – княжна Марья испытала не радостное, но болезненное чувство: внутреннее согласие ее не существовало более, и опять поднялись желания, сомнения, упреки и надежды.
В те два дня, которые прошли со времени этого известия и до посещения Ростова, княжна Марья не переставая думала о том, как ей должно держать себя в отношении Ростова. То она решала, что она не выйдет в гостиную, когда он приедет к тетке, что ей, в ее глубоком трауре, неприлично принимать гостей; то она думала, что это будет грубо после того, что он сделал для нее; то ей приходило в голову, что ее тетка и губернаторша имеют какие то виды на нее и Ростова (их взгляды и слова иногда, казалось, подтверждали это предположение); то она говорила себе, что только она с своей порочностью могла думать это про них: не могли они не помнить, что в ее положении, когда еще она не сняла плерезы, такое сватовство было бы оскорбительно и ей, и памяти ее отца. Предполагая, что она выйдет к нему, княжна Марья придумывала те слова, которые он скажет ей и которые она скажет ему; и то слова эти казались ей незаслуженно холодными, то имеющими слишком большое значение. Больше же всего она при свидании с ним боялась за смущение, которое, она чувствовала, должно было овладеть ею и выдать ее, как скоро она его увидит.
Но когда, в воскресенье после обедни, лакей доложил в гостиной, что приехал граф Ростов, княжна не выказала смущения; только легкий румянец выступил ей на щеки, и глаза осветились новым, лучистым светом.
– Вы его видели, тетушка? – сказала княжна Марья спокойным голосом, сама не зная, как это она могла быть так наружно спокойна и естественна.
Когда Ростов вошел в комнату, княжна опустила на мгновенье голову, как бы предоставляя время гостю поздороваться с теткой, и потом, в самое то время, как Николай обратился к ней, она подняла голову и блестящими глазами встретила его взгляд. Полным достоинства и грации движением она с радостной улыбкой приподнялась, протянула ему свою тонкую, нежную руку и заговорила голосом, в котором в первый раз звучали новые, женские грудные звуки. M lle Bourienne, бывшая в гостиной, с недоумевающим удивлением смотрела на княжну Марью. Самая искусная кокетка, она сама не могла бы лучше маневрировать при встрече с человеком, которому надо было понравиться.
«Или ей черное так к лицу, или действительно она так похорошела, и я не заметила. И главное – этот такт и грация!» – думала m lle Bourienne.
Ежели бы княжна Марья в состоянии была думать в эту минуту, она еще более, чем m lle Bourienne, удивилась бы перемене, происшедшей в ней. С той минуты как она увидала это милое, любимое лицо, какая то новая сила жизни овладела ею и заставляла ее, помимо ее воли, говорить и действовать. Лицо ее, с того времени как вошел Ростов, вдруг преобразилось. Как вдруг с неожиданной поражающей красотой выступает на стенках расписного и резного фонаря та сложная искусная художественная работа, казавшаяся прежде грубою, темною и бессмысленною, когда зажигается свет внутри: так вдруг преобразилось лицо княжны Марьи. В первый раз вся та чистая духовная внутренняя работа, которою она жила до сих пор, выступила наружу. Вся ее внутренняя, недовольная собой работа, ее страдания, стремление к добру, покорность, любовь, самопожертвование – все это светилось теперь в этих лучистых глазах, в тонкой улыбке, в каждой черте ее нежного лица.
Ростов увидал все это так же ясно, как будто он знал всю ее жизнь. Он чувствовал, что существо, бывшее перед ним, было совсем другое, лучшее, чем все те, которые он встречал до сих пор, и лучшее, главное, чем он сам.
Разговор был самый простой и незначительный. Они говорили о войне, невольно, как и все, преувеличивая свою печаль об этом событии, говорили о последней встрече, причем Николай старался отклонять разговор на другой предмет, говорили о доброй губернаторше, о родных Николая и княжны Марьи.
Княжна Марья не говорила о брате, отвлекая разговор на другой предмет, как только тетка ее заговаривала об Андрее. Видно было, что о несчастиях России она могла говорить притворно, но брат ее был предмет, слишком близкий ее сердцу, и она не хотела и не могла слегка говорить о нем. Николай заметил это, как он вообще с несвойственной ему проницательной наблюдательностью замечал все оттенки характера княжны Марьи, которые все только подтверждали его убеждение, что она была совсем особенное и необыкновенное существо. Николай, точно так же, как и княжна Марья, краснел и смущался, когда ему говорили про княжну и даже когда он думал о ней, но в ее присутствии чувствовал себя совершенно свободным и говорил совсем не то, что он приготавливал, а то, что мгновенно и всегда кстати приходило ему в голову.
Во время короткого визита Николая, как и всегда, где есть дети, в минуту молчания Николай прибег к маленькому сыну князя Андрея, лаская его и спрашивая, хочет ли он быть гусаром? Он взял на руки мальчика, весело стал вертеть его и оглянулся на княжну Марью. Умиленный, счастливый и робкий взгляд следил за любимым ею мальчиком на руках любимого человека. Николай заметил и этот взгляд и, как бы поняв его значение, покраснел от удовольствия и добродушно весело стал целовать мальчика.
Княжна Марья не выезжала по случаю траура, а Николай не считал приличным бывать у них; но губернаторша все таки продолжала свое дело сватовства и, передав Николаю то лестное, что сказала про него княжна Марья, и обратно, настаивала на том, чтобы Ростов объяснился с княжной Марьей. Для этого объяснения она устроила свиданье между молодыми людьми у архиерея перед обедней.
Хотя Ростов и сказал губернаторше, что он не будет иметь никакого объяснения с княжной Марьей, но он обещался приехать.
Как в Тильзите Ростов не позволил себе усомниться в том, хорошо ли то, что признано всеми хорошим, точно так же и теперь, после короткой, но искренней борьбы между попыткой устроить свою жизнь по своему разуму и смиренным подчинением обстоятельствам, он выбрал последнее и предоставил себя той власти, которая его (он чувствовал) непреодолимо влекла куда то. Он знал, что, обещав Соне, высказать свои чувства княжне Марье было бы то, что он называл подлость. И он знал, что подлости никогда не сделает. Но он знал тоже (и не то, что знал, а в глубине души чувствовал), что, отдаваясь теперь во власть обстоятельств и людей, руководивших им, он не только не делает ничего дурного, но делает что то очень, очень важное, такое важное, чего он еще никогда не делал в жизни.
После его свиданья с княжной Марьей, хотя образ жизни его наружно оставался тот же, но все прежние удовольствия потеряли для него свою прелесть, и он часто думал о княжне Марье; но он никогда не думал о ней так, как он без исключения думал о всех барышнях, встречавшихся ему в свете, не так, как он долго и когда то с восторгом думал о Соне. О всех барышнях, как и почти всякий честный молодой человек, он думал как о будущей жене, примеривал в своем воображении к ним все условия супружеской жизни: белый капот, жена за самоваром, женина карета, ребятишки, maman и papa, их отношения с ней и т. д., и т. д., и эти представления будущего доставляли ему удовольствие; но когда он думал о княжне Марье, на которой его сватали, он никогда не мог ничего представить себе из будущей супружеской жизни. Ежели он и пытался, то все выходило нескладно и фальшиво. Ему только становилось жутко.
Страшное известие о Бородинском сражении, о наших потерях убитыми и ранеными, а еще более страшное известие о потере Москвы были получены в Воронеже в половине сентября. Княжна Марья, узнав только из газет о ране брата и не имея о нем никаких определенных сведений, собралась ехать отыскивать князя Андрея, как слышал Николай (сам же он не видал ее).
Получив известие о Бородинском сражении и об оставлении Москвы, Ростов не то чтобы испытывал отчаяние, злобу или месть и тому подобные чувства, но ему вдруг все стало скучно, досадно в Воронеже, все как то совестно и неловко. Ему казались притворными все разговоры, которые он слышал; он не знал, как судить про все это, и чувствовал, что только в полку все ему опять станет ясно. Он торопился окончанием покупки лошадей и часто несправедливо приходил в горячность с своим слугой и вахмистром.
Несколько дней перед отъездом Ростова в соборе было назначено молебствие по случаю победы, одержанной русскими войсками, и Николай поехал к обедне. Он стал несколько позади губернатора и с служебной степенностью, размышляя о самых разнообразных предметах, выстоял службу. Когда молебствие кончилось, губернаторша подозвала его к себе.
– Ты видел княжну? – сказала она, головой указывая на даму в черном, стоявшую за клиросом.
Николай тотчас же узнал княжну Марью не столько по профилю ее, который виднелся из под шляпы, сколько по тому чувству осторожности, страха и жалости, которое тотчас же охватило его. Княжна Марья, очевидно погруженная в свои мысли, делала последние кресты перед выходом из церкви.
Николай с удивлением смотрел на ее лицо. Это было то же лицо, которое он видел прежде, то же было в нем общее выражение тонкой, внутренней, духовной работы; но теперь оно было совершенно иначе освещено. Трогательное выражение печали, мольбы и надежды было на нем. Как и прежде бывало с Николаем в ее присутствии, он, не дожидаясь совета губернаторши подойти к ней, не спрашивая себя, хорошо ли, прилично ли или нет будет его обращение к ней здесь, в церкви, подошел к ней и сказал, что он слышал о ее горе и всей душой соболезнует ему. Едва только она услыхала его голос, как вдруг яркий свет загорелся в ее лице, освещая в одно и то же время и печаль ее, и радость.
– Я одно хотел вам сказать, княжна, – сказал Ростов, – это то, что ежели бы князь Андрей Николаевич не был бы жив, то, как полковой командир, в газетах это сейчас было бы объявлено.
Княжна смотрела на него, не понимая его слов, но радуясь выражению сочувствующего страдания, которое было в его лице.
– И я столько примеров знаю, что рана осколком (в газетах сказано гранатой) бывает или смертельна сейчас же, или, напротив, очень легкая, – говорил Николай. – Надо надеяться на лучшее, и я уверен…
Княжна Марья перебила его.
– О, это было бы так ужа… – начала она и, не договорив от волнения, грациозным движением (как и все, что она делала при нем) наклонив голову и благодарно взглянув на него, пошла за теткой.
Вечером этого дня Николай никуда не поехал в гости и остался дома, с тем чтобы покончить некоторые счеты с продавцами лошадей. Когда он покончил дела, было уже поздно, чтобы ехать куда нибудь, но было еще рано, чтобы ложиться спать, и Николай долго один ходил взад и вперед по комнате, обдумывая свою жизнь, что с ним редко случалось.
Княжна Марья произвела на него приятное впечатление под Смоленском. То, что он встретил ее тогда в таких особенных условиях, и то, что именно на нее одно время его мать указывала ему как на богатую партию, сделали то, что он обратил на нее особенное внимание. В Воронеже, во время его посещения, впечатление это было не только приятное, но сильное. Николай был поражен той особенной, нравственной красотой, которую он в этот раз заметил в ней. Однако он собирался уезжать, и ему в голову не приходило пожалеть о том, что уезжая из Воронежа, он лишается случая видеть княжну. Но нынешняя встреча с княжной Марьей в церкви (Николай чувствовал это) засела ему глубже в сердце, чем он это предвидел, и глубже, чем он желал для своего спокойствия. Это бледное, тонкое, печальное лицо, этот лучистый взгляд, эти тихие, грациозные движения и главное – эта глубокая и нежная печаль, выражавшаяся во всех чертах ее, тревожили его и требовали его участия. В мужчинах Ростов терпеть не мог видеть выражение высшей, духовной жизни (оттого он не любил князя Андрея), он презрительно называл это философией, мечтательностью; но в княжне Марье, именно в этой печали, выказывавшей всю глубину этого чуждого для Николая духовного мира, он чувствовал неотразимую привлекательность.
«Чудная должна быть девушка! Вот именно ангел! – говорил он сам с собою. – Отчего я не свободен, отчего я поторопился с Соней?» И невольно ему представилось сравнение между двумя: бедность в одной и богатство в другой тех духовных даров, которых не имел Николай и которые потому он так высоко ценил. Он попробовал себе представить, что бы было, если б он был свободен. Каким образом он сделал бы ей предложение и она стала бы его женою? Нет, он не мог себе представить этого. Ему делалось жутко, и никакие ясные образы не представлялись ему. С Соней он давно уже составил себе будущую картину, и все это было просто и ясно, именно потому, что все это было выдумано, и он знал все, что было в Соне; но с княжной Марьей нельзя было себе представить будущей жизни, потому что он не понимал ее, а только любил.
Мечтания о Соне имели в себе что то веселое, игрушечное. Но думать о княжне Марье всегда было трудно и немного страшно.
«Как она молилась! – вспомнил он. – Видно было, что вся душа ее была в молитве. Да, это та молитва, которая сдвигает горы, и я уверен, что молитва ее будет исполнена. Отчего я не молюсь о том, что мне нужно? – вспомнил он. – Что мне нужно? Свободы, развязки с Соней. Она правду говорила, – вспомнил он слова губернаторши, – кроме несчастья, ничего не будет из того, что я женюсь на ней. Путаница, горе maman… дела… путаница, страшная путаница! Да я и не люблю ее. Да, не так люблю, как надо. Боже мой! выведи меня из этого ужасного, безвыходного положения! – начал он вдруг молиться. – Да, молитва сдвинет гору, но надо верить и не так молиться, как мы детьми молились с Наташей о том, чтобы снег сделался сахаром, и выбегали на двор пробовать, делается ли из снегу сахар. Нет, но я не о пустяках молюсь теперь», – сказал он, ставя в угол трубку и, сложив руки, становясь перед образом. И, умиленный воспоминанием о княжне Марье, он начал молиться так, как он давно не молился. Слезы у него были на глазах и в горле, когда в дверь вошел Лаврушка с какими то бумагами.
– Дурак! что лезешь, когда тебя не спрашивают! – сказал Николай, быстро переменяя положение.
– От губернатора, – заспанным голосом сказал Лаврушка, – кульер приехал, письмо вам.
– Ну, хорошо, спасибо, ступай!
Николай взял два письма. Одно было от матери, другое от Сони. Он узнал их по почеркам и распечатал первое письмо Сони. Не успел он прочесть нескольких строк, как лицо его побледнело и глаза его испуганно и радостно раскрылись.
– Нет, это не может быть! – проговорил он вслух. Не в силах сидеть на месте, он с письмом в руках, читая его. стал ходить по комнате. Он пробежал письмо, потом прочел его раз, другой, и, подняв плечи и разведя руками, он остановился посреди комнаты с открытым ртом и остановившимися глазами. То, о чем он только что молился, с уверенностью, что бог исполнит его молитву, было исполнено; но Николай был удивлен этим так, как будто это было что то необыкновенное, и как будто он никогда не ожидал этого, и как будто именно то, что это так быстро совершилось, доказывало то, что это происходило не от бога, которого он просил, а от обыкновенной случайности.
Тот, казавшийся неразрешимым, узел, который связывал свободу Ростова, был разрешен этим неожиданным (как казалось Николаю), ничем не вызванным письмом Сони. Она писала, что последние несчастные обстоятельства, потеря почти всего имущества Ростовых в Москве, и не раз высказываемые желания графини о том, чтобы Николай женился на княжне Болконской, и его молчание и холодность за последнее время – все это вместе заставило ее решиться отречься от его обещаний и дать ему полную свободу.
«Мне слишком тяжело было думать, что я могу быть причиной горя или раздора в семействе, которое меня облагодетельствовало, – писала она, – и любовь моя имеет одною целью счастье тех, кого я люблю; и потому я умоляю вас, Nicolas, считать себя свободным и знать, что несмотря ни на что, никто сильнее не может вас любить, как ваша Соня».
Оба письма были из Троицы. Другое письмо было от графини. В письме этом описывались последние дни в Москве, выезд, пожар и погибель всего состояния. В письме этом, между прочим, графиня писала о том, что князь Андрей в числе раненых ехал вместе с ними. Положение его было очень опасно, но теперь доктор говорит, что есть больше надежды. Соня и Наташа, как сиделки, ухаживают за ним.
С этим письмом на другой день Николай поехал к княжне Марье. Ни Николай, ни княжна Марья ни слова не сказали о том, что могли означать слова: «Наташа ухаживает за ним»; но благодаря этому письму Николай вдруг сблизился с княжной в почти родственные отношения.
На другой день Ростов проводил княжну Марью в Ярославль и через несколько дней сам уехал в полк.
Письмо Сони к Николаю, бывшее осуществлением его молитвы, было написано из Троицы. Вот чем оно было вызвано. Мысль о женитьбе Николая на богатой невесте все больше и больше занимала старую графиню. Она знала, что Соня была главным препятствием для этого. И жизнь Сони последнее время, в особенности после письма Николая, описывавшего свою встречу в Богучарове с княжной Марьей, становилась тяжелее и тяжелее в доме графини. Графиня не пропускала ни одного случая для оскорбительного или жестокого намека Соне.
Но несколько дней перед выездом из Москвы, растроганная и взволнованная всем тем, что происходило, графиня, призвав к себе Соню, вместо упреков и требований, со слезами обратилась к ней с мольбой о том, чтобы она, пожертвовав собою, отплатила бы за все, что было для нее сделано, тем, чтобы разорвала свои связи с Николаем.
– Я не буду покойна до тех пор, пока ты мне не дашь этого обещания.
Соня разрыдалась истерически, отвечала сквозь рыдания, что она сделает все, что она на все готова, но не дала прямого обещания и в душе своей не могла решиться на то, чего от нее требовали. Надо было жертвовать собой для счастья семьи, которая вскормила и воспитала ее. Жертвовать собой для счастья других было привычкой Сони. Ее положение в доме было таково, что только на пути жертвованья она могла выказывать свои достоинства, и она привыкла и любила жертвовать собой. Но прежде во всех действиях самопожертвованья она с радостью сознавала, что она, жертвуя собой, этим самым возвышает себе цену в глазах себя и других и становится более достойною Nicolas, которого она любила больше всего в жизни; но теперь жертва ее должна была состоять в том, чтобы отказаться от того, что для нее составляло всю награду жертвы, весь смысл жизни. И в первый раз в жизни она почувствовала горечь к тем людям, которые облагодетельствовали ее для того, чтобы больнее замучить; почувствовала зависть к Наташе, никогда не испытывавшей ничего подобного, никогда не нуждавшейся в жертвах и заставлявшей других жертвовать себе и все таки всеми любимой. И в первый раз Соня почувствовала, как из ее тихой, чистой любви к Nicolas вдруг начинало вырастать страстное чувство, которое стояло выше и правил, и добродетели, и религии; и под влиянием этого чувства Соня невольно, выученная своею зависимою жизнью скрытности, в общих неопределенных словах ответив графине, избегала с ней разговоров и решилась ждать свидания с Николаем с тем, чтобы в этом свидании не освободить, но, напротив, навсегда связать себя с ним.
Хлопоты и ужас последних дней пребывания Ростовых в Москве заглушили в Соне тяготившие ее мрачные мысли. Она рада была находить спасение от них в практической деятельности. Но когда она узнала о присутствии в их доме князя Андрея, несмотря на всю искреннюю жалость, которую она испытала к нему и к Наташе, радостное и суеверное чувство того, что бог не хочет того, чтобы она была разлучена с Nicolas, охватило ее. Она знала, что Наташа любила одного князя Андрея и не переставала любить его. Она знала, что теперь, сведенные вместе в таких страшных условиях, они снова полюбят друг друга и что тогда Николаю вследствие родства, которое будет между ними, нельзя будет жениться на княжне Марье. Несмотря на весь ужас всего происходившего в последние дни и во время первых дней путешествия, это чувство, это сознание вмешательства провидения в ее личные дела радовало Соню.
В Троицкой лавре Ростовы сделали первую дневку в своем путешествии.
В гостинице лавры Ростовым были отведены три большие комнаты, из которых одну занимал князь Андрей. Раненому было в этот день гораздо лучше. Наташа сидела с ним. В соседней комнате сидели граф и графиня, почтительно беседуя с настоятелем, посетившим своих давнишних знакомых и вкладчиков. Соня сидела тут же, и ее мучило любопытство о том, о чем говорили князь Андрей с Наташей. Она из за двери слушала звуки их голосов. Дверь комнаты князя Андрея отворилась. Наташа с взволнованным лицом вышла оттуда и, не замечая приподнявшегося ей навстречу и взявшегося за широкий рукав правой руки монаха, подошла к Соне и взяла ее за руку.
– Наташа, что ты? Поди сюда, – сказала графиня.
Наташа подошла под благословенье, и настоятель посоветовал обратиться за помощью к богу и его угоднику.
Тотчас после ухода настоятеля Нашата взяла за руку свою подругу и пошла с ней в пустую комнату.
– Соня, да? он будет жив? – сказала она. – Соня, как я счастлива и как я несчастна! Соня, голубчик, – все по старому. Только бы он был жив. Он не может… потому что, потому… что… – И Наташа расплакалась.
– Так! Я знала это! Слава богу, – проговорила Соня. – Он будет жив!
Соня была взволнована не меньше своей подруги – и ее страхом и горем, и своими личными, никому не высказанными мыслями. Она, рыдая, целовала, утешала Наташу. «Только бы он был жив!» – думала она. Поплакав, поговорив и отерев слезы, обе подруги подошли к двери князя Андрея. Наташа, осторожно отворив двери, заглянула в комнату. Соня рядом с ней стояла у полуотворенной двери.
Князь Андрей лежал высоко на трех подушках. Бледное лицо его было покойно, глаза закрыты, и видно было, как он ровно дышал.
– Ах, Наташа! – вдруг почти вскрикнула Соня, хватаясь за руку своей кузины и отступая от двери.
– Что? что? – спросила Наташа.
– Это то, то, вот… – сказала Соня с бледным лицом и дрожащими губами.
Наташа тихо затворила дверь и отошла с Соней к окну, не понимая еще того, что ей говорили.
– Помнишь ты, – с испуганным и торжественным лицом говорила Соня, – помнишь, когда я за тебя в зеркало смотрела… В Отрадном, на святках… Помнишь, что я видела?..
– Да, да! – широко раскрывая глаза, сказала Наташа, смутно вспоминая, что тогда Соня сказала что то о князе Андрее, которого она видела лежащим.
– Помнишь? – продолжала Соня. – Я видела тогда и сказала всем, и тебе, и Дуняше. Я видела, что он лежит на постели, – говорила она, при каждой подробности делая жест рукою с поднятым пальцем, – и что он закрыл глаза, и что он покрыт именно розовым одеялом, и что он сложил руки, – говорила Соня, убеждаясь, по мере того как она описывала виденные ею сейчас подробности, что эти самые подробности она видела тогда. Тогда она ничего не видела, но рассказала, что видела то, что ей пришло в голову; но то, что она придумала тогда, представлялось ей столь же действительным, как и всякое другое воспоминание. То, что она тогда сказала, что он оглянулся на нее и улыбнулся и был покрыт чем то красным, она не только помнила, но твердо была убеждена, что еще тогда она сказала и видела, что он был покрыт розовым, именно розовым одеялом, и что глаза его были закрыты.
– Да, да, именно розовым, – сказала Наташа, которая тоже теперь, казалось, помнила, что было сказано розовым, и в этом самом видела главную необычайность и таинственность предсказания.
– Но что же это значит? – задумчиво сказала Наташа.
– Ах, я не знаю, как все это необычайно! – сказала Соня, хватаясь за голову.
Через несколько минут князь Андрей позвонил, и Наташа вошла к нему; а Соня, испытывая редко испытанное ею волнение и умиление, осталась у окна, обдумывая всю необычайность случившегося.
В этот день был случай отправить письма в армию, и графиня писала письмо сыну.
– Соня, – сказала графиня, поднимая голову от письма, когда племянница проходила мимо нее. – Соня, ты не напишешь Николеньке? – сказала графиня тихим, дрогнувшим голосом, и во взгляде ее усталых, смотревших через очки глаз Соня прочла все, что разумела графиня этими словами. В этом взгляде выражались и мольба, и страх отказа, и стыд за то, что надо было просить, и готовность на непримиримую ненависть в случае отказа.
Соня подошла к графине и, став на колени, поцеловала ее руку.
– Я напишу, maman, – сказала она.
Соня была размягчена, взволнована и умилена всем тем, что происходило в этот день, в особенности тем таинственным совершением гаданья, которое она сейчас видела. Теперь, когда она знала, что по случаю возобновления отношений Наташи с князем Андреем Николай не мог жениться на княжне Марье, она с радостью почувствовала возвращение того настроения самопожертвования, в котором она любила и привыкла жить. И со слезами на глазах и с радостью сознания совершения великодушного поступка она, несколько раз прерываясь от слез, которые отуманивали ее бархатные черные глаза, написала то трогательное письмо, получение которого так поразило Николая.
На гауптвахте, куда был отведен Пьер, офицер и солдаты, взявшие его, обращались с ним враждебно, но вместе с тем и уважительно. Еще чувствовалось в их отношении к нему и сомнение о том, кто он такой (не очень ли важный человек), и враждебность вследствие еще свежей их личной борьбы с ним.
Но когда, в утро другого дня, пришла смена, то Пьер почувствовал, что для нового караула – для офицеров и солдат – он уже не имел того смысла, который имел для тех, которые его взяли. И действительно, в этом большом, толстом человеке в мужицком кафтане караульные другого дня уже не видели того живого человека, который так отчаянно дрался с мародером и с конвойными солдатами и сказал торжественную фразу о спасении ребенка, а видели только семнадцатого из содержащихся зачем то, по приказанию высшего начальства, взятых русских. Ежели и было что нибудь особенное в Пьере, то только его неробкий, сосредоточенно задумчивый вид и французский язык, на котором он, удивительно для французов, хорошо изъяснялся. Несмотря на то, в тот же день Пьера соединили с другими взятыми подозрительными, так как отдельная комната, которую он занимал, понадобилась офицеру.
Все русские, содержавшиеся с Пьером, были люди самого низкого звания. И все они, узнав в Пьере барина, чуждались его, тем более что он говорил по французски. Пьер с грустью слышал над собою насмешки.
На другой день вечером Пьер узнал, что все эти содержащиеся (и, вероятно, он в том же числе) должны были быть судимы за поджигательство. На третий день Пьера водили с другими в какой то дом, где сидели французский генерал с белыми усами, два полковника и другие французы с шарфами на руках. Пьеру, наравне с другими, делали с той, мнимо превышающею человеческие слабости, точностью и определительностью, с которой обыкновенно обращаются с подсудимыми, вопросы о том, кто он? где он был? с какою целью? и т. п.
Вопросы эти, оставляя в стороне сущность жизненного дела и исключая возможность раскрытия этой сущности, как и все вопросы, делаемые на судах, имели целью только подставление того желобка, по которому судящие желали, чтобы потекли ответы подсудимого и привели его к желаемой цели, то есть к обвинению. Как только он начинал говорить что нибудь такое, что не удовлетворяло цели обвинения, так принимали желобок, и вода могла течь куда ей угодно. Кроме того, Пьер испытал то же, что во всех судах испытывает подсудимый: недоумение, для чего делали ему все эти вопросы. Ему чувствовалось, что только из снисходительности или как бы из учтивости употреблялась эта уловка подставляемого желобка. Он знал, что находился во власти этих людей, что только власть привела его сюда, что только власть давала им право требовать ответы на вопросы, что единственная цель этого собрания состояла в том, чтоб обвинить его. И поэтому, так как была власть и было желание обвинить, то не нужно было и уловки вопросов и суда. Очевидно было, что все ответы должны были привести к виновности. На вопрос, что он делал, когда его взяли, Пьер отвечал с некоторою трагичностью, что он нес к родителям ребенка, qu'il avait sauve des flammes [которого он спас из пламени]. – Для чего он дрался с мародером? Пьер отвечал, что он защищал женщину, что защита оскорбляемой женщины есть обязанность каждого человека, что… Его остановили: это не шло к делу. Для чего он был на дворе загоревшегося дома, на котором его видели свидетели? Он отвечал, что шел посмотреть, что делалось в Москве. Его опять остановили: у него не спрашивали, куда он шел, а для чего он находился подле пожара? Кто он? повторили ему первый вопрос, на который он сказал, что не хочет отвечать. Опять он отвечал, что не может сказать этого.
– Запишите, это нехорошо. Очень нехорошо, – строго сказал ему генерал с белыми усами и красным, румяным лицом.
На четвертый день пожары начались на Зубовском валу.
Пьера с тринадцатью другими отвели на Крымский Брод, в каретный сарай купеческого дома. Проходя по улицам, Пьер задыхался от дыма, который, казалось, стоял над всем городом. С разных сторон виднелись пожары. Пьер тогда еще не понимал значения сожженной Москвы и с ужасом смотрел на эти пожары.
В каретном сарае одного дома у Крымского Брода Пьер пробыл еще четыре дня и во время этих дней из разговора французских солдат узнал, что все содержащиеся здесь ожидали с каждым днем решения маршала. Какого маршала, Пьер не мог узнать от солдат. Для солдата, очевидно, маршал представлялся высшим и несколько таинственным звеном власти.
Эти первые дни, до 8 го сентября, – дня, в который пленных повели на вторичный допрос, были самые тяжелые для Пьера.
Х
8 го сентября в сарай к пленным вошел очень важный офицер, судя по почтительности, с которой с ним обращались караульные. Офицер этот, вероятно, штабный, с списком в руках, сделал перекличку всем русским, назвав Пьера: celui qui n'avoue pas son nom [тот, который не говорит своего имени]. И, равнодушно и лениво оглядев всех пленных, он приказал караульному офицеру прилично одеть и прибрать их, прежде чем вести к маршалу. Через час прибыла рота солдат, и Пьера с другими тринадцатью повели на Девичье поле. День был ясный, солнечный после дождя, и воздух был необыкновенно чист. Дым не стлался низом, как в тот день, когда Пьера вывели из гауптвахты Зубовского вала; дым поднимался столбами в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались столбы дыма, и вся Москва, все, что только мог видеть Пьер, было одно пожарище. Со всех сторон виднелись пустыри с печами и трубами и изредка обгорелые стены каменных домов. Пьер приглядывался к пожарищам и не узнавал знакомых кварталов города. Кое где виднелись уцелевшие церкви. Кремль, неразрушенный, белел издалека с своими башнями и Иваном Великим. Вблизи весело блестел купол Ново Девичьего монастыря, и особенно звонко слышался оттуда благовест. Благовест этот напомнил Пьеру, что было воскресенье и праздник рождества богородицы. Но казалось, некому было праздновать этот праздник: везде было разоренье пожарища, и из русского народа встречались только изредка оборванные, испуганные люди, которые прятались при виде французов.
Очевидно, русское гнездо было разорено и уничтожено; но за уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал, что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду тех, бодро и весело, правильными рядами шедших солдат, которые конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду какого то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившимся с левой стороны поля, и в особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перекликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер. Пьер был взят одними солдатами, отведен в одно, в другое место с десятками других людей; казалось, они могли бы забыть про него, смешать его с другими. Но нет: ответы его, данные на допросе, вернулись к нему в форме наименования его: celui qui n'avoue pas son nom. И под этим названием, которое страшно было Пьеру, его теперь вели куда то, с несомненной уверенностью, написанною на их лицах, что все остальные пленные и он были те самые, которых нужно, и что их ведут туда, куда нужно. Пьер чувствовал себя ничтожной щепкой, попавшей в колеса неизвестной ему, но правильно действующей машины.
Пьера с другими преступниками привели на правую сторону Девичьего поля, недалеко от монастыря, к большому белому дому с огромным садом. Это был дом князя Щербатова, в котором Пьер часто прежде бывал у хозяина и в котором теперь, как он узнал из разговора солдат, стоял маршал, герцог Экмюльский.
Их подвели к крыльцу и по одному стали вводить в дом. Пьера ввели шестым. Через стеклянную галерею, сени, переднюю, знакомые Пьеру, его ввели в длинный низкий кабинет, у дверей которого стоял адъютант.
Даву сидел на конце комнаты над столом, с очками на носу. Пьер близко подошел к нему. Даву, не поднимая глаз, видимо справлялся с какой то бумагой, лежавшей перед ним. Не поднимая же глаз, он тихо спросил:
– Qui etes vous? [Кто вы такой?]
Пьер молчал оттого, что не в силах был выговорить слова. Даву для Пьера не был просто французский генерал; для Пьера Даву был известный своей жестокостью человек. Глядя на холодное лицо Даву, который, как строгий учитель, соглашался до времени иметь терпение и ждать ответа, Пьер чувствовал, что всякая секунда промедления могла стоить ему жизни; но он не знал, что сказать. Сказать то же, что он говорил на первом допросе, он не решался; открыть свое звание и положение было и опасно и стыдно. Пьер молчал. Но прежде чем Пьер успел на что нибудь решиться, Даву приподнял голову, приподнял очки на лоб, прищурил глаза и пристально посмотрел на Пьера.
– Я знаю этого человека, – мерным, холодным голосом, очевидно рассчитанным для того, чтобы испугать Пьера, сказал он. Холод, пробежавший прежде по спине Пьера, охватил его голову, как тисками.
– Mon general, vous ne pouvez pas me connaitre, je ne vous ai jamais vu… [Вы не могли меня знать, генерал, я никогда не видал вас.]
– C'est un espion russe, [Это русский шпион,] – перебил его Даву, обращаясь к другому генералу, бывшему в комнате и которого не заметил Пьер. И Даву отвернулся. С неожиданным раскатом в голосе Пьер вдруг быстро заговорил.
– Non, Monseigneur, – сказал он, неожиданно вспомнив, что Даву был герцог. – Non, Monseigneur, vous n'avez pas pu me connaitre. Je suis un officier militionnaire et je n'ai pas quitte Moscou. [Нет, ваше высочество… Нет, ваше высочество, вы не могли меня знать. Я офицер милиции, и я не выезжал из Москвы.]
– Votre nom? [Ваше имя?] – повторил Даву.
– Besouhof. [Безухов.]
– Qu'est ce qui me prouvera que vous ne mentez pas? [Кто мне докажет, что вы не лжете?]
– Monseigneur! [Ваше высочество!] – вскрикнул Пьер не обиженным, но умоляющим голосом.
Даву поднял глаза и пристально посмотрел на Пьера. Несколько секунд они смотрели друг на друга, и этот взгляд спас Пьера. В этом взгляде, помимо всех условий войны и суда, между этими двумя людьми установились человеческие отношения. Оба они в эту одну минуту смутно перечувствовали бесчисленное количество вещей и поняли, что они оба дети человечества, что они братья.
В первом взгляде для Даву, приподнявшего только голову от своего списка, где людские дела и жизнь назывались нумерами, Пьер был только обстоятельство; и, не взяв на совесть дурного поступка, Даву застрелил бы его; но теперь уже он видел в нем человека. Он задумался на мгновение.
– Comment me prouverez vous la verite de ce que vous me dites? [Чем вы докажете мне справедливость ваших слов?] – сказал Даву холодно.
Пьер вспомнил Рамбаля и назвал его полк, и фамилию, и улицу, на которой был дом.
– Vous n'etes pas ce que vous dites, [Вы не то, что вы говорите.] – опять сказал Даву.
Пьер дрожащим, прерывающимся голосом стал приводить доказательства справедливости своего показания.
Но в это время вошел адъютант и что то доложил Даву.
Даву вдруг просиял при известии, сообщенном адъютантом, и стал застегиваться. Он, видимо, совсем забыл о Пьере.
Когда адъютант напомнил ему о пленном, он, нахмурившись, кивнул в сторону Пьера и сказал, чтобы его вели. Но куда должны были его вести – Пьер не знал: назад в балаган или на приготовленное место казни, которое, проходя по Девичьему полю, ему показывали товарищи.
Он обернул голову и видел, что адъютант переспрашивал что то.
– Oui, sans doute! [Да, разумеется!] – сказал Даву, но что «да», Пьер не знал.
Пьер не помнил, как, долго ли он шел и куда. Он, в состоянии совершенного бессмыслия и отупления, ничего не видя вокруг себя, передвигал ногами вместе с другими до тех пор, пока все остановились, и он остановился. Одна мысль за все это время была в голове Пьера. Это была мысль о том: кто, кто же, наконец, приговорил его к казни. Это были не те люди, которые допрашивали его в комиссии: из них ни один не хотел и, очевидно, не мог этого сделать. Это был не Даву, который так человечески посмотрел на него. Еще бы одна минута, и Даву понял бы, что они делают дурно, но этой минуте помешал адъютант, который вошел. И адъютант этот, очевидно, не хотел ничего худого, но он мог бы не войти. Кто же это, наконец, казнил, убивал, лишал жизни его – Пьера со всеми его воспоминаниями, стремлениями, надеждами, мыслями? Кто делал это? И Пьер чувствовал, что это был никто.
Это был порядок, склад обстоятельств.
Порядок какой то убивал его – Пьера, лишал его жизни, всего, уничтожал его.
От дома князя Щербатова пленных повели прямо вниз по Девичьему полю, левее Девичьего монастыря и подвели к огороду, на котором стоял столб. За столбом была вырыта большая яма с свежевыкопанной землей, и около ямы и столба полукругом стояла большая толпа народа. Толпа состояла из малого числа русских и большого числа наполеоновских войск вне строя: немцев, итальянцев и французов в разнородных мундирах. Справа и слева столба стояли фронты французских войск в синих мундирах с красными эполетами, в штиблетах и киверах.
Преступников расставили по известному порядку, который был в списке (Пьер стоял шестым), и подвели к столбу. Несколько барабанов вдруг ударили с двух сторон, и Пьер почувствовал, что с этим звуком как будто оторвалась часть его души. Он потерял способность думать и соображать. Он только мог видеть и слышать. И только одно желание было у него – желание, чтобы поскорее сделалось что то страшное, что должно было быть сделано. Пьер оглядывался на своих товарищей и рассматривал их.
Два человека с края были бритые острожные. Один высокий, худой; другой черный, мохнатый, мускулистый, с приплюснутым носом. Третий был дворовый, лет сорока пяти, с седеющими волосами и полным, хорошо откормленным телом. Четвертый был мужик, очень красивый, с окладистой русой бородой и черными глазами. Пятый был фабричный, желтый, худой малый, лет восемнадцати, в халате.
Пьер слышал, что французы совещались, как стрелять – по одному или по два? «По два», – холодно спокойно отвечал старший офицер. Сделалось передвижение в рядах солдат, и заметно было, что все торопились, – и торопились не так, как торопятся, чтобы сделать понятное для всех дело, но так, как торопятся, чтобы окончить необходимое, но неприятное и непостижимое дело.
Чиновник француз в шарфе подошел к правой стороне шеренги преступников в прочел по русски и по французски приговор.
Потом две пары французов подошли к преступникам и взяли, по указанию офицера, двух острожных, стоявших с края. Острожные, подойдя к столбу, остановились и, пока принесли мешки, молча смотрели вокруг себя, как смотрит подбитый зверь на подходящего охотника. Один все крестился, другой чесал спину и делал губами движение, подобное улыбке. Солдаты, торопясь руками, стали завязывать им глаза, надевать мешки и привязывать к столбу.
Двенадцать человек стрелков с ружьями мерным, твердым шагом вышли из за рядов и остановились в восьми шагах от столба. Пьер отвернулся, чтобы не видать того, что будет. Вдруг послышался треск и грохот, показавшиеся Пьеру громче самых страшных ударов грома, и он оглянулся. Был дым, и французы с бледными лицами и дрожащими руками что то делали у ямы. Повели других двух. Так же, такими же глазами и эти двое смотрели на всех, тщетно, одними глазами, молча, прося защиты и, видимо, не понимая и не веря тому, что будет. Они не могли верить, потому что они одни знали, что такое была для них их жизнь, и потому не понимали и не верили, чтобы можно было отнять ее.
Пьер хотел не смотреть и опять отвернулся; но опять как будто ужасный взрыв поразил его слух, и вместе с этими звуками он увидал дым, чью то кровь и бледные испуганные лица французов, опять что то делавших у столба, дрожащими руками толкая друг друга. Пьер, тяжело дыша, оглядывался вокруг себя, как будто спрашивая: что это такое? Тот же вопрос был и во всех взглядах, которые встречались со взглядом Пьера.
На всех лицах русских, на лицах французских солдат, офицеров, всех без исключения, он читал такой же испуг, ужас и борьбу, какие были в его сердце. «Да кто жо это делает наконец? Они все страдают так же, как и я. Кто же? Кто же?» – на секунду блеснуло в душе Пьера.
– Tirailleurs du 86 me, en avant! [Стрелки 86 го, вперед!] – прокричал кто то. Повели пятого, стоявшего рядом с Пьером, – одного. Пьер не понял того, что он спасен, что он и все остальные были приведены сюда только для присутствия при казни. Он со все возраставшим ужасом, не ощущая ни радости, ни успокоения, смотрел на то, что делалось. Пятый был фабричный в халате. Только что до него дотронулись, как он в ужасе отпрыгнул и схватился за Пьера (Пьер вздрогнул и оторвался от него). Фабричный не мог идти. Его тащили под мышки, и он что то кричал. Когда его подвели к столбу, он вдруг замолк. Он как будто вдруг что то понял. То ли он понял, что напрасно кричать, или то, что невозможно, чтобы его убили люди, но он стал у столба, ожидая повязки вместе с другими и, как подстреленный зверь, оглядываясь вокруг себя блестящими глазами.
Пьер уже не мог взять на себя отвернуться и закрыть глаза. Любопытство и волнение его и всей толпы при этом пятом убийстве дошло до высшей степени. Так же как и другие, этот пятый казался спокоен: он запахивал халат и почесывал одной босой ногой о другую.
Когда ему стали завязывать глаза, он поправил сам узел на затылке, который резал ему; потом, когда прислонили его к окровавленному столбу, он завалился назад, и, так как ему в этом положении было неловко, он поправился и, ровно поставив ноги, покойно прислонился. Пьер не сводил с него глаз, не упуская ни малейшего движения.
Должно быть, послышалась команда, должно быть, после команды раздались выстрелы восьми ружей. Но Пьер, сколько он ни старался вспомнить потом, не слыхал ни малейшего звука от выстрелов. Он видел только, как почему то вдруг опустился на веревках фабричный, как показалась кровь в двух местах и как самые веревки, от тяжести повисшего тела, распустились и фабричный, неестественно опустив голову и подвернув ногу, сел. Пьер подбежал к столбу. Никто не удерживал его. Вокруг фабричного что то делали испуганные, бледные люди. У одного старого усатого француза тряслась нижняя челюсть, когда он отвязывал веревки. Тело спустилось. Солдаты неловко и торопливо потащили его за столб и стали сталкивать в яму.
Все, очевидно, несомненно знали, что они были преступники, которым надо было скорее скрыть следы своего преступления.
Пьер заглянул в яму и увидел, что фабричный лежал там коленами кверху, близко к голове, одно плечо выше другого. И это плечо судорожно, равномерно опускалось и поднималось. Но уже лопатины земли сыпались на все тело. Один из солдат сердито, злобно и болезненно крикнул на Пьера, чтобы он вернулся. Но Пьер не понял его и стоял у столба, и никто не отгонял его.
Когда уже яма была вся засыпана, послышалась команда. Пьера отвели на его место, и французские войска, стоявшие фронтами по обеим сторонам столба, сделали полуоборот и стали проходить мерным шагом мимо столба. Двадцать четыре человека стрелков с разряженными ружьями, стоявшие в середине круга, примыкали бегом к своим местам, в то время как роты проходили мимо них.
Пьер смотрел теперь бессмысленными глазами на этих стрелков, которые попарно выбегали из круга. Все, кроме одного, присоединились к ротам. Молодой солдат с мертво бледным лицом, в кивере, свалившемся назад, спустив ружье, все еще стоял против ямы на том месте, с которого он стрелял. Он, как пьяный, шатался, делая то вперед, то назад несколько шагов, чтобы поддержать свое падающее тело. Старый солдат, унтер офицер, выбежал из рядов и, схватив за плечо молодого солдата, втащил его в роту. Толпа русских и французов стала расходиться. Все шли молча, с опущенными головами.