Моцарт и Сальери
| Моцарт и Сальери | |
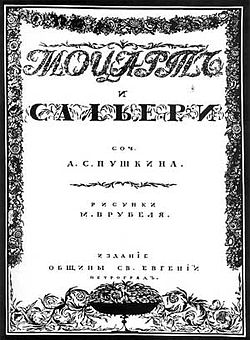 Обложка отдельного издания пьесы, оформленная С. В. Чехониным | |
| Жанр: | |
|---|---|
| Автор: | |
| Язык оригинала: | |
| Дата написания: |
1830 |
| Дата первой публикации: |
1831 |
«Мо́царт и Салье́ри» — вторая по авторскому счёту «маленькая трагедия» Александра Сергеевича Пушкина. Задумана и предварительно набросана в селе Михайловском в 1826 году. Написана в чрезвычайно плодотворный период, известный в пушкиноведении под названием Первой Болдинской осени — в 1830 году. Впервые опубликована в конце 1831 года в альманахе «Северные цветы на 1832 год»[1]. С небольшими изменениями пьеса в 1872 году была использована Н. А. Римским-Корсаковым в качестве либретто одноимённой оперы.
Основанная на одном из многочисленных слухов, порождённых ранней смертью В. А. Моцарта, «маленькая трагедия» Пушкина способствовала широкому распространению и укоренению в массовом сознании мифа о причастности к ней композитора Антонио Сальери, имя которого в России стало нарицательным[2][3][4].
Содержание
Зарождение и развитие замысла
Исследователи творчества А. С. Пушкина сходятся в том, что замысел маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» относится к 1826 году, и в том же году в селе Михайловском был сделан по крайней мере первоначальный её набросок[5]. Предполагается, что небольшие, внутренне замкнутые сцены Пушкин задумал ещё в процессе работы над «Борисом Годуновым», из которого он хотел выделить самостоятельные произведения, в частности, сцены «Димитрий и Марина» и «Курбский», — западноевропейские романтики в это время в поисках новых форм разрабатывали жанр «исторических сцен»[6].
Вопрос о том, в какой мере Пушкин в 1826 году осуществил свой замысел, остаётся открытым, поскольку рукописи пьесы не сохранились, а М. П. Погодин 11 сентября 1826 года сделал в своём дневнике запись, со слов Д. В. Веневитинова, о том, что у Пушкина, кроме «Бориса Годунова», есть ещё «Самозванец, Моцарт и Сальери, Наталья Павловна» и так далее[5]. Как предполагал Б. В. Томашевский, замысел «Моцарта и Сальери» в то время настолько определился, что друзья Пушкина считали пьесу уже написанной[7]. Сохранился составленный поэтом перечень задуманных драматических произведений: «Скупой, Ромул и Рем, Моцарт и Сальери, Дон Жуан, Иисус, Беральд Савойский, Павел I, Влюбленный бес, Димитрий и Марина, Курбский», — специалисты относят его к 1827 году[8]. Во всяком случае, Пушкин к этой пьесе вернулся Болдинской осенью 1830 года и в декабре, по возвращении в Москву, сообщал П. А. Плетнёву, что привёз с собой «несколько драматических сцен, или маленьких трагедий, имянно: Скупой Рыцарь, Моцарт и Салиери, Пир во время Чумы и Д. Жуан»[9].
В одном из списков «маленьких трагедий», или, как чаще называл их сам автор, «драматических сцен», «опытов драматических изучений», пьеса «Моцарт и Сальери» помечена как перевод с немецкого — предполагалась, таким образом, литературная мистификация[5][7]. М. П. Алексеев в комментариях к «пробному» седьмому тому Полного собрания сочинений Пушкина[К 1] высказывал предположение, что не только «Моцарта и Сальери», но и другие «маленькие трагедии» Пушкин первоначально хотел опубликовать анонимно — опасаясь критических нападок Ф. В. Булгарина[11].
Среди рукописей Болдинского периода сохранилась обложка с написанным Пушкиным заглавием: «Зависть», — как предполагают исследователи, таков был один из вариантов названия трагедии, от которого Пушкин впоследствии отказался, вернувшись к первоначальному названию, упомянутому в дневнике Погодина[11].
«Истина страстей, правдоподобие чувствований в предполагаемых обстоятельствах» — так Пушкин в этот период формулировал для себя основные требования к драматургу[12]. Как и все его драматические произведения, пьеса «Моцарт и Сальери» написана белым пятистопным («шекспировским») ямбом[13], но, по сравнению с «Борисом Годуновым», более разнообразным и непринуждённым, без обязательной цезуры на второй стопе[14]. Если в «Борисе Годунове» Пушкин отдал известную дань У. Шекспиру, пожертвовав двумя из трёх классических единств, а также четвёртым, «необходимым условием французской трагедии» — единством слога, то в структуре маленьких трагедий специалисты отмечают большее влияние французского классицизма, прежде всего Ж. Расина, у которого Пушкин находил преимущество перед Шекспиром в строгости и стройности отделки[14]. В «Моцарте и Сальери» соблюдены единства действия, времени и слога[14].
Написав пьесу, Пушкин не спешил её публиковать, хотя знакомил с ней, как и с другими маленькими трагедиями, некоторых друзей, — в июле 1831 года В. А. Жуковский писал Пушкину: «На Моцарта и Скупого сделаю некоторые замечания. Кажется и то и другое ещё можно усилить»[12]. В конце 1831 года пьеса была опубликована в альманахе «Северные цветы на 1832 год», где указана дата завершения работы над ней: «26 октября 1830 г.». В дальнейшем по этой публикации и перепечатывался текст «Моцарта и Сальери». В 1832 году пьеса была включения в часть III «Стихотворений Александра Пушкина»[15].
Предполагаемые источники замысла
Слухи о Сальери
О том, как складывался замысел «Моцарта и Сальери», достоверных сведений нет. В сохранившейся среди его бумаг записи, сделанной предположительно не раньше лета 1832 года, Пушкин ссылался на «некоторые немецкие журналы», что, однако, нельзя считать непреложным указанием на источник замысла[16]. М. Алексеев считал, что Пушкин мог сослаться на немецкие журналы, не указывая их более точно, с тем чтобы дезориентировать своих оппонентов, критикующих легендарную основу сюжета, и подобно тому, как и всю пьесу он первоначально хотел выдать за перевод с немецкого, переложить ответственность за неё на немецкие источники[16].
В 1824 году, спустя 30 с лишним лет после смерти Моцарта, в Вене действительно распространился слух, будто знаменитый композитор, придворный капельмейстер Антонио Сальери, находившийся в то время в психиатрической лечебнице, сознался в его убийстве. Этот слух был подхвачен и некоторыми газетами, в частности «Берлинской всеобщей музыкальной газетой»[17], а позже, с большой вероятностью именно оттуда, перепечатан и во французской «Journal des Débats»[18]. Поскольку немецким Пушкин владел недостаточно хорошо, в своё время ещё В. А. Францев предположил, что Пушкин о мифическом признании Сальери прочёл именно в «Journal des Débats»: с этим изданием поэт был хорошо знаком ещё в свой одесский период[19].
Однако публикация в прессе недостоверных слухов тогда же, в 1824 году, вызвала ряд опровержений, в том числе со стороны хорошо известного в то время в России композитора и музыкального критика Сигизмунда Нейкома[20]. Его письмо, опубликованное в «Берлинской всеобщей музыкальной газете», а затем и в «Journal des Débats», начиналось словами: «Многие газеты повторяли, что Сальери на смертном одре признался в ужасном преступлении, — в том, что он был виновником преждевременной смерти Моцарта, но ни одна из этих газет не указала источник этого ужасного обвинения, которое сделало бы ненавистной память человека, в течение 58 лет пользовавшегося всеобщим уважением жителей Вены»[21][22]. Непосредственно по поводу взаимоотношений Сальери и Моцарта, Нейком сообщал: «Не будучи связаны друг с другом тесной дружбой, Моцарт и Сальери питали друг к другу такое уважение, которое друг другу взаимно оказывают люди больших заслуг. Никогда никто не подозревал Сальери в чувстве зависти»[23][22]. Письмо Нейкома было опубликовано в «Journal des Débats» 15 апреля 1824 года, незадолго до отъезда Пушкина из Одессы; там же до него могли дойти сведения и из итальянских источников, где с опровержением слухов выступил известный поэт и либреттист Джузеппе Карпани[24]. Таким образом, в тех же источниках, в которых Пушкин мог почерпнуть сплетню о признании Сальери, он мог прочесть и её опровержения[22][К 2]. Эта сплетня, считал М. Алексеев, была не единственным и, скорее всего, не главным источником его вдохновения[26].
«Культ Моцарта»
В середине 20-х годов XIX века в России уже можно было говорить о настоящем «культе Моцарта» (хотя и далеко не всеобщем), и одним из самых ревностных служителей этого культа был хорошо знакомый Пушкину музыкальный критик А. Д. Улыбышев[26][К 3]. В 1825 году, сравнивая Моцарта с очень популярным в то время Джоаккино Россини (поклонники оперы в России тогда делились на партии «моцартистов» и «россинистов», как называл их «Московский телеграф»), Улыбышев писал: «В мире нравственном два рода гениев: одни родятся для всех веков, для всех народов и постигают сущность искусства: другие потому только гении, что являются во время, сообразно с их собственным духом… Моцарт принадлежит к первому роду гениев, Россини ко второму… Сверх того таково различие между сими двумя родами гениев, что первых произведения вечны, вторых временны…»[26]. Как бы ни заблуждался Улыбышев относительно Россини, предрекая ему скорое забвение, Пушкин, который от мира музыкальных переживаний был достаточно далёк (и писал об «упоительном Россини» в «Евгении Онегине»), в статье авторитетного критика мог обратить внимание не только на противопоставление двух типов музыкального творчества, но и на его слова о Моцарте — «гении» для всех времен, постигшем самую «сущность искусства»[26]. Улыбышеву принадлежала и восторженная статья о «Реквиеме» Моцарта, опубликованная весной 1826 года: «История „Реквиема“ известна. Всё должно было быть необычайно в судьбах человека, самое имя которого выражает идею об абсолютном совершенстве в музыкальном творчестве»[26]. Среди добрых знакомых Пушкина был и другой страстный поклонник Моцарта — граф М. Ю. Виельгорский, который, по словам М. Д. Бутурлина, «почти что помешался на превосходстве Моцарта над всеми прочими композиторами»[27].
Во второй половине 20-х годов на страницах русских журналов уже велась борьба за немецкую музыку против «итальянизма», отражавшая германофильские тенденции русских романтиков; собственно, и сам «культ Моцарта» — конкретное воплощение романтического культа гения — был изначально импортирован из Германии; даже присутствующее в пьесе сравнение Моцарта с Рафаэлем было в те годы в популярных музыкальных изданиях общим местом[28][29].
«Музыкальная жизнь художника Иосифа Берглингера»
В то время, когда Пушкин работал над своей «маленькой трагедией», уже существовала достаточно подробная биография Сальери, написанная Игнацем фон Мозелем и изданная в 1827 году, не говоря уже о многочисленных некрологах, опубликованных в разных странах в связи со смертью композитора в мае 1825 года; некоторые биографические сведения о нём попали тогда и в русскую печать[30]. В январе 1826 года некролог был опубликован и в «Санкт-петербургской газете», издававшейся на французском языке под редакцией Улыбышева; Сальери в нём был назван «великим композитором»[31]. «Ни в одной биографии Сальери, — писал Михаил Алексеев, — если таковые даже и были бы Пушкину известны, он не мог найти ни одного из тех указаний, на которых строится в пьесе поэтический облик его героя»[30]. У этих указаний, считал литературовед, совсем иной источник — книга В. Ваккенродера и Л. Тика «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного, изданные Л. Тиком», из которой многие ранние немецкие романтики, включая и Э. Т. Гофмана, заимствовали готовые поэтические схемы[32].
Это сочинение было хорошо известно в России: в «Московском телеграфе», в № 9 за 1826 год был опубликован отрывок из её второй части — «Примечательная и музыкальная жизнь художника Иосифа Берглингера», а чуть позже, в том же 1826 году, в Москве был издан и полный её перевод[32]. Во второй части обращает на себя внимание описание трудного пути героя к успеху:

|
От самых ранних лет музыка составляла главное удовольствие Иосифа... Мало по малу, повторяя часто своё наслажденье, он так образовал свои чувства, что все они были проникнуты звуками музыки... Преимущественно посещал он церкви и под высокими сводами храмов внимал духовным ораториям, песням и хорам, при громких звуках труб и литавр, и часто, движимый благоговением внутренним, смиренно падал на колени... Иногда действие звуков производило в сердце чудесное слияние грусти и радости. Иосиф готов был и плакать и смеяться... Он хотел принудить себя к изучению полезной науки. Но вечная борьба души не прекращалась. [...] Иосиф достиг своей цели неутомимым прилежанием и наконец увидел себя на высокой вершине неожиданного счастья[33]. | 
|
В одном из писем Иосифа можно было прочесть:

|
Прежде нежели мог я изливать в звуках свои чувства, сколько мучений мне стоило произвесть что-нибудь согласное с обыкновенными правилами моего искусства: как несносен был этот механизм! Но так и быть: я имел довольно юношеской силы и надеялся на радостное будущее“[33]. | 
|
Эта схема творческого пути музыканта, кажущаяся сейчас типичной и даже банальной, в России в 1826 году, писал Михаил Алексеев, была «совершенной новостью», и едва ли можно считать случайным сходство этого текста с первым монологом пушкинского Сальери[34]:


|
|

|
В первых главах книги Ваккенродера—Тика присутствуют и две главные проблемы пушкинской трагедии: зависть прославленного мастера к «божественной гениальности» художника-соперника и противостояние «гениальной» лёгкости и инстинктивности творчества и рационалистического процесса творческого усилия[34]. В главе «Ученик и Рафаэль» юноша по имени Антонио пытается выведать у Рафаэля его секреты, но Рафаэль по поводу характера своей живописи отвечает: «…Мой дала мне природа; я нимало над ним не трудился; этому никакими усилиями научиться невозможно»[36]. В книге присутствует и рассказ о живописце Франческо Франча, причиной смерти которого, по Ваккенродеру, стала зависть к Рафаэлю. Прославленный художник верил, что в душе его присутствует «небесный гений» — пока не увидел Мадонну Рафаэля. «С какой высоты величия он упал внезапно!» — пишет В. Г. Ваккенродер и негодует по адресу критиков, утверждающих, будто Франческо Франчиа был отравлен[37].
«Драматические сцены» Барри Корнуола
Как считал Дмитрий Благой, в затянувшем процессе работы над «маленькими трагедиями» роль катализатора сыграли «Драматические сцены» Барри Корнуола, входившие в однотомное собрание сочинений четырёх английских поэтов, которое Пушкин читал в Болдине[38][К 4]. Требования поэтики Корнуола, его стремление к «выражению естественных чувств» и готовность ради этой естественности пожертвовать «поэтическими описаниями», были близки Пушкину, — в последние годы Корнуол был одним из любимейших его писателей[40][41]. Адвокат по профессии, он многие годы был комиссаром управления домами для умалишённых; посвящённые изображению человеческих страстей, его «Сцены» отличались, как указывал сам автор в предисловии к ним, «странностью вымысла»: Корнуола привлекали психологически исключительные фабулы и положения, явления человеческой психики, граничащие с патологией; издатели его сочинений отмечали, что Корнуол предпочитает изображать «болезненные чувства природы нашей и даже её необузданные заблуждения»[42].
Свои «маленькие трагедии» Пушкин тоже первоначально намеревался назвать «драматическими сценами», под таким наименованием пьесы упоминались даже в его письме к Плетнёву в декабре 1830 года; исследователи отмечали очевидное сходство драматургической конструкции его пьес с сочинениями Корнуола[43][44]. Драматизированные психологические этюды английского писателя, состоящие из нескольких сцен (от одной до четырёх), при самом ограниченном числе персонажей, сочетают напряженность внутреннего движения страстей с предельной скупостью в отношении внешней формы[43]. «Это было, — писал Д. Благой, — как раз то, чего добивался Пушкин, к чему он шёл своей „Сценой из Фауста“». Д. Благой в своё время обнаружил известное сходство и в содержании: «Моцарт и Сальери» перекликается с «Лодовико Сфорца» Корнуола, фабула которого основана на двойном отравлении[44]. Между двумя пьесами можно обнаружить и непосредственные текстуальные совпадения. Например, у Пушкина Сальери восклицает: «Постой, / Постой, постой!.. Ты выпил!.. Без меня?» — у Корнуола в сцене второго отравления: «Изабелла. А! Остановись, остановись — потише, / Подожди. Сфорца. Как, отчего? Изабелла. Ho — разве, разве ты будешь / Пить без меня?»[44].
Д. Благой отмечает, что в «Моцарте и Сальери» очень большое место занимает монологическая форма речи, причём монолог Сальери, по мысли представляющий собой единое целое, в пьесе рассредоточен — разбит на три части. Этот продолжающийся на протяжении всей «маленькой трагедии» монолог литературовед, помимо определённой композиционной функции (три монолога Сальери, в начале, в середине и в конце, как бы обрамляют диалогические сцены) объясняет тем, что зависть Сальери у Пушкина предстаёт как уже сложившееся психическое состояние, давно и устойчиво владеющее его душой — на грани патологии[45].
Легенда о Микеланджело. Гений и злодейство
Во времена Пушкина широкое хождение имела сплетня о Микеланджело: будто бы он, желая достовернее изобразить страдания распятого Христа, не остановился перед тем, чтобы распять своего натурщика, — в пьесе об этой сплетне вспоминает Сальери в своём заключительном монологе[46]. Микеланджело в этом анекдоте совершал преступление во имя искусства, такой же мотив приписывает себе и пушкинский Сальери[46].
Сплетня нашла своё отражение и в литературе; её пересказывал, например, маркиз де Сад в романе «Жюстина, или Несчастья добродетели»: «…Он не посовестился распять одного молодого человека и воспроизвести его мучения»[46]. Не называя, в отличие от Сада, «великого живописца» по имени, А. Шамиссо ту же сплетню обработал в поэме «Распятие. Легенда о художнике» (нем. Das Kruzifix. Eine Künstler-Legende)[47] .
Пушкин мог узнать о ней из «Писем русского путешественника» Н. М. Карамзина, который в письме XXIII (из Дрездена) сообщал, что в местной галерее, показывая картину Микеланджело — «Распятие Христа», — всегда рассказывают, будто он умертвил человека, служившего ему моделью, дабы естественнее представить умирающего Спасителя; Карамзин считал этот анекдот совершенно невероятным[47]. А. Эфрос указывал, однако, и другой возможный источник — поэму А. Лемьера «Живопись» (фр. La Peinture), написанную ещё в 1769 году: «Чтобы изобразить на картине Бога, умирающего на скорбном кресте, // Микель-Анджело мог бы это сделать! Преступление и гений!..// Замолчи, гнусное чудовище, нелепая клевета!»[48][49][К 5]. Сам Лемьер сопроводил эти стихи комментарием: «Никогда момент энтузиазма не совпадет с преступлением; я даже не могу поверить в то, что преступление и гений могут быть совместимы»[47].
Действующие лица
- Сальери
- Моцарт
- Старик со скрипкой
Сюжет
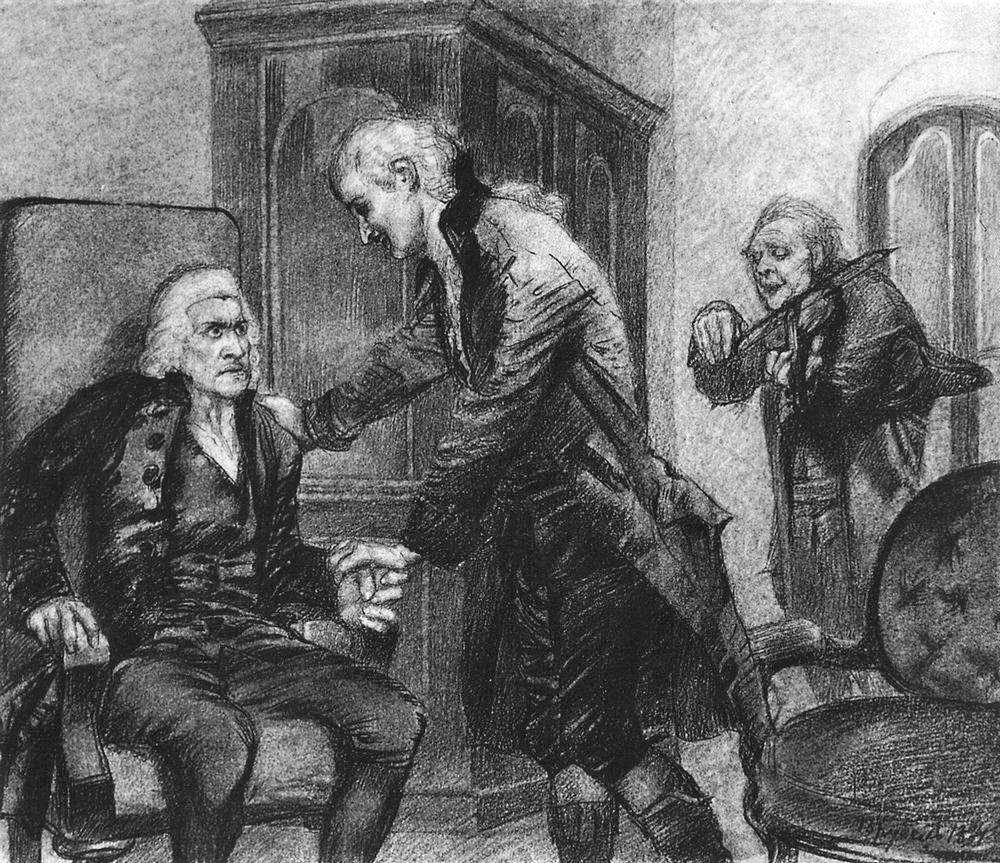 Сцена первая открывается пространным монологом Сальери: рано отвергнув «праздные забавы» и науки, чуждые музыке, поверив «алгеброй гармонию» — умертвив звуки и разъяв музыку как труп, он напряжённым трудом и глубоким постижением ремесла в конце концов добился «степени высокой». Никогда прежде не знавший зависти, Сальери признаётся в том, что глубоко и мучительно завидует Моцарту, и видит высшую несправедливость в том, что «бессмертный гений» дан не ему — в награду за самоотверженный труд, а «гуляке праздному» Моцарту[35].
Сцена первая открывается пространным монологом Сальери: рано отвергнув «праздные забавы» и науки, чуждые музыке, поверив «алгеброй гармонию» — умертвив звуки и разъяв музыку как труп, он напряжённым трудом и глубоким постижением ремесла в конце концов добился «степени высокой». Никогда прежде не знавший зависти, Сальери признаётся в том, что глубоко и мучительно завидует Моцарту, и видит высшую несправедливость в том, что «бессмертный гений» дан не ему — в награду за самоотверженный труд, а «гуляке праздному» Моцарту[35].
Появляется Моцарт вместе со слепым стариком — уличным скрипачом, забавно, на взгляд Моцарта, исполняющим популярные арии из его опер. Сальери, однако, ничего забавного в «интерпретациях» старика не находит: «Мне не смешно, когда маляр негодный Мне пачкает Мадонну Рафаэля»[50].
Но Моцарт своего величия не сознаёт. Он играет на фортепиано свежее сочинение, небрежно охарактеризовав его как «две-три мысли», и от оценки потрясённого Сальери: «Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь», — легкомысленно отшучивается: «божество моё проголодалось»[51].
Моцарт уходит, а Сальери, оставшись один, убеждает себя в том, что призван «остановить» Моцарта; в противном случае гибель грозит не одному Сальери, но всем служителям музыки:

|
|

|
Остановить Моцарта он намерен с помощью яда — последнего дара, «дара любви» некоей Изоры, который он носит с собой уже 18 лет.
Сцена вторая. В тот же день, некоторое время спустя, Сальери и Моцарт обедают в трактире Золотого Льва. Моцарта тревожит Реквием, который он сочиняет по заказу человека в чёрном, не назвавшего своего имени. Моцарту кажется, будто «чёрный человек» повсюду, как тень, ходит за ним и теперь сидит рядом с ними за столом. Сальери, пытаясь развлечь друга, вспоминает Бомарше, но Моцарта преследуют мрачные предчувствия: «Ах, правда ли, Сальери, Что Бомарше кого-то отравил?» — спрашивает он. Но тут же сам себя опровергает:

|
|

|
Сальери тем временем бросает в его стакан яд. Простодушный Моцарт пьёт за здоровье друга, «за искренний союз, Связующий Моца́рта и Сальери, Двух сыновей гармонии»[53]. Затем садится к фортепиано и играет фрагмент из своего Реквиема. Сальери слушает его со слезами на глазах.
Почувствовав недомогание, Моцарт прощается с другом и уходит — в надежде, что сон его исцелит. «Ты заснёшь надолго, Моцарт», — напутствует его, оставшись один, Сальери, теперь как будто потрясённый тем, что он, совершивший злодейство, — не гений[54].
Толкования пьесы
 С лёгкой руки Пушкина имя Антонио Сальери в России стало нарицательным для обозначения завистливой посредственности, способной на любое коварство, вплоть до убийства[55]. Хотя пушкинист Ирина Сурат считает, что такого Сальери создали пушкинисты, а отнюдь не сам Пушкин[56]. Прежде всего, Сальери в «маленькой трагедии» не является завистником по своей природе:
С лёгкой руки Пушкина имя Антонио Сальери в России стало нарицательным для обозначения завистливой посредственности, способной на любое коварство, вплоть до убийства[55]. Хотя пушкинист Ирина Сурат считает, что такого Сальери создали пушкинисты, а отнюдь не сам Пушкин[56]. Прежде всего, Сальери в «маленькой трагедии» не является завистником по своей природе:

|
|

|
Первый монолог Сальери давал повод некоторым актёрам — исполнителям этой роли утверждать, при поддержке театральных критиков и даже литературоведов-пушкинистов, что он отравил Моцарта не из зависти, а из ложно понятого чувства долга[58]. «Идейным убийцей», который, как никто, любит гений Моцарта, считал пушкинского Сальери К. С. Станиславский[59]. В таком толковании заявляло о себе чувство протеста: возможно, потому, что в процессе работы пьеса, как предполагают, некоторое время имела название «Зависть», её драматизм ещё со времён В. Г. Белинского видели именно в зависти таланта к гению. Эта концепция, пишет И. Сурат, «надолго возобладала в истории осмысления „Моцарта и Сальери“ как удобная, накатанная колея»[60]. «Талант» Белинского при этом незаметно превращался в «посредственность», а затем и в «бездарность», и всё в конечном счёте сводилось к примитивной схеме «гений и злодей», — появился, по Б. Штейнпрессу, третий Сальери, не исторический и не пушкинский[61][62]. Поскольку пьеса Пушкина, с небольшими сокращениями, была использована Н. А. Римским-Корсаковым в качестве либретто одноимённой оперы, этот образ получил своё дальнейшее развитие и у некоторых музыковедов, и если, например, у Д. Благого Сальери — «аскет и фанатик»[63], то у А. Гозенпуда, он уже «фанатик и изувер, идущий на преступление»[64][К 6].
Между тем в пьесе Пушкина нет указаний на бездарность или посредственность Сальери. «Ведь он был гений, как ты да я», — говорит Моцарт. И Сальери, судя по заключительному его монологу, себя посредственностью не считал:

|

|
Широко распространённое в литературе представление о пушкинском Сальери как о лишённом творческого воображения ремесленнике, сочиняющем по неким рассудочным правилам, оспаривал ещё Сергей Бонди: «Всякому, знакомому с музыкой, известно, что это и есть нормальный, обычный путь всякого композитора, сочиняющего не лёгкие примитивные песенки и танцы, а серьёзную музыку… Несколько лет будущие композиторы занимаются в консерваториях таким „ремеслом“»[67]. Пушкинский Сальери, пишет И. Сурат, не равняет себя с Моцартом, но сознаёт высшую природу своего дарования; ему ведомы и «восторг», и «вдохновенье», и Моцарт любит его музыку[56]. «Принято говорить о сухом рационализме Сальери в противовес живой непосредственности Моцарта, но кто из них предался „неге творческой мечты“? Это из монолога Сальери, но так бы мог сказать о себе и Моцарт, и сам Пушкин — это словарь его лирики. […] Труд и вдохновение в равной мере знакомы двум героям — как были они в равной мере знакомы Пушкину…»[68] Противопоставление труда вдохновению так же надуманно, как и пресловутое противопоставление «алгебры» — «гармонии»[69]. Иное дело, что вслед за А. Д. Улыбышевым Пушкин в своей трагедии мог противопоставить «два рода гениев», один из которых создаёт вечное, другой — преходящее[26].
Дмитрий Благой сравнивал пушкинского Сальери с бароном Филиппом из «Скупого рыцаря»: его возмущает то, как мало легкомысленный Моцарт ценит данное ему свыше, — самого же Пушкина, считал литературовед, пленяла именно эта черта Моцарта[70]. Анна Ахматова, напротив, была убеждена в том, что Пушкин видел себя отнюдь не в Моцарте, как принято считать, а в Сальери. Доказательством ей служили черновики Пушкина, запечатлевшие танталовы муки творчества. По воспоминаниям Надежды Мандельштам, Ахматова протягивала нить от «Моцарта и Сальери» к «Египетским ночам» и считала, что Пушкин в этих сочинениях противопоставлял себя Адаму Мицкевичу: лёгкость, с какой сочинял Мицкевич, Пушкину была чужда[69].
Осип Мандельштам на это возражал: «В каждом поэте есть и Моцарт, и Сальери»[69]. И в пьесе Пушкина, считает Ирина Сурат, Моцарт и Сальери — две творческие, и, быть может, не только творческие, ипостаси самого автора[25].
И для Ахматовой, и для Мандельштама драматизм «маленькой трагедии» Пушкина заключался не в зависти среднего таланта к гению, а в столкновении двух путей творчества[60]. Мандельштам при этом отдавал безусловное предпочтение пушкинскому Сальери; если по мнению Благого, Пушкин «решительно осуждает в лице Сальери, с его бесчеловечным эстетизмом, так называемое „искусство для искусства“»[71], то Мандельштам видел в нём нечто прямо противоположное. Актуализируя этот образ на свой лад, он в начале 20-х годов писал: «На место романтика, идеалиста, аристократического мечтателя о чистом символе, об отвлеченной эстетике слова, на место символизма, футуризма и имажинизма пришла живая поэзия слова-предмета, и её творец не идеалист-мечтатель Моцарт, а суровый и строгий ремесленник мастер Сальери, протягивающий руку мастеру вещей и материальных ценностей, строителю и производителю вещественного мира»[72].
Литературовед Вадим Вацуро первый обратил внимание на то, что Сальери в пьесе предлагает Моцарту «чашу дружбы»[73][74]. А у поэтов пушкинской эпохи «чаша дружбы» — это чаша, которую пьют по кругу; Сальери, следовательно, и сам намеревался выпить яд вместе с Моцартом[74][75]. Вацуро таким образом объяснял восклицание Сальери, мимо которого полтора столетия проходили пушкинисты: «Постой, постой, постой!.. Ты выпил!.. без меня?»[53][75]. Его «До свиданья» в ответ на моцартовское «Прощай же!» в этом контексте приобретает вполне определённый смысл. «Эту реплику, — пишет И. Сурат, — толковали как коварную издёвку, а ведь на самом деле Сальери отвечает всерьёз, и в его словах звучит надежда на загробную встречу — характерный мотив пушкинской лирики той же Болдинской осени 1830 года»[76].
Вообще же, художники, трактуя образ пушкинского Сальери, нередко отстранялись от совершённого им в пьесе злодеяния — или, наоборот, исторического Сальери, никакого злодеяния не свершившего, наделяли чертами героя маленькой трагедии. Сергей Эйзенштейн в 1940 году посвятил Сальери — именно герою Пушкина — сборник своих статей: «Бедный пушкинский Сальери, — писал режиссёр. — Музыку он разъял, как труп… И в этом было самое страшное». И всё потому, что не было ещё кинематографа — единственного искусства, позволяющего «не убивая его жизни, не умерщвляя его звучания, не обрекая его на застывшую неподвижность трупа… подслушать и изучать не только его алгебру и геометрию, но и интегралы и дифферинциалы, без которых искусству уже не обойтись»: «…Нигде и никогда предвзятая алгебра мне не мешала. Всюду и всегда она вытекала из опыта готового произведения. А потому — посвящённый трагической памяти искателя Сальери, этот сборник одновременно посвящён и памяти жизнерадостной непосредственности Моцарта»[77].[68].
Герои Пушкина и историческая реальность
Критики Пушкина чаще обращали внимание на неисторичность его Сальери, хотя и Моцарт в его маленькой трагедии имеет мало общего с оригиналом. Правда, в отличие от Сальери, Моцарта Пушкин не сочинил, а воспользовался образом, уже вполне сложившимся к тому времени в романтической литературе, — романтики же выводили образ Моцарта даже не из его музыки, а из вполне определённого, однобокого её восприятия: светлый гений, безоблачный, безмятежный, не сознающий своего величия, безразличный к мирской суете, к успеху и положению, не знающий мук творчества музыкант сверхъестественной одаренности, «сочиняющий музыку так, как поют птицы», — словом, «вечно ясный и солнечно-юный»[78][79][80].
Этот мифический образ оспаривал ещё Герман Аберт в начале XX века[78][79]. Долгое время недоступная широкой публике, но в конце концов всё-таки опубликованная частная корреспонденция Моцарта, с содержащимися в ней уничижительными характеристиками коллег, постоянными жалобами на интриги и козни итальянских музыкантов, призванными оправдать неуспех у публики, с сомнительного сорта юмором, окончательно разрушила созданный романтиками образ[81][82][83][84]. Таким же романтическим вымыслом было и безразличие Моцарта к положению и славе, — прижизненное положение вообще занимало композиторов того времени намного сильнее, чем маловероятная, при короткой памяти тогдашней публики, посмертная слава[85]. И Моцарт не был исключением — на протяжении многих лет безуспешно искал должности при разных европейских дворах[86], а в 1790 году, пытаясь улучшить своё положение, писал эрцгерцогу Францу: «Жажда славы, любовь к деятельности и уверенность в своих познаниях заставляют меня осмелиться просить о месте второго капельмейстера…»[87], — хотя это место было уже занято его австрийским коллегой Игнацем Умлауфом[88]. И в самой музыке Моцарта, помимо светлых тонов, уже давно расслышали и скорбно-лирические, и мрачные трагические настроения[89]. И. И. Соллертинский считал, что образ «гуляки праздного» был создан буржуазными филистерами с целью переложить на самого Моцарта ответственность за то, что он умер «буквально от истощения сил»[90].
Ещё меньше похож на свой исторический прототип пушкинский Сальери. В своём первом монологе он предстаёт человеком, проделавшим очень долгий и трудный путь к признанию, добившимся своего положения самоотверженным трудом, отказом едва ли не от всех радостей жизни. К реальному Сальери, родившемуся в 1750 году (всего на 6 лет раньше Моцарта), успех пришёл уже в 1770-м, с постановкой первой же его не учебной оперы. К 25 годам он был уже автором 10 опер, которые с успехом шли во многих странах, в том числе и в России, — Моцарт в 25 лет мог похвастаться только «Идоменеем», да и тот пользовался ограниченным успехом[91][92].
Исторически достоверные данные в пьесе исчерпываются связью Сальери с П. О. Бомарше (сочинением «Тарара») и его близостью к К. В. Глюку[62]. Но, поскольку «великий Глюк», с которым Сальери познакомился ещё в конце 1760-х годов, открыл не «новы тайны»[35], а новые пути развития «серьёзной» оперы (оперы-сериа), Пушкин, заставив своего Сальери преклоняться перед Моцартом, пренебрёг важным обстоятельством, которым реальный Сальери пренебречь не мог. «Сальери… — писал Герман Аберт, — оказался вовлечённым в фарватер высокой музыкальной драмы. Естественно, что с этим было связано отмежевание от Моцарта и его искусства, что не могло не отразиться и на личных отношениях обоих мастеров»[93]. Их различное отношение к Глюку, считал Аберт, препятствовало какому бы то ни было духовному сближению[78]. Джон Райс в своей книге «Антонио Сальери и венская опера», показывая на конкретных примерах, как Моцарт учился у Сальери, со своей стороны, замечает, что и Сальери было чему поучиться у Моцарта, «но он, похоже, не спешил это делать»[94]. «Ты, Моцарт, бог»[51], — на самом деле два композитора шли разными путями, и для реального Сальери единственным богом на земле был Глюк, путеводной звездой его были не «райские песни» пушкинского Моцарта, а «высокая музыкальная драма», в которой Моцарт себя не проявил[95][96].
Наконец, как композитор Сальери не был склонен «поверять алгеброй гармонию». «Подобные эксперименты, — пишет Лариса Кириллина, — проводили другие музыканты, которых, однако, никто не упрекал впоследствии в „умерщвлении“ художественной материи»[97]. Для современников скорее музыка Моцарта была слишком «учёной»[97]; с музыкальным стилем Сальери труп не сочетался никак: он был эмпириком, а не догматиком[97]. Сопоставляя свидетельства современников о Сальери с пушкинским героем, Л. Кириллина приходит к заключению: «Просто не тот человек»[97]. Этот разительный диссонанс можно было бы объяснить тем, что Пушкин об Антонио Сальери, «в действительности добродушном и доброжелательном человеке», по Аберту[78], имел лишь самое приблизительное представление. Но более близкое знакомство с оригиналом ему могло бы только помешать: реальный Сальери в заданную мифологическую концепцию никак не вписывался[97].
Дискуссия о клевете
Нравственное чувство, как и талант, даётся не всякому — А. С. Пушкин [98].
|
Когда Пушкин в конце 1831 года опубликовал свою пьесу, Сальери ещё не был забытым композитором: его «Аксур» по-прежнему с успехом шёл в Германии[99], старшие современники поэта ещё помнили успех его опер в России, где они ставились неоднократно начиная с 1774 года[100]. Наконец, отдельные номера из «Аксура» (италоязычной версии «Тарара»), в Москве и Петербурге ещё и в пушкинскую эпоху нередко исполнялись в концертах[101]. Ария «Моя Астазия — богиня!», как утверждала Т. Л. Щепкина-Куперник, пользовалась особенной популярностью: весь город её напевал, — возможно, именно эту арию и напевает пушкинский Моцарт во второй сцене[31]. «Современники Пушкина, — писал в 1935 году М. П. Алексеев в комментариях к „пробному тому“, — должны были довольно живо почувствовать историческую неправдоподобность образа Сальери»[1]. Так, известный драматург и литературный критик П. А. Катенин, помимо сухости изложения, обнаружил в пьесе и более важный порок — клевету. «…Есть ли, — спрашивал Катенин, — верное доказательство, что Сальери из зависти отравил Моцарта? Коли есть, следовало выставить его на показ в коротком предисловии или примечании уголовною прозою, если же нет, позволительно ли так чернить перед потомством память художника, даже посредственного?»[102]. Катенин признавал исторически недостоверным образ Сальери в целом, но в первую очередь его возмутило необоснованное обвинение; на возражение П. В. Анненкова, что никто не думает о настоящем Сальери, герой Пушкина — это всего лишь «тип даровитой зависти» и что «искусство имеет другую мораль, чем общество», Катенин отвечал: «Стыдитесь! Ведь вы, полагаю, честный человек и клевету одобрять не можете»[103].
В бумагах Пушкина сохранилась запись, сделанная, как установили исследователи, в 1832 году: «В первое представление „Дон Жуана“, в то время, когда весь театр полный изумленных знатоков безмолвно упивался гармонией Моцарта, раздался свист — все обратились с изумлением и негодованием, и знаменитый Салиери вышел из залы в бешенстве, снедаемый завистью. Салиери умер лет восемь тому назад. Некоторые немецкие журналы говорили, что на одре смерти признался он будто бы в ужасном преступлении — в отравлении великого Моцарта. Завистник, который мог освистать Дон-Жуана, мог отравить его творца»[104]. Источник этой информации Пушкин не указал, а сама запись, нигде автором не опубликованная, как полагают исследователи, — его реакция на обвинения в клевете. «Только этим обстоятельством, — говорилось в изданных П. В. Анненковым „Материалах для биографии А. С. Пушкина“, — можно объяснить резкий приговор Пушкина о Сальери, не выдерживающий ни малейшей критики. Вероятно, к спору, тогда возникшему, должно относиться и шуточное замечание Пушкина: „Зависть — сестра соревнования, стало быть, из хорошего роду“»[105].
Между тем хорошо известно, что «Дон Жуана» Моцарт писал для Праги, где и состоялась премьера. Опера имела успех, но Сальери на пражских представлениях не присутствовал, он находился в это время в Вене[16]. Как считает Марио Корти, слова «безмолвно упивалась гармонией» даже для Праги являются романтическим преувеличением: публика XVIII века в театре вела себя достаточно свободно, зрители во время представлений могли и пить, и ужинать, и даже играть в карты[К 7]; в ложах порою устраивали любовные свидания, лишь время от времени интересуясь происходящим на сцене[106]. А в Вене опера Моцарта встретила весьма прохладный приём, она не понравилась даже Бетховену[107][108]. Что же касается Сальери, то он имел репутацию величайшего музыкального дипломата — именно потому, что предпочитал никак не высказываться о сочинениях своих современников, за исключением Глюка[109]; а его высокое положение тем более предполагало определенный кодекс публичного поведения[110]. По свидетельству одного из его учеников, А. Хюттенбреннера, Сальери никогда не отзывался об опере Моцарта с энтузиазмом, однако Л. Кириллина находит этому объяснение в большом количестве перекличек между «Дон Жуаном» и написанной тремя годами раньше оперой Сальери «Данаиды», одним из самых успешных его сочинений[111][112].
Этическая сторона вопроса беспокоила не только Катенина; например, Г. Г. Гагарин писал матери в 1834 году: «Я спросил Пушкина, почему он позволил себе заставить Сальери отравить Моцарта; он мне ответил, что Сальери освистал Моцарта, и что касается его, то он не видит никакой разницы между „освистать“ и „отравить“, но, что, впрочем, он опирался на авторитет одной немецкой газеты того времени, в которой Моцарта заставляют умереть от яда Сальери»[113].
Отношение к этой сплетне образованной части российского общества вполне выразил А. Д. Улыбышев в изданной им в 1843 году «Новой биографии Моцарта»: «Если уж так нужно верить слухам, которые ещё находят отголоски, то один из них отметился жутким действием — Сальери отравил Моцарта. К счастью для памяти итальянца, эта сказка лишена как оснований, так и правдоподобности, она так же абсурдна, как и ужасна»[114]. Спорили не о том, мог ли Сальери в самом деле отравить Моцарта, а о том, имел ли право Пушкин давать своему вымышленному герою имя реального исторического лица и обвинять таким образом реального Сальери в тягчайшем преступлении. Защитников у Пушкина нашлось немало. «Для выражения своей идеи, — писал много лет спустя В. Г. Белинский, — Пушкин удачно выбрал эти два типа. Из Сальери, как мало известного лица, он мог сделать, что ему угодно…»[115] С Анненковым в 1853 году солидаризировался И. С. Тургенев: «В вопросе о Моцарте и Салиери я совершенно на Вашей стороне — но это, может быть, оттого происходит, что нравственное чувство во мне слабо развито»[116]. Сам Анненков, в тех же «Материалах для биографии А. С. Пушкина», изданных в 1855 году, защищал автора маленькой трагедии намного осторожнее, чем Белинский: «Не входя… в разбор вопроса о степени предположений, дозволенных автору при выводе исторического лица, скажем, что если со стороны Пушкина было какое-либо преступление перед Сальери, то преступления такого рода совершаются беспрестанно и самыми великими драматическими писателями»[105]. При этом Анненков приводил пример, далеко не равноценный обвинению невиновного человека в убийстве: «Так, Елизавету Английскую сделали они типом женской ревности и преимущественно одной этой страстью объясняли погибель Марии Стюарт, едва упоминая о всех других поводах к тому»[105].
С Катениным же много лет спустя, в 1916 году, непосредственно в связи с оперой Н. А. Римского-Корсакова, согласился музыкальный критик «Нового времени» М. М. Иванов: «Катенин был совершенно прав, и можно только удивляться, что Пушкин остался при своём мнении и не поцеремонился с чужим — безукоризненно честным именем, как Сальери, чтобы блистательно по-своему разыграть психологические вариации на тему о зависти»[117].
Утверждение мифа
Обременять вымышленными ужасами исторические характеры и не мудрено, и не великодушно. Клевета и в поэмах всегда казалась мне непохвальною. — А. С. Пушкин [118].
|
Слух о том, что Сальери отравил Моцарта и якобы признался в этом на смертном одре, был всего лишь одним из многочисленных слухов, порождённых ранней смертью Моцарта. Не первым — непосредственно после смерти Моцарта молва называла его убийцами масонов и ревнивого мужа одной из его учениц[119][120], — и не последним: подозрение в убийстве пало даже на жену Моцарта и его ученика Ф. К. Зюсмайра[121][122]. Слух, вдохновивший Пушкина, изначально не был подтверждён ничем, кроме ссылки на авторитет самого Сальери, будто бы признавшегося в убийстве, — хотя ни один человек этого признания не слышал[123][124].
В России этот слух во времена Пушкина распространён не был; в Германии — коль скоро сам Пушкин ссылался на «некоторые немецкие журналы», — во всяком случае, не превратился в «легенду»[2]. Правда, ещё в 1825 году немецкий беллетрист Густав Николаи[de] сделал слух об отравлении сюжетом своей новеллы «Враг музыки» (Der Musikfeind); в отличие от Пушкина, он назвал своего героя не Сальери, а Долорозо, но прототип, за которым Николаи признал значительное число замечательных произведений, оказался вполне узнаваемым[125][К 8]. Популярной, однако, его новелла не стала; Г. Аберт называет её «довольной жалкой»[126]. В Германии, как и в Австрии, сколько-нибудь серьёзные исследователи если и обвиняли в чём-то Сальери, так только в интригах против Моцарта. Об этом свидетельствует, например, большая статья о Сальери в энциклопедии «Всеобщая немецкая биография» (Allgemeine Deutsche Biographie), написанная австрийским музыковедом Максом Дицем в 1890 году: «На Сальери долгое время висело тяжёлое обвинение, безобразное подозрение, будто он всевозможными интригами мешал продвижению Моцарта как оперного композитора, был, так сказать, демоном, преждевременно сведшим в могилу этого немецкого гения»[127]. Диц защищал Сальери от «необоснованных» обвинений в интриганстве, опровергать же «нелепое утверждение», будто он из зависти отравил Моцарта, счёл излишним[127]. Отто Ян, чья биография Моцарта до Аберта считалась лучшей, для сплетни о причастности Сальери к его смерти нашёл место только в сноске[128]. Сам же Аберт в начале XX века писал: «Биографы Моцарта много грешили против этого итальянца, под влиянием чувства ложного национального патриотизма выставляя его как злобного интригана и ни на что не способного музыканта»[78]. «Совершенно необоснованное подозрение против Сальери как виновника отравления» Аберт в своей книге «Моцарт» только упомянул[126][К 9]. Столетие со дня смерти композитора в 1925 году в Вене было отмечено торжественным концертом[132].
Иначе обстояло дело в России. Если новеллы Николаи сто лет спустя не оказалось даже в Берлинской государственной библиотеке[125], то маленькую трагедию Пушкина ожидала совершенно иная судьба. «Никто не думает о настоящем Сальери», — возражал Анненков Катенину; однако люди, не имевшие представления о композиторе и педагоге Антонио Сальери, думали именно о нём, и потому вновь и вновь приходилось объяснять, что настоящий Сальери не травил Моцарта ядом[133][134]. В «пробном» томе ПСС Пушкина в 1935 году сплетня об отравлении упоминалась как «отброшенная исторической критикой»[16], но в желающих подобрать отброшенное наукой никогда недостатка не было. Музыковед и композитор Игорь Бэлза свою изданную в 1953 году книгу «Моцарт и Сальери, трагедия Пушкина, драматические сцены Римского-Корсакова» писал на фоне печально знаменитого «дела врачей»[135][136], и пушкинский сюжет под его пером приобрёл новый и неожиданный смысл:

|
...Великий зальцбургский мастер был не только гениальнейшим композитором, а и художником нового, демократического типа, рождённым эпохой великих социальных сдвигов, творившим для народа, жившим одной жизнью с народом и получившим такое всенародное признание, которого до него не заслужил ещё ни один композитор. Вот почему Сальери, презиравший народ... испытывал смертельную ненависть к Моцарту... Сальери действительно видел в Моцарте своего идейного врага... Моцарт вырвался на улицы и площади, стал мастером-трибуном. Вот кого возненавидел Сальери, вот кого он решил отравить[137][110]. | 
|
Бэлза при этом проводил параллель между Пушкиным, погибшим «от пули иноземного выродка», и Моцартом, отравленным «пригретым при дворе Габсбургов чужеземцем»[110][138].
Бэлзе возражал известный музыковед Борис Штейнпресс, написавший начиная с 1954 года целый ряд статей в защиту Антонио Сальери[К 10], в одной из которых он утверждал: «Наука доказала необоснованность подозрения, отделила факты от небылиц и воздала должное достоинствам видного композитора, дирижёра, педагога, руководителя музыкально-театральной жизни и артистическо-филантропической деятельности австрийской столицы»[140]. Но оптимизм автора оказался преждевременным — на защиту Пушкина встали пушкинисты. «Вопрос не в том, — писал, например, Сергей Бонди, — так ли точно всё было в действительности, как показывает Пушкин в своей трагедии… В данном случае важно то, что Пушкин был вполне убеждён в виновности Сальери и, как показал своих работах И. Ф. Бэлза, имел для этого достаточные основания»[141]. Если Михаил Алексеев в «пробном томе» называл версию об отравлении отброшенной исторической критикой и подробно останавливался на несходстве пушкинского Сальери с его историческим прототипом, то в дальнейших академических изданиях, в том числе и в 1978 году, Борис Томашевский весь вопрос исчерпывал заявлением: «Пьеса построена на упорных слухах о том, что Моцарт (ум. 1791) был отравлен композитором Антонио Сальери. Сальери умер в мае 1825 г. и перед смертью в исповеди признавался в отравлении Моцарта. Об этом появилась статья в лейпцигской немецкой „Всеобщей музыкальной газете“»[7][К 11]. Пушкинист И. Сурат в статье, впервые опубликованной в 2007 году, без тени сомнения писала: «Исторический Сальери в 1824 году перерезал себе горло, признавшись в убийстве Моцарта»[76].
То обстоятельство, что музыковедам всё ещё приходится в муках отстаивать научную точку зрения против мифологии, распространяемой литераторами, автор статьи о Моцарте в энциклопедии «Новая немецкая биография» (Neue deutsche Biographie) относит к «непонятным феноменам современной музыкальной историографии»[143]. Российские исследователи, в свою очередь, задаются вопросом: почему же миф о Сальери оказался столь живучим? «Магия таланта Пушкина», считает Сергей Нечаев, придала внешнюю убедительность едва ли не самой нелепой из сплетен[144]. Музыковед Лариса Кириллина даёт на этот вопрос свой ответ: именно потому, что это действительно миф — анонимное сказание, призванное в символической, а порою и фантастической форме запечатлеть некоторые объективные явления; при этом как для сотворения, так и для бытования мифа знание сути вещей не требуется[145]. «Культура как духовный феномен не может существовать и развиваться без мифов. Когда старые мифы умирают или перестают восприниматься непосредственно, на их место приходят новые, подчас аналогичные им по структуре и функциям в общественном сознании»[145]. Ирина Сурат видит в маленькой трагедии Пушкина отражение и ветхозаветного предания о Каине и Авеле, и — если принять версию В. Вацуро о том, что Сальери намеревался умереть вместе с Моцартом, — новозаветной истории о Христе и Иуде, покончившем с собой после совершённого предательства. Л. Кириллина видит в романтическом — в том числе и пушкинском — Моцарте реинкарнацию образа Орфея; здесь присутствовало всё: и «чудеса» малолетнего вундеркинда, и дарование «аполлонического» типа, с одной стороны, но и приобщение к мистериям (масонство Моцарта) — с другой, недоставало только мученической смерти[145]. «Глумление над телом», каковым представлялось романтикам погребение гения в общей бедняцкой могиле, перекликается с растерзанием Орфея вакханками[145]. Несколькими мастерскими штрихами, пишет Борис Кушнер, Пушкин создал притчу, и из этой притчи, не имеющей никакого отношения к реальности, уже невозможно удалить имена реальных людей[146][110].
Сценическая судьба
В своё время Сергей Бонди «непонимание подлинного содержания» этой маленькой трагедии объяснял нежеланием видеть в «Моцарте и Сальери» пьесу, написанную не для чтения, а для представления на сцене: и художественное, и смысловое, идейное, сюжетное содержание сочинения, предназначенного для театра, заключено не только в словах, но и в выразительных действиях персонажей, жестах, мимике, в их речи, внешнем виде, включая костюмы, наконец, в декорациях и звуковом оформлении спектакля, — Пушкин, создавая свои пьесы, всегда имел в виду их исполнение на сцене[147]. Ирина Сурат, напротив, обращает внимание на то, что Пушкин свои маленькие трагедии публиковал среди лирических стихотворений; пьеса «Моцарт и Сальери» в части III «Стихотворений Александра Пушкина» была помещена сразу за стихотворением «Труд»[25]. При этом литературовед отмечает, что своему Сальери Пушкин предоставил возможность раскрыться в нескольких пространных монологах, в то время как у Моцарта таких монологов нет, он выражает себя главным образом в музыке — которую при чтении пьесы услышать невозможно[148].
Само «нежелание» оценивать и эту, и другие маленькие трагедии как сочинения для театра было связано, не в последнюю очередь, с их непростой сценической судьбой. «Моцарт и Сальери» — единственная пьеса Пушкина, поставленная при его жизни[1]. 27 января 1832 года, с согласия автора, его маленькая трагедия была представлена в Петербурге в бенефис Якова Брянского, сыгравшего в этой постановке Сальери[149]. Спектакль был повторён 1 февраля того же года; известно, что Пушкин в это время находился в Петербурге, но сведений о том, присутствовал ли он на спектаклях, нет[1]. Успеха пьеса, по-видимому, не имела — анонимный рецензент писал, что сцены «Моцарт и Сальери» созданы для немногих[150]. Сыгранная дважды, пьеса больше при жизни автора не ставилась[150].
И в дальнейшем она ставилась нечасто, обычно вместе с другими маленькими трагедиями Пушкина. Известно, например, что в 1854 году на сцене Малого театра Сальери играл Михаил Щепкин[151]. В 1915 году К. С. Станиславский поставил «Моцарта и Сальери» (вместе с «Пиром во время чумы») в Художественном театре и сам выступил в роли Сальери; но считал эту работу своей актёрской неудачей[152][153]. Вместе со «Скупым рыцарем» и «Каменным гостем» пьеса вошла в спектакль «Маленькие трагедии», поставленный Евгением Симоновым в Театре им. Е. Вахтангова в 1959 году (Моцарта играл Юрий Любимов)[154], и в «Маленькие трагедии» Ленинградского театра драмы им. А. С. Пушкина — спектакль, поставленный в 1962 году Леонидом Вивьеном, с Николаем Симоновым в роли Сальери[155][156]. В 1971 году Леонид Пчёлкин и Антонин Даусон создали телевизионную версию спектакля, в которой Владимира Честнокова в роли Моцарта заменил Иннокентий Смоктуновский[155].
В 1897 году Н. А. Римский-Корсаков на основе маленькой трагедии Пушкина создал оперу «Моцарт и Сальери»[64].
В 1914 году пьеса была впервые экранизирована, достаточно вольно (среди персонажей появилась Изора) Виктором Туржанским под названием «Симфония любви и смерти»; фильм не сохранился[157]. В 1979 году она стала и составной частью трёхсерийного фильма Михаила Швейцера «Маленькие трагедии»[158].
Напишите отзыв о статье "Моцарт и Сальери"
Комментарии
- ↑ Об этом томе на сайте Пушкинского Дома можно прочесть: «Практическая работа по подготовке нового академического Полного собрания сочинений Пушкина была возобновлена после 1933 г., когда в Ленинграде прошла представительная конференция, обсудившая текстологические и организационные вопросы, связанные с изданием. В 1935 г. был издан седьмой, „пробный том“ нового издания, „Драматические произведения“, под редакцией Д. П. Якубовича (контрольный рецензент С. М. Бонди). Публикация вариантов впервые была осуществлена на основании разработанной Н. В. Измайловым, Б. В. Томашевским и С. М. Бонди новой системы анализа и печатного воспроизведения рукописей Пушкина… Том „Драматические произведения“ вызвал в июле 1935 г. негативную реакцию так называемых „директивных органов“ именно за свои несомненные научные достоинства: полноту и обстоятельность комментариев. Было принято беспрецедентное решение — печатать тома академического Полного собрания сочинений без комментариев (только с краткими справками об источниках текста)»[10].
- ↑ Пушкинист И. Сурат утверждает, что Пушкин о самой сплетне узнал из опровержения[25].
- ↑ В отличие от многих других служителей и создателей этого культа, Улыбышев всякое предположение о причастности Сальери к смерти Моцарта считал «абсурдным».
- ↑ С. Бонди оспаривал этот «распространенный в науке взгляд» (c Благим солидаризировался, в частности, Б. Якубович в комментариях к «пробному» тому[39]), ссылась на то, что пьеса задумана была ещё в 1826 году; однако не объяснял, почему написана она была только осенью 1830 года (см.: Бонди С. О Пушкине. — М: 1978. — С. 224).
- ↑ Pour peindre un Dieu, mourant sur le funeste bois, // Michel Ange aurait pu! Le crime et le génie! // Tais-toi, monstre exécrable, absurde calomnie. Цит. по: Алексеев. Указ. соч., с. 543
- ↑ Сам А. А. Гозенпуд при этом вовсе не считал, что Сальери отравил Моцарта; в своём «Оперном словаре» он называл эту легенду «лишённой достоверности»: «Исторический Сальери непохож на пушкинского...»[65].
- ↑ Так, на премьере «Дон Жуана» в Праге Джакомо Казанова держал банк в партере[106].
- ↑ В. А. Францев пересказывал содержание этой новеллы следующим образом: Долорозо «первоначально видевший в музыке высочайшую цель и задание своей жизни, написавший значительное число замечательных произведений, с выступлением Моцарта в Вене резко изменяется: он опасается за свою славу и начинает глубоко ненавидеть немецкого композитора, как величайшего своего врага. Честолюбие лишило его спокойствия и было источником его антипатии к Моцарту несмотря на то, что молодой художник относился к нему с большим уважением»[125].
- ↑ Когда соотечественники Сальери, не видя иного способа положить конец сплетням, распространяемым в беллетристике, не в последнюю очередь в пьесе Пушкина, сами возбудили против него процесс по обвинению в убийстве Моцарта, в качестве защитника Сальери на этом процессе выступил крупнейший современный моцартовед Рудольф Ангермюллер[129][130]. В конце концов Ангермюллер сам написал роман о смерти Моцарта[131].
- ↑ Некоторые из этих статей позже вошли в сборник: Штейнпресс Б. С. Очерки и этюды. В очерке «Последние страницы биографии Моцарта» Штейнпресс обращал внимание на то, что ни одна из многочисленных работ медицинского характера, посвящённых болезни и смерти Моцарта, не переведена на русский язык и даже вкратце не пересказана[139].
- ↑ Правда, точка зрения Б. В. Томашевского на этот счёт с годами менялась. В примечаниях к 1-му изданию 10-томника он писал о Сальери: «Рассказы о том, что он признался перед смертью в отравлении Моцарта, не подтверждаются исследователями». Во 2-м издании — «Сальери в самом деле признался перед смертью, но насколько его признание соответствует действительности, до сих пор является предметом спора»[142].
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 Алексеев, 1935, с. 545.
- ↑ 1 2 Корти, 2005, с. 14.
- ↑ Нечаев, 2014, с. 202—206, 210—211.
- ↑ Аберт, Г. В. А. Моцарт. Часть вторая, книга вторая / Пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. — М.: Музыка, 1990. — С. 372. — 560 с. — ISBN 5-7140-0215-6.
- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1935, с. 523—524.
- ↑ Якубович, 1935, с. 379.
- ↑ 1 2 3 Томашевский Б. В. Комментарии. Моцарт и Сальери // Полное собрание сочинений в 10 т.; 4-е издание / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом) / Текст проверен и примеч. сост. Б. В. Томашевским. — Л.: Наука, 1978. — Т. 5. — С. 511.
- ↑ Благой, 1967, с. 564.
- ↑ Якубович, 1935, с. 377.
- ↑ [www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=68 Отдел пушкиноведения]. Пушкинский Дом (официальный сайт). Проверено 4 ноября 2014.
- ↑ 1 2 Алексеев, 1935, с. 524.
- ↑ 1 2 Якубович, 1935, с. 378.
- ↑ Брюсов В. Я. Стихотворная техника Пушкина // Брюсов В. Я. Стихотворная техника Пушкина. — М.: Красанд, 2010. — С. 69. — ISBN 978-5-396-00191-6.
- ↑ 1 2 3 Благой, 1967, с. 575.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 523.
- ↑ 1 2 3 4 Алексеев, 1935, с. 525.
- ↑ Аберт Г. В. А. Моцарт. Часть вторая, книга вторая / Пер. с нем., коммент. К. К. Саквы. — М.: Музыка, 1990. — С. 372. — 560 с. — ISBN 5-7140-0215-6.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 528.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 526, 528—529.
- ↑ Нечаев, 2014, с. 191—198.
- ↑ Цит. по: Нечаев С. Ю. Указ. соч., с. 192
- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1935, с. 529.
- ↑ Цит. по: Нечаев С. Ю. Указ. соч., с. 194
- ↑ Алексеев, 1935, с. 528—529.
- ↑ 1 2 3 Сурат И. З. [magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/6/su13.html Сальери и Моцарт] // Новый мир : журнал. — 2007. — № 6.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Алексеев, 1935, с. 530—532.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 532.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 533—534.
- ↑ Кириллина, 2000, с. 70.
- ↑ 1 2 Алексеев, 1935, с. 537.
- ↑ 1 2 Штейнпресс, 1980, с. 124.
- ↑ 1 2 Алексеев, 1935, с. 538.
- ↑ 1 2 Цит. по: Алексеев М. П., Комментарии, с. 538—539
- ↑ 1 2 Алексеев, 1935, с. 539.
- ↑ 1 2 3 Пушкин, 1977, с. 306—307.
- ↑ Цит. по: Алексеев М. П., Комментарии, с. 540
- ↑ Алексеев, 1935, с. 541—542.
- ↑ Благой, 1967, с. 577.
- ↑ Якубович, 1935, с. 380—382.
- ↑ Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. — М.: Советский писатетель, 1931. — С. 176. — 320 с.
- ↑ Якубович, 1935, с. 380—381.
- ↑ Благой, 1967, с. 577—578.
- ↑ 1 2 Благой, 1967, с. 578.
- ↑ 1 2 3 Благой Д. Д. Социология творчества Пушкина. Этюды. — М.: Корпоративное издаетльство «Мир», 1931. — С. 177—178. — 320 с.
- ↑ Благой, 1967, с. 632—635.
- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1935, с. 542.
- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1935, с. 543.
- ↑ Эфрос А. М. Рисунки поэта. — М., 1933. — С. 87—88.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 542-543.
- ↑ Пушкин, 1977, с. 308.
- ↑ 1 2 Пушкин, 1977, с. 310.
- ↑ Пушкин, 1977, с. 310—311.
- ↑ 1 2 3 Пушкин, 1977, с. 314.
- ↑ 1 2 Пушкин, 1977, с. 315.
- ↑ Штейнпресс, 1980, с. 90.
- ↑ 1 2 Сурат, 2009, с. 312.
- ↑ Пушкин, 1977, с. 307.
- ↑ Бонди, 1978, с. 244.
- ↑ Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1954. — С. 366.
- ↑ 1 2 Сурат, 2009, с. 308.
- ↑ Сурат, 2009, с. 310.
- ↑ 1 2 Штейнпресс, 1980, с. 91.
- ↑ Благой, 1967, с. 619.
- ↑ 1 2 Гозенпуд А. А. Оперный словарь. — М.-Л.: Музыка, 1965. — С. 262. — 482 с.
- ↑ Гозенпуд А. А. Оперный словарь. — М.-Л.: Музыка, 1965. — С. 263. — 482 с.
- ↑ Бонди, 1978, с. 243—244.
- ↑ Бонди, 1978, с. 243.
- ↑ 1 2 Сурат, 2009, с. 313.
- ↑ 1 2 3 Сурат, 2009, с. 307.
- ↑ Благой, 1967, с. 618—621.
- ↑ Благой, 1967, с. 631.
- ↑ Цит. по: Сурат И. З. Указ. соч., с. 307
- ↑ Пушкин, 1977, с. 311.
- ↑ 1 2 Вацуро В. Э. Записки комментатора. — СПб., 1994. — С. 282.
- ↑ 1 2 Сурат, 2009, с. 309.
- ↑ 1 2 Сурат, 2009, с. 311.
- ↑ Цит. по: «„Моцарт и Сальери“, трагедия Пушкина. Движение во времени» / Составитель В. С. Непомнящий. М., 1997. С. 173—174
- ↑ 1 2 3 4 5 Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с нем.. — М.: Музыка, 1988. — Т. Часть первая, книга 1. — С. 23—25, 30. — 608 с.
- ↑ 1 2 Соллертинский И. И. Исторические этюды. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1963. — С. 58. — 397 с.
- ↑ Штейнпресс Б. С. Моцарт В. А. // Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — Т. 3. — С. 705—706.
- ↑ Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с нем.. — М.: Музыка, 1988. — Т. Часть первая, книга 1. — С. 24, 26—27. — 608 с.
- ↑ Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество/ Пер. с нем. = Mozart. Sein Charakter. Sein Werk. — М.: Музыка, 1977. — С. 45—46. — 454 с.
- ↑ Кириллина, 2000, с. 59.
- ↑ Rice J. A. Antonio Salieri and viennese opera. — Chicago: University of Chicago Press, 1998. — С. 462—464. — 650 с. — ISBN 0-226-71125-0.
- ↑ Корти, 2005, с. 93.
- ↑ Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество/ Пер. с нем. = Mozart. Sein Charakter. Sein Werk. — М.: Музыка, 1977. — С. 48—57, 60—61, 72-73. — 454 с.
- ↑ Цит. по: Эйнштейн А. Моцарт. Личность. Творчество. М.: Музыка, 1977. — С. 73
- ↑ Eitner R. [de.wikisource.org/wiki/ADB:Umlauf,_Ignaz Umlauf, Ignaz] (нем.) // Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). — Duncker & Humblot, 1895. — Bd. 39. — S. 277—278.
- ↑ Штейнпресс Б. С. Моцарт В. А. // Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша. — М.: Советская энциклопедия, 1976. — Т. 3. — С. 701.
- ↑ Соллертинский И. И. Исторические этюды. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1963. — С. 58—59. — 397 с.
- ↑ Кириллина, 2000, с. 57—58.
- ↑ Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с нем.. — М.: Музыка, 1988. — Т. Часть первая, книга 2. — С. 265. — 608 с.
- ↑ Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с нем.. — М.: Музыка, 1988. — Т. Часть первая, книга 2. — С. 369. — 608 с.
- ↑ Rice J. A. Antonio Salieri and viennese opera. — Chicago: University of Chicago Press, 1998. — С. 464. — 650 с. — ISBN 0-226-71125-0.
- ↑ Rice J. A. Antonio Salieri and viennese opera. — Chicago: University of Chicago Press, 1998. — С. 460, 464. — 650 с. — ISBN 0-226-71125-0.
- ↑ Штейнпресс, 1980, с. 92.
- ↑ 1 2 3 4 5 Кириллина, 2000, с. 61.
- ↑ Пушкин А.С. Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 16 т.. — М.; Л.: Издательство АН СССР, 1949. — Т. 12. Критика. Автобиография. — С. 69.
- ↑ Dietz M. [www.deutsche-biographie.de/sfz77609.html Salieri, Antonio] (нем.) // Allgemeine Deutsche Biographie. — 1890. — Bd. 30. — S. 229.
- ↑ Кириллина, 2000, с. 58—67.
- ↑ Алексеев, 1935, с. 535.
- ↑ Цит. по: Комментарии, с. 545
- ↑ Тургенев И. С. Письмо П. В. Анненкову, 2 (14) февраля 1853 // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений в 28 томах. Письма в 13 томах.. — М. - Л.: Издательство АН СССР, 1961. — Т. 2. — С. 478.
- ↑ Цит. по: Алексеев М. П. Комментарии, с. 524—525
- ↑ 1 2 3 Цит. по: Нечаев С. Ю. Указ. соч., с. 208. См. также: Материалы для биографии А С. Пушкина (изд. П. В. Анненкова). — СПб, 1855. — Т. I. — С. 288—289
- ↑ 1 2 Корти, 2005, с. 15—16.
- ↑ Dietz M. [www.deutsche-biographie.de/sfz77609.html Salieri, Antonio] (нем.) // Allgemeine Deutsche Biographie. — 1890. — Bd. 30. — S. 228.
- ↑ Соллертинский И. И. Исторические этюды. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1963. — С. 55. — 397 с.
- ↑ Rice J. A. Antonio Salieri and viennese opera. — Chicago: University of Chicago Press, 1998. — С. 460. — 650 с. — ISBN 0-226-71125-0.
- ↑ 1 2 3 4 Кушнер, 1999, с. Часть четвёртая.
- ↑ Кириллина, 2000, с. 63—66.
- ↑ Rice J. A. Antonio Salieri and viennese opera. — Chicago: University of Chicago Press, 1998. — С. 325—328. — 650 с. — ISBN 0-226-71125-0.
- ↑ Литературное наследство. — М.: Издательство АН СССР, 1952. — Т. 58. — С. 272.
- ↑ Цит. по: Нечаев С. Ю. Указ соч., с. 228
- ↑ Белинский В. Г. Сочинения Александра Пушкина. Статья одиннадцатая и последняя // В. Г. Белинский. Собрание сочинений в 3 томах / Под общей редакцией Ф. М. Головенченко. — М.: ОГИЗ, ГИХЛ, 1948. — Т. Том III. Статьи и рецензии 1843-1848. — С. 618—619.
- ↑ Тургенев И. С. Письмо П. В. Анненкову, 2 (14) февраля 1853 // Тургенев И. С. Полное собрание сочинений в 28 томах. Письма в 13 томах.. — М. - Л.: Издательство АН СССР, 1961. — Т. 2. — С. 121.
- ↑ Цит. по: Алексеев М. П. Комментарии, с. 545
- ↑ Цит. по: Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 263
- ↑ Корти, 2005, с. 109, 113.
- ↑ Гейне Э. В. Кто убил Моцарта? Кто обезглавил Гайдна?. — Новосибирск: Окраина, 2002. — С. 12. — 76 с. — ISBN 978-5-901863-01-5.
- ↑ Гейне Э. В. Кто убил Моцарта? Кто обезглавл Гайдна?. — Новосибирск: Окраина, 2002. — С. 15. — 76 с. — ISBN 978-5-901863-01-5.
- ↑ Нечаев, 2014, с. 240—242.
- ↑ Корти, 2005, с. 19.
- ↑ Штейнпресс Б. Миф об исповеди Сальери // Советская литература : журнал. — М., 1963. — № 7.
- ↑ 1 2 3 Алексеев, 1935, с. 527.
- ↑ 1 2 Аберт Г. В. А. Моцарт / Пер. с нем.. — М.: Музыка, 1988. — Т. Часть первая, книга 2. — С. 372. — 608 с.
- ↑ 1 2 Dietz M. [www.deutsche-biographie.de/sfz77609.html Salieri, Antonio] (нем.) // Allgemeine Deutsche Biographie. — 1890. — Bd. 30. — S. 229—230.
- ↑ Jahn, Otto. [www.zeno.org/Musik/M/Jahn,+Otto/W.A.+Mozart/4.+Theil/4.+Buch/24.#Fu%C3%9Fnoten_5 W.A. Mozart]. — Leipzig: Breitkopf und Härtel, 1859. — Т. 4. — С. 679. — 846 с.
- ↑ [www.literra.info/buecher/portrait.php?id=874 Portrait: Rudolph Angermüller]. Autoren und ihre Werke. LITERRA. Проверено 19 ноября 2014.
- ↑ Foschini Paolo. [archiviostorico.corriere.it/1997/maggio/18/Salieri_assolto_Non_avveleno_rivale_co_0_97051812061.shtml Salieri assolto «Non avveleno' il rivale Mozart]. Corriere della Sera, 18 maggio 1997, p. 18. Проверено 12 октября 2014.
- ↑ Angermüller R. Mozart muss sterben. Ein Prozess. — Salzburg: Ecowin Verlag der Topakademie, 2005. — 253 с. — ISBN 3-902404-17-5.
- ↑ Штейнпресс, 1980, с. 120.
- ↑ Нечаев, 2014, с. 202—220.
- ↑ Кириллина, 2000, с. 57—59, 60—62.
- ↑ Нечаев, 2014, с. 253—254.
- ↑ Мессерер А. Э. [www.chayka.org/node/4438 Скандал и слава. Моцарт и Сальери] // Чайка : журнал. — 2011. — № 23 (202).
- ↑ Бэлза И. Ф. Моцарт и Сальери, трагедия Пушкина, драматические сцены Римского-Корсакова. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1953. — С. 41—42.
- ↑ Бэлза И. Ф. Моцарт и Сальери, трагедия Пушкина, драматические сцены Римского-Корсакова. — М.: Государственное музыкальное издательство, 1953. — С. 68.
- ↑ Штейнпресс Б. С. Последние страницы биографии Моцарта // Штейнпресс Б. С. Очерки и этюды. — М.: Советский композитор, 1979. — С. 41.
- ↑ Штейнпресс, 1980, с. 94—95.
- ↑ Бонди, 1978, с. 263.
- ↑ Цит. по: Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). — М.: Советский писатель, 1967. — С. 703
- ↑ Henze-Döhring S. [www.deutsche-biographie.de/sfz70756.html;jsessionid=201478CEF362306749C6502B25DA555D Mozart, Wolfgang Amadeus] (нем.) // Neue Deutsche Biographie. — 1997. — Bd. 18. — S. 245.
- ↑ Нечаев, 2014, с. 202—203.
- ↑ 1 2 3 4 Кириллина, 2000, с. 60.
- ↑ Кушнер, 1999, с. Часть пятая.
- ↑ Бонди, 1978, с. 245—246.
- ↑ Сурат И. [magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/6/su13.html Сальери и Моцарт] // Новый мир : журнал. — М., 2007. — № 6.
- ↑ Брянский, Яков Григорьевич // Театральная энциклопедия / под ред. С. С. Мокульского. — М.: Советская энциклопедия, 1961. — Т. 1.
- ↑ 1 2 Алексеев, 1935, с. 545—546.
- ↑ Щепкин, Михаил Семёнович // Театральная энциклопедия / под ред. П. А. Маркова. — М.: Советская энциклопедия, 1965. — Т. 5.
- ↑ Станиславский, Константин Сергеевич // Театральная энциклопедия / под ред. П. А. Маркова. — М.: Советская энциклопедия, 1965. — Т. 5.
- ↑ Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве. — М.: Искусство, 1954. — С. 366—367.
- ↑ [www.vakhtangov.ru/shows/tragedii Маленькие трагедии (1959)]. Архив спектаклей. Театр имени Е. Вахтангова (официальный сайт). Проверено 18 октября 2016.
- ↑ 1 2 Иннокентий Смоктуновский. Жизнь и роли / Составитель В. Я. Дубровский. — Москва: АСТ-пресс книга, 2002. — С. 190—191. — 400 с. — ISBN 5-7805-1017-2.
- ↑ Альтшуллер А. Я. Ленинградский академический театр драмы // Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1973. — Т. 14. — С. 318, столбец 941.
- ↑ [www.imdb.com/title/tt0155178/?ref_=ttrel_rel_tt Simfoniya lyubvi i smerti]. IMDb. Проверено 13 ноября 2014.
- ↑ [old.russiancinema.ru/template.php?dept_id=3&e_dept_id=2&e_movie_id=7761 Маленькие трагедии]. Фильмы. Энциклопедия отечественного кино. Проверено 13 ноября 2014.
Литература
- Пушкин А. С. Моцарт и Сальери // Полное собрание сочинений в 10 т.; 4-е издание / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом) / Текст проверен и примеч. сост. Б. В. Томашевским. — Л.: Наука, 1977. — Т. 5. — С. 306—315.
- Алексеев М. П. "Моцарт и Сальери". Комментарии // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений / Гл. ред.: М. Горький, В. П. Волгин, Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский. — Л.: АН СССР, 1935. — Т. 7. Драматические произведения. — С. 523—546.
- Благой Д. Д. Творческий путь Пушкина (1826—1830). — М.: Советский писатетель, 1967. — 724 с.
- Бонди С. М. О Пушкине: Статьи и исследования. — М.: Художественная литература, 1978. — С. 263.
- Якубович Д. П. Введение к Комментариям // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений / Гл. ред.: М. Горький, В. П. Волгин, Ю. Г. Оксман, Б. В. Томашевский, М. А. Цявловский. — Л.: АН СССР, 1935. — Т. 7. Драматические произведения. — С. 367—384.
- Сурат И. З. Мандельштам и Пушкин. — М.: ИМЛИ РАН, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-9208-345-0.
- Кириллина Л. В. [www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=188196 Пасынок истории (К 250-летию со дня рождения Антонио Сальери)] // Музыкальная академия : журнал. — 2000. — № 3. — С. 57—73.
- Штейнпресс Б. С. Антонио Сальери в легенде и действительности // Очерки и этюды. — М.: Советский композитор, 1980. — С. 90—178.
- Корти М. Сальери и Моцарт. — СПб.: Композитор, 2005. — 160 с. — ISBN 5-7379-0280-3.
- Нечаев С. Ю. Сальери / научный редактор Ражева В. И.. — М.: Молодая гвардия (ЖЗЛ), 2014. — 313 с. — ISBN 978-5-235-03654-3.
- Кушнер Б. А. [www.vestnik.com/issues/1999/0706/koi/kushner.htm В защиту Антонио Сальери] // Вестник : журнал. — 1999. — № № 14—19 (221—226).
- Мессерер А. Э. [www.chayka.org/node/4438 Скандал и слава. Моцарт и Сальери] // Чайка : журнал. — 2011. — № 23 (202).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эта статья входит в число хороших статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Моцарт и Сальери
Она испуганно глядела на него, стараясь угадать, чего он хотел от нее. Когда она, переменя положение, подвинулась, так что левый глаз видел ее лицо, он успокоился, на несколько секунд не спуская с нее глаза. Потом губы и язык его зашевелились, послышались звуки, и он стал говорить, робко и умоляюще глядя на нее, видимо, боясь, что она не поймет его.Княжна Марья, напрягая все силы внимания, смотрела на него. Комический труд, с которым он ворочал языком, заставлял княжну Марью опускать глаза и с трудом подавлять поднимавшиеся в ее горле рыдания. Он сказал что то, по нескольку раз повторяя свои слова. Княжна Марья не могла понять их; но она старалась угадать то, что он говорил, и повторяла вопросительно сказанные им слона.
– Гага – бои… бои… – повторил он несколько раз. Никак нельзя было понять этих слов. Доктор думал, что он угадал, и, повторяя его слова, спросил: княжна боится? Он отрицательно покачал головой и опять повторил то же…
– Душа, душа болит, – разгадала и сказала княжна Марья. Он утвердительно замычал, взял ее руку и стал прижимать ее к различным местам своей груди, как будто отыскивая настоящее для нее место.
– Все мысли! об тебе… мысли, – потом выговорил он гораздо лучше и понятнее, чем прежде, теперь, когда он был уверен, что его понимают. Княжна Марья прижалась головой к его руке, стараясь скрыть свои рыдания и слезы.
Он рукой двигал по ее волосам.
– Я тебя звал всю ночь… – выговорил он.
– Ежели бы я знала… – сквозь слезы сказала она. – Я боялась войти.
Он пожал ее руку.
– Не спала ты?
– Нет, я не спала, – сказала княжна Марья, отрицательно покачав головой. Невольно подчиняясь отцу, она теперь так же, как он говорил, старалась говорить больше знаками и как будто тоже с трудом ворочая язык.
– Душенька… – или – дружок… – Княжна Марья не могла разобрать; но, наверное, по выражению его взгляда, сказано было нежное, ласкающее слово, которого он никогда не говорил. – Зачем не пришла?
«А я желала, желала его смерти! – думала княжна Марья. Он помолчал.
– Спасибо тебе… дочь, дружок… за все, за все… прости… спасибо… прости… спасибо!.. – И слезы текли из его глаз. – Позовите Андрюшу, – вдруг сказал он, и что то детски робкое и недоверчивое выразилось в его лице при этом спросе. Он как будто сам знал, что спрос его не имеет смысла. Так, по крайней мере, показалось княжне Марье.
– Я от него получила письмо, – отвечала княжна Марья.
Он с удивлением и робостью смотрел на нее.
– Где же он?
– Он в армии, mon pere, в Смоленске.
Он долго молчал, закрыв глаза; потом утвердительно, как бы в ответ на свои сомнения и в подтверждение того, что он теперь все понял и вспомнил, кивнул головой и открыл глаза.
– Да, – сказал он явственно и тихо. – Погибла Россия! Погубили! – И он опять зарыдал, и слезы потекли у него из глаз. Княжна Марья не могла более удерживаться и плакала тоже, глядя на его лицо.
Он опять закрыл глаза. Рыдания его прекратились. Он сделал знак рукой к глазам; и Тихон, поняв его, отер ему слезы.
Потом он открыл глаза и сказал что то, чего долго никто не мог понять и, наконец, понял и передал один Тихон. Княжна Марья отыскивала смысл его слов в том настроении, в котором он говорил за минуту перед этим. То она думала, что он говорит о России, то о князе Андрее, то о ней, о внуке, то о своей смерти. И от этого она не могла угадать его слов.
– Надень твое белое платье, я люблю его, – говорил он.
Поняв эти слова, княжна Марья зарыдала еще громче, и доктор, взяв ее под руку, вывел ее из комнаты на террасу, уговаривая ее успокоиться и заняться приготовлениями к отъезду. После того как княжна Марья вышла от князя, он опять заговорил о сыне, о войне, о государе, задергал сердито бровями, стал возвышать хриплый голос, и с ним сделался второй и последний удар.
Княжна Марья остановилась на террасе. День разгулялся, было солнечно и жарко. Она не могла ничего понимать, ни о чем думать и ничего чувствовать, кроме своей страстной любви к отцу, любви, которой, ей казалось, она не знала до этой минуты. Она выбежала в сад и, рыдая, побежала вниз к пруду по молодым, засаженным князем Андреем, липовым дорожкам.
– Да… я… я… я. Я желала его смерти. Да, я желала, чтобы скорее кончилось… Я хотела успокоиться… А что ж будет со мной? На что мне спокойствие, когда его не будет, – бормотала вслух княжна Марья, быстрыми шагами ходя по саду и руками давя грудь, из которой судорожно вырывались рыдания. Обойдя по саду круг, который привел ее опять к дому, она увидала идущих к ней навстречу m lle Bourienne (которая оставалась в Богучарове и не хотела оттуда уехать) и незнакомого мужчину. Это был предводитель уезда, сам приехавший к княжне с тем, чтобы представить ей всю необходимость скорого отъезда. Княжна Марья слушала и не понимала его; она ввела его в дом, предложила ему завтракать и села с ним. Потом, извинившись перед предводителем, она подошла к двери старого князя. Доктор с встревоженным лицом вышел к ней и сказал, что нельзя.
– Идите, княжна, идите, идите!
Княжна Марья пошла опять в сад и под горой у пруда, в том месте, где никто не мог видеть, села на траву. Она не знала, как долго она пробыла там. Чьи то бегущие женские шаги по дорожке заставили ее очнуться. Она поднялась и увидала, что Дуняша, ее горничная, очевидно, бежавшая за нею, вдруг, как бы испугавшись вида своей барышни, остановилась.
– Пожалуйте, княжна… князь… – сказала Дуняша сорвавшимся голосом.
– Сейчас, иду, иду, – поспешно заговорила княжна, не давая времени Дуняше договорить ей то, что она имела сказать, и, стараясь не видеть Дуняши, побежала к дому.
– Княжна, воля божья совершается, вы должны быть на все готовы, – сказал предводитель, встречая ее у входной двери.
– Оставьте меня. Это неправда! – злобно крикнула она на него. Доктор хотел остановить ее. Она оттолкнула его и подбежала к двери. «И к чему эти люди с испуганными лицами останавливают меня? Мне никого не нужно! И что они тут делают? – Она отворила дверь, и яркий дневной свет в этой прежде полутемной комнате ужаснул ее. В комнате были женщины и няня. Они все отстранились от кровати, давая ей дорогу. Он лежал все так же на кровати; но строгий вид его спокойного лица остановил княжну Марью на пороге комнаты.
«Нет, он не умер, это не может быть! – сказала себе княжна Марья, подошла к нему и, преодолевая ужас, охвативший ее, прижала к щеке его свои губы. Но она тотчас же отстранилась от него. Мгновенно вся сила нежности к нему, которую она чувствовала в себе, исчезла и заменилась чувством ужаса к тому, что было перед нею. «Нет, нет его больше! Его нет, а есть тут же, на том же месте, где был он, что то чуждое и враждебное, какая то страшная, ужасающая и отталкивающая тайна… – И, закрыв лицо руками, княжна Марья упала на руки доктора, поддержавшего ее.
В присутствии Тихона и доктора женщины обмыли то, что был он, повязали платком голову, чтобы не закостенел открытый рот, и связали другим платком расходившиеся ноги. Потом они одели в мундир с орденами и положили на стол маленькое ссохшееся тело. Бог знает, кто и когда позаботился об этом, но все сделалось как бы само собой. К ночи кругом гроба горели свечи, на гробу был покров, на полу был посыпан можжевельник, под мертвую ссохшуюся голову была положена печатная молитва, а в углу сидел дьячок, читая псалтырь.
Как лошади шарахаются, толпятся и фыркают над мертвой лошадью, так в гостиной вокруг гроба толпился народ чужой и свой – предводитель, и староста, и бабы, и все с остановившимися испуганными глазами, крестились и кланялись, и целовали холодную и закоченевшую руку старого князя.
Богучарово было всегда, до поселения в нем князя Андрея, заглазное именье, и мужики богучаровские имели совсем другой характер от лысогорских. Они отличались от них и говором, и одеждой, и нравами. Они назывались степными. Старый князь хвалил их за их сносливость в работе, когда они приезжали подсоблять уборке в Лысых Горах или копать пруды и канавы, но не любил их за их дикость.
Последнее пребывание в Богучарове князя Андрея, с его нововведениями – больницами, школами и облегчением оброка, – не смягчило их нравов, а, напротив, усилило в них те черты характера, которые старый князь называл дикостью. Между ними всегда ходили какие нибудь неясные толки, то о перечислении их всех в казаки, то о новой вере, в которую их обратят, то о царских листах каких то, то о присяге Павлу Петровичу в 1797 году (про которую говорили, что тогда еще воля выходила, да господа отняли), то об имеющем через семь лет воцариться Петре Феодоровиче, при котором все будет вольно и так будет просто, что ничего не будет. Слухи о войне в Бонапарте и его нашествии соединились для них с такими же неясными представлениями об антихристе, конце света и чистой воле.
В окрестности Богучарова были всё большие села, казенные и оброчные помещичьи. Живущих в этой местности помещиков было очень мало; очень мало было также дворовых и грамотных, и в жизни крестьян этой местности были заметнее и сильнее, чем в других, те таинственные струи народной русской жизни, причины и значение которых бывают необъяснимы для современников. Одно из таких явлений было проявившееся лет двадцать тому назад движение между крестьянами этой местности к переселению на какие то теплые реки. Сотни крестьян, в том числе и богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семействами куда то на юго восток. Как птицы летят куда то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали, и ехали, и шли туда, на теплые реки. Многие были наказаны, сосланы в Сибирь, многие с холода и голода умерли по дороге, многие вернулись сами, и движение затихло само собой так же, как оно и началось без очевидной причины. Но подводные струи не переставали течь в этом народе и собирались для какой то новой силы, имеющей проявиться так же странно, неожиданно и вместе с тем просто, естественно и сильно. Теперь, в 1812 м году, для человека, близко жившего с народом, заметно было, что эти подводные струи производили сильную работу и были близки к проявлению.
Алпатыч, приехав в Богучарово несколько времени перед кончиной старого князя, заметил, что между народом происходило волнение и что, противно тому, что происходило в полосе Лысых Гор на шестидесятиверстном радиусе, где все крестьяне уходили (предоставляя казакам разорять свои деревни), в полосе степной, в богучаровской, крестьяне, как слышно было, имели сношения с французами, получали какие то бумаги, ходившие между ними, и оставались на местах. Он знал через преданных ему дворовых людей, что ездивший на днях с казенной подводой мужик Карп, имевший большое влияние на мир, возвратился с известием, что казаки разоряют деревни, из которых выходят жители, но что французы их не трогают. Он знал, что другой мужик вчера привез даже из села Вислоухова – где стояли французы – бумагу от генерала французского, в которой жителям объявлялось, что им не будет сделано никакого вреда и за все, что у них возьмут, заплатят, если они останутся. В доказательство того мужик привез из Вислоухова сто рублей ассигнациями (он не знал, что они были фальшивые), выданные ему вперед за сено.
Наконец, важнее всего, Алпатыч знал, что в тот самый день, как он приказал старосте собрать подводы для вывоза обоза княжны из Богучарова, поутру была на деревне сходка, на которой положено было не вывозиться и ждать. А между тем время не терпело. Предводитель, в день смерти князя, 15 го августа, настаивал у княжны Марьи на том, чтобы она уехала в тот же день, так как становилось опасно. Он говорил, что после 16 го он не отвечает ни за что. В день же смерти князя он уехал вечером, но обещал приехать на похороны на другой день. Но на другой день он не мог приехать, так как, по полученным им самим известиям, французы неожиданно подвинулись, и он только успел увезти из своего имения свое семейство и все ценное.
Лет тридцать Богучаровым управлял староста Дрон, которого старый князь звал Дронушкой.
Дрон был один из тех крепких физически и нравственно мужиков, которые, как только войдут в года, обрастут бородой, так, не изменяясь, живут до шестидесяти – семидесяти лет, без одного седого волоса или недостатка зуба, такие же прямые и сильные в шестьдесят лет, как и в тридцать.
Дрон, вскоре после переселения на теплые реки, в котором он участвовал, как и другие, был сделан старостой бурмистром в Богучарове и с тех пор двадцать три года безупречно пробыл в этой должности. Мужики боялись его больше, чем барина. Господа, и старый князь, и молодой, и управляющий, уважали его и в шутку называли министром. Во все время своей службы Дрон нн разу не был ни пьян, ни болен; никогда, ни после бессонных ночей, ни после каких бы то ни было трудов, не выказывал ни малейшей усталости и, не зная грамоте, никогда не забывал ни одного счета денег и пудов муки по огромным обозам, которые он продавал, и ни одной копны ужи на хлеба на каждой десятине богучаровских полей.
Этого то Дрона Алпатыч, приехавший из разоренных Лысых Гор, призвал к себе в день похорон князя и приказал ему приготовить двенадцать лошадей под экипажи княжны и восемнадцать подвод под обоз, который должен был быть поднят из Богучарова. Хотя мужики и были оброчные, исполнение приказания этого не могло встретить затруднения, по мнению Алпатыча, так как в Богучарове было двести тридцать тягол и мужики были зажиточные. Но староста Дрон, выслушав приказание, молча опустил глаза. Алпатыч назвал ему мужиков, которых он знал и с которых он приказывал взять подводы.
Дрон отвечал, что лошади у этих мужиков в извозе. Алпатыч назвал других мужиков, и у тех лошадей не было, по словам Дрона, одни были под казенными подводами, другие бессильны, у третьих подохли лошади от бескормицы. Лошадей, по мнению Дрона, нельзя было собрать не только под обоз, но и под экипажи.
Алпатыч внимательно посмотрел на Дрона и нахмурился. Как Дрон был образцовым старостой мужиком, так и Алпатыч недаром управлял двадцать лет имениями князя и был образцовым управляющим. Он в высшей степени способен был понимать чутьем потребности и инстинкты народа, с которым имел дело, и потому он был превосходным управляющим. Взглянув на Дрона, он тотчас понял, что ответы Дрона не были выражением мысли Дрона, но выражением того общего настроения богучаровского мира, которым староста уже был захвачен. Но вместе с тем он знал, что нажившийся и ненавидимый миром Дрон должен был колебаться между двумя лагерями – господским и крестьянским. Это колебание он заметил в его взгляде, и потому Алпатыч, нахмурившись, придвинулся к Дрону.
– Ты, Дронушка, слушай! – сказал он. – Ты мне пустого не говори. Его сиятельство князь Андрей Николаич сами мне приказали, чтобы весь народ отправить и с неприятелем не оставаться, и царский на то приказ есть. А кто останется, тот царю изменник. Слышишь?
– Слушаю, – отвечал Дрон, не поднимая глаз.
Алпатыч не удовлетворился этим ответом.
– Эй, Дрон, худо будет! – сказал Алпатыч, покачав головой.
– Власть ваша! – сказал Дрон печально.
– Эй, Дрон, оставь! – повторил Алпатыч, вынимая руку из за пазухи и торжественным жестом указывая ею на пол под ноги Дрона. – Я не то, что тебя насквозь, я под тобой на три аршина все насквозь вижу, – сказал он, вглядываясь в пол под ноги Дрона.
Дрон смутился, бегло взглянул на Алпатыча и опять опустил глаза.
– Ты вздор то оставь и народу скажи, чтобы собирались из домов идти в Москву и готовили подводы завтра к утру под княжнин обоз, да сам на сходку не ходи. Слышишь?
Дрон вдруг упал в ноги.
– Яков Алпатыч, уволь! Возьми от меня ключи, уволь ради Христа.
– Оставь! – сказал Алпатыч строго. – Под тобой насквозь на три аршина вижу, – повторил он, зная, что его мастерство ходить за пчелами, знание того, когда сеять овес, и то, что он двадцать лет умел угодить старому князю, давно приобрели ему славу колдуна и что способность видеть на три аршина под человеком приписывается колдунам.
Дрон встал и хотел что то сказать, но Алпатыч перебил его:
– Что вы это вздумали? А?.. Что ж вы думаете? А?
– Что мне с народом делать? – сказал Дрон. – Взбуровило совсем. Я и то им говорю…
– То то говорю, – сказал Алпатыч. – Пьют? – коротко спросил он.
– Весь взбуровился, Яков Алпатыч: другую бочку привезли.
– Так ты слушай. Я к исправнику поеду, а ты народу повести, и чтоб они это бросили, и чтоб подводы были.
– Слушаю, – отвечал Дрон.
Больше Яков Алпатыч не настаивал. Он долго управлял народом и знал, что главное средство для того, чтобы люди повиновались, состоит в том, чтобы не показывать им сомнения в том, что они могут не повиноваться. Добившись от Дрона покорного «слушаю с», Яков Алпатыч удовлетворился этим, хотя он не только сомневался, но почти был уверен в том, что подводы без помощи воинской команды не будут доставлены.
И действительно, к вечеру подводы не были собраны. На деревне у кабака была опять сходка, и на сходке положено было угнать лошадей в лес и не выдавать подвод. Ничего не говоря об этом княжне, Алпатыч велел сложить с пришедших из Лысых Гор свою собственную кладь и приготовить этих лошадей под кареты княжны, а сам поехал к начальству.
Х
После похорон отца княжна Марья заперлась в своей комнате и никого не впускала к себе. К двери подошла девушка сказать, что Алпатыч пришел спросить приказания об отъезде. (Это было еще до разговора Алпатыча с Дроном.) Княжна Марья приподнялась с дивана, на котором она лежала, и сквозь затворенную дверь проговорила, что она никуда и никогда не поедет и просит, чтобы ее оставили в покое.
Окна комнаты, в которой лежала княжна Марья, были на запад. Она лежала на диване лицом к стене и, перебирая пальцами пуговицы на кожаной подушке, видела только эту подушку, и неясные мысли ее были сосредоточены на одном: она думала о невозвратимости смерти и о той своей душевной мерзости, которой она не знала до сих пор и которая выказалась во время болезни ее отца. Она хотела, но не смела молиться, не смела в том душевном состоянии, в котором она находилась, обращаться к богу. Она долго лежала в этом положении.
Солнце зашло на другую сторону дома и косыми вечерними лучами в открытые окна осветило комнату и часть сафьянной подушки, на которую смотрела княжна Марья. Ход мыслей ее вдруг приостановился. Она бессознательно приподнялась, оправила волоса, встала и подошла к окну, невольно вдыхая в себя прохладу ясного, но ветреного вечера.
«Да, теперь тебе удобно любоваться вечером! Его уж нет, и никто тебе не помешает», – сказала она себе, и, опустившись на стул, она упала головой на подоконник.
Кто то нежным и тихим голосом назвал ее со стороны сада и поцеловал в голову. Она оглянулась. Это была m lle Bourienne, в черном платье и плерезах. Она тихо подошла к княжне Марье, со вздохом поцеловала ее и тотчас же заплакала. Княжна Марья оглянулась на нее. Все прежние столкновения с нею, ревность к ней, вспомнились княжне Марье; вспомнилось и то, как он последнее время изменился к m lle Bourienne, не мог ее видеть, и, стало быть, как несправедливы были те упреки, которые княжна Марья в душе своей делала ей. «Да и мне ли, мне ли, желавшей его смерти, осуждать кого нибудь! – подумала она.
Княжне Марье живо представилось положение m lle Bourienne, в последнее время отдаленной от ее общества, но вместе с тем зависящей от нее и живущей в чужом доме. И ей стало жалко ее. Она кротко вопросительно посмотрела на нее и протянула ей руку. M lle Bourienne тотчас заплакала, стала целовать ее руку и говорить о горе, постигшем княжну, делая себя участницей этого горя. Она говорила о том, что единственное утешение в ее горе есть то, что княжна позволила ей разделить его с нею. Она говорила, что все бывшие недоразумения должны уничтожиться перед великим горем, что она чувствует себя чистой перед всеми и что он оттуда видит ее любовь и благодарность. Княжна слушала ее, не понимая ее слов, но изредка взглядывая на нее и вслушиваясь в звуки ее голоса.
– Ваше положение вдвойне ужасно, милая княжна, – помолчав немного, сказала m lle Bourienne. – Я понимаю, что вы не могли и не можете думать о себе; но я моей любовью к вам обязана это сделать… Алпатыч был у вас? Говорил он с вами об отъезде? – спросила она.
Княжна Марья не отвечала. Она не понимала, куда и кто должен был ехать. «Разве можно было что нибудь предпринимать теперь, думать о чем нибудь? Разве не все равно? Она не отвечала.
– Вы знаете ли, chere Marie, – сказала m lle Bourienne, – знаете ли, что мы в опасности, что мы окружены французами; ехать теперь опасно. Ежели мы поедем, мы почти наверное попадем в плен, и бог знает…
Княжна Марья смотрела на свою подругу, не понимая того, что она говорила.
– Ах, ежели бы кто нибудь знал, как мне все все равно теперь, – сказала она. – Разумеется, я ни за что не желала бы уехать от него… Алпатыч мне говорил что то об отъезде… Поговорите с ним, я ничего, ничего не могу и не хочу…
– Я говорила с ним. Он надеется, что мы успеем уехать завтра; но я думаю, что теперь лучше бы было остаться здесь, – сказала m lle Bourienne. – Потому что, согласитесь, chere Marie, попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге – было бы ужасно. – M lle Bourienne достала из ридикюля объявление на нерусской необыкновенной бумаге французского генерала Рамо о том, чтобы жители не покидали своих домов, что им оказано будет должное покровительство французскими властями, и подала ее княжне.
– Я думаю, что лучше обратиться к этому генералу, – сказала m lle Bourienne, – и я уверена, что вам будет оказано должное уважение.
Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.
– Через кого вы получили это? – сказала она.
– Вероятно, узнали, что я француженка по имени, – краснея, сказала m lle Bourienne.
Княжна Марья с бумагой в руке встала от окна и с бледным лицом вышла из комнаты и пошла в бывший кабинет князя Андрея.
– Дуняша, позовите ко мне Алпатыча, Дронушку, кого нибудь, – сказала княжна Марья, – и скажите Амалье Карловне, чтобы она не входила ко мне, – прибавила она, услыхав голос m lle Bourienne. – Поскорее ехать! Ехать скорее! – говорила княжна Марья, ужасаясь мысли о том, что она могла остаться во власти французов.
«Чтобы князь Андрей знал, что она во власти французов! Чтоб она, дочь князя Николая Андреича Болконского, просила господина генерала Рамо оказать ей покровительство и пользовалась его благодеяниями! – Эта мысль приводила ее в ужас, заставляла ее содрогаться, краснеть и чувствовать еще не испытанные ею припадки злобы и гордости. Все, что только было тяжелого и, главное, оскорбительного в ее положении, живо представлялось ей. «Они, французы, поселятся в этом доме; господин генерал Рамо займет кабинет князя Андрея; будет для забавы перебирать и читать его письма и бумаги. M lle Bourienne lui fera les honneurs de Богучарово. [Мадемуазель Бурьен будет принимать его с почестями в Богучарове.] Мне дадут комнатку из милости; солдаты разорят свежую могилу отца, чтобы снять с него кресты и звезды; они мне будут рассказывать о победах над русскими, будут притворно выражать сочувствие моему горю… – думала княжна Марья не своими мыслями, но чувствуя себя обязанной думать за себя мыслями своего отца и брата. Для нее лично было все равно, где бы ни оставаться и что бы с ней ни было; но она чувствовала себя вместе с тем представительницей своего покойного отца и князя Андрея. Она невольно думала их мыслями и чувствовала их чувствами. Что бы они сказали, что бы они сделали теперь, то самое она чувствовала необходимым сделать. Она пошла в кабинет князя Андрея и, стараясь проникнуться его мыслями, обдумывала свое положение.
Требования жизни, которые она считала уничтоженными со смертью отца, вдруг с новой, еще неизвестной силой возникли перед княжной Марьей и охватили ее. Взволнованная, красная, она ходила по комнате, требуя к себе то Алпатыча, то Михаила Ивановича, то Тихона, то Дрона. Дуняша, няня и все девушки ничего не могли сказать о том, в какой мере справедливо было то, что объявила m lle Bourienne. Алпатыча не было дома: он уехал к начальству. Призванный Михаил Иваныч, архитектор, явившийся к княжне Марье с заспанными глазами, ничего не мог сказать ей. Он точно с той же улыбкой согласия, с которой он привык в продолжение пятнадцати лет отвечать, не выражая своего мнения, на обращения старого князя, отвечал на вопросы княжны Марьи, так что ничего определенного нельзя было вывести из его ответов. Призванный старый камердинер Тихон, с опавшим и осунувшимся лицом, носившим на себе отпечаток неизлечимого горя, отвечал «слушаю с» на все вопросы княжны Марьи и едва удерживался от рыданий, глядя на нее.
Наконец вошел в комнату староста Дрон и, низко поклонившись княжне, остановился у притолоки.
Княжна Марья прошлась по комнате и остановилась против него.
– Дронушка, – сказала княжна Марья, видевшая в нем несомненного друга, того самого Дронушку, который из своей ежегодной поездки на ярмарку в Вязьму привозил ей всякий раз и с улыбкой подавал свой особенный пряник. – Дронушка, теперь, после нашего несчастия, – начала она и замолчала, не в силах говорить дальше.
– Все под богом ходим, – со вздохом сказал он. Они помолчали.
– Дронушка, Алпатыч куда то уехал, мне не к кому обратиться. Правду ли мне говорят, что мне и уехать нельзя?
– Отчего же тебе не ехать, ваше сиятельство, ехать можно, – сказал Дрон.
– Мне сказали, что опасно от неприятеля. Голубчик, я ничего не могу, ничего не понимаю, со мной никого нет. Я непременно хочу ехать ночью или завтра рано утром. – Дрон молчал. Он исподлобья взглянул на княжну Марью.
– Лошадей нет, – сказал он, – я и Яков Алпатычу говорил.
– Отчего же нет? – сказала княжна.
– Все от божьего наказания, – сказал Дрон. – Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.
Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.
– Мужики разорены? У них хлеба нет? – спросила она.
– Голодной смертью помирают, – сказал Дрон, – не то что подводы…
– Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу… – Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.
– Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? – спросила она.
– Господский хлеб весь цел, – с гордостью сказал Дрон, – наш князь не приказывал продавать.
– Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, – сказала княжна Марья.
Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.
– Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.
Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.
– Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, – сказал он. – Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.
Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.
Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.
– Да я никогда не звала их, – сказала княжна Марья, – я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.
– Только ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, – говорила Дуняша, – а Яков Алпатыч приедут, и поедем… и вы не извольте…
– Какой же обман? – удивленно спросила княжна
– Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.
– Ты что нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать… – сказала княжна Марья. – Позови Дронушку.
Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.
– Да я никогда не звала их, – сказала княжна. – Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.
Дрон, не отвечая, вздохнул.
– Если прикажете, они уйдут, – сказал он.
– Нет, нет, я пойду к ним, – сказала княжна Марья
Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, – думала княжна Марья. – Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что Andre еще больше бы сделав на моем месте», – думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.
Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она – представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.
– Я очень рада, что вы пришли, – начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. – Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко… потому что… Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. – Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.
– Я не от себя делаю это, – продолжала княжна, – я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.
Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.
– Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, – сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.
Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность, или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.
– Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, – сказал голос сзади.
– Да отчего же? – сказала княжна.
Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.
– Отчего же вы не хотите? – спросила она опять.
Никто не отвечал.
Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей нибудь взгляд.
– Отчего вы не говорите? – обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. – Скажи, ежели ты думаешь, что еще что нибудь нужно. Я все сделаю, – сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:
– Чего соглашаться то, не нужно нам хлеба.
– Что ж, нам все бросить то? Не согласны. Не согласны… Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна… – раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.
– Да вы не поняли, верно, – с грустной улыбкой сказала княжна Марья. – Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас…
Но голос ее заглушали голоса толпы.
– Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!
Княжна Марья старалась уловить опять чей нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.
– Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! – слышались голоса в толпе.
Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.
Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном – о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.
Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего – болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое – она чувствовала – она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.
То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.
«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, – думала она. – Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? – думала тогда и теперь княжна Марья. – Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? – думала она. – Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, – он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово“. И княжна Марья вслух произнесла то ласковое слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду ше нь ка! – повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо – робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.
«Душенька», – повторила она.
«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь? – вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.
– Дуняша! – прошептала она. – Дуняша! – вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.
17 го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами – попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.
Богучарово находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове.
Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина.
Ростов и не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры.
Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.
– Ты вперед взял, – говорил раскрасневшийся Ильин.
– Да, всё вперед, и на лугу вперед, и тут, – отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.
– А я на французской, ваше сиятельство, – сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, – перегнал бы, да только срамить не хотел.
Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков.
Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую то нескладную песню, подошли к офицерам.
– Молодцы! – сказал, смеясь, Ростов. – Что, сено есть?
– И одинакие какие… – сказал Ильин.
– Развесе…oo…ооо…лая бесе… бесе… – распевали мужики с счастливыми улыбками.
Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.
– Вы из каких будете? – спросил он.
– Французы, – отвечал, смеючись, Ильин. – Вот и Наполеон сам, – сказал он, указывая на Лаврушку.
– Стало быть, русские будете? – переспросил мужик.
– А много вашей силы тут? – спросил другой небольшой мужик, подходя к ним.
– Много, много, – отвечал Ростов. – Да вы что ж собрались тут? – прибавил он. – Праздник, что ль?
– Старички собрались, по мирскому делу, – отвечал мужик, отходя от него.
В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам.
– В розовом моя, чур не отбивать! – сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.
– Наша будет! – подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.
– Что, моя красавица, нужно? – сказал Ильин, улыбаясь.
– Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии?
– Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
– Бе…се…е…ду…шка! – распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.
– Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, – сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. – Моя госпожа, дочь скончавшегося сего пятнадцатого числа генерал аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, – он указал на мужиков, – просит вас пожаловать… не угодно ли будет, – с грустной улыбкой сказал Алпатыч, – отъехать несколько, а то не так удобно при… – Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.
– А!.. Алпатыч… А? Яков Алпатыч!.. Важно! прости ради Христа. Важно! А?.. – говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.
– Или, может, это утешает ваше сиятельство? – сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенной за пазуху рукой указывая на стариков.
– Нет, тут утешенья мало, – сказал Ростов и отъехал. – В чем дело? – спросил он.
– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено и ее сиятельство не могут выехать.
– Не может быть! – вскрикнул Ростов.
– Имею честь докладывать вам сущую правду, – повторил Алпатыч.
Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и с сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали (больше всех говорил Карп; Дрон не показывался из толпы), что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть; а что пускай княжна остается, и они по старому будут служить ей и во всем повиноваться.
В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговариванье Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать; но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.
– Батюшка! отец родной! бог тебя послал, – говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю.
Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он, и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что то романическое в этой встрече. «Беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков! И какая то странная судьба натолкнула меня сюда! – думал Ростов, слушяя ее и глядя на нее. – И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении! – думал он, слушая ее робкий рассказ.
Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица.
– Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность, – сказал Ростов, вставая. – Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас, – и, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери.
Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастия для сближения с нею.
Княжна Марья поняла и оценила этот тон.
– Я очень, очень благодарна вам, – сказала ему княжна по французски, – но надеюсь, что все это было только недоразуменье и что никто не виноват в том. – Княжна вдруг заплакала. – Извините меня, – сказала она.
Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.
– Ну что, мила? Нет, брат, розовая моя прелесть, и Дуняшей зовут… – Но, взглянув на лицо Ростова, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.
Ростов злобно оглянулся на Ильина и, не отвечая ему, быстрыми шагами направился к деревне.
– Я им покажу, я им задам, разбойникам! – говорил он про себя.
Алпатыч плывущим шагом, чтобы только не бежать, рысью едва догнал Ростова.
– Какое решение изволили принять? – сказал он, догнав его.
Ростов остановился и, сжав кулаки, вдруг грозно подвинулся на Алпатыча.
– Решенье? Какое решенье? Старый хрыч! – крикнул он на него. – Ты чего смотрел? А? Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас, шкуру спущу со всех… – И, как будто боясь растратить понапрасну запас своей горячности, он оставил Алпатыча и быстро пошел вперед. Алпатыч, подавив чувство оскорбления, плывущим шагом поспевал за Ростовым и продолжал сообщать ему свои соображения. Он говорил, что мужики находились в закоснелости, что в настоящую минуту было неблагоразумно противуборствовать им, не имея военной команды, что не лучше ли бы было послать прежде за командой.
– Я им дам воинскую команду… Я их попротивоборствую, – бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от неразумной животной злобы и потребности излить эту злобу. Не соображая того, что будет делать, бессознательно, быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что неблагоразумный поступок его может произвести хорошие результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное, нахмуренное лицо.
После того как гусары въехали в деревню и Ростов прошел к княжне, в толпе произошло замешательство и раздор. Некоторые мужики стали говорить, что эти приехавшие были русские и как бы они не обиделись тем, что не выпускают барышню. Дрон был того же мнения; но как только он выразил его, так Карп и другие мужики напали на бывшего старосту.
– Ты мир то поедом ел сколько годов? – кричал на него Карп. – Тебе все одно! Ты кубышку выроешь, увезешь, тебе что, разори наши дома али нет?
– Сказано, порядок чтоб был, не езди никто из домов, чтобы ни синь пороха не вывозить, – вот она и вся! – кричал другой.
– Очередь на твоего сына была, а ты небось гладуха своего пожалел, – вдруг быстро заговорил маленький старичок, нападая на Дрона, – а моего Ваньку забрил. Эх, умирать будем!
– То то умирать будем!
– Я от миру не отказчик, – говорил Дрон.
– То то не отказчик, брюхо отрастил!..
Два длинные мужика говорили свое. Как только Ростов, сопутствуемый Ильиным, Лаврушкой и Алпатычем, подошел к толпе, Карп, заложив пальцы за кушак, слегка улыбаясь, вышел вперед. Дрон, напротив, зашел в задние ряды, и толпа сдвинулась плотнее.
– Эй! кто у вас староста тут? – крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к толпе.
– Староста то? На что вам?.. – спросил Карп. Но не успел он договорить, как шапка слетела с него и голова мотнулась набок от сильного удара.
– Шапки долой, изменники! – крикнул полнокровный голос Ростова. – Где староста? – неистовым голосом кричал он.
– Старосту, старосту кличет… Дрон Захарыч, вас, – послышались кое где торопливо покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов.
– Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем, – проговорил Карп, и несколько голосов сзади в то же мгновенье заговорили вдруг:
– Как старички пороптали, много вас начальства…
– Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! – бессмысленно, не своим голосом завопил Ростов, хватая за юрот Карпа. – Вяжи его, вяжи! – кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.
Лаврушка, однако, подбежал к Карпу и схватил его сзади за руки.
– Прикажете наших из под горы кликнуть? – крикнул он.
Алпатыч обратился к мужикам, вызывая двоих по именам, чтобы вязать Карпа. Мужики покорно вышли из толпы и стали распоясываться.
– Староста где? – кричал Ростов.
Дрон, с нахмуренным и бледным лицом, вышел из толпы.
– Ты староста? Вязать, Лаврушка! – кричал Ростов, как будто и это приказание не могло встретить препятствий. И действительно, еще два мужика стали вязать Дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушан и подал им.
– А вы все слушайте меня, – Ростов обратился к мужикам: – Сейчас марш по домам, и чтобы голоса вашего я не слыхал.
– Что ж, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости. Только вздор наделали… Я же сказывал, что непорядки, – послышались голоса, упрекавшие друг друга.
– Вот я же вам говорил, – сказал Алпатыч, вступая в свои права. – Нехорошо, ребята!
– Глупость наша, Яков Алпатыч, – отвечали голоса, и толпа тотчас же стала расходиться и рассыпаться по деревне.
Связанных двух мужиков повели на барский двор. Два пьяные мужика шли за ними.
– Эх, посмотрю я на тебя! – говорил один из них, обращаясь к Карпу.
– Разве можно так с господами говорить? Ты думал что?
– Дурак, – подтверждал другой, – право, дурак!
Через два часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики оживленно выносили и укладывали на подводы господские вещи, и Дрон, по желанию княжны Марьи выпущенный из рундука, куда его заперли, стоя на дворе, распоряжался мужиками.
– Ты ее так дурно не клади, – говорил один из мужиков, высокий человек с круглым улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. – Она ведь тоже денег стоит. Что же ты ее так то вот бросишь или пол веревку – а она потрется. Я так не люблю. А чтоб все честно, по закону было. Вот так то под рогожку, да сенцом прикрой, вот и важно. Любо!
– Ишь книг то, книг, – сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкафы князя Андрея. – Ты не цепляй! А грузно, ребята, книги здоровые!
– Да, писали, не гуляли! – значительно подмигнув, сказал высокий круглолицый мужик, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху.
Ростов, не желая навязывать свое знакомство княжне, не пошел к ней, а остался в деревне, ожидая ее выезда. Дождавшись выезда экипажей княжны Марьи из дома, Ростов сел верхом и до пути, занятого нашими войсками, в двенадцати верстах от Богучарова, верхом провожал ее. В Янкове, на постоялом дворе, он простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку.
– Как вам не совестно, – краснея, отвечал он княжне Марье на выражение благодарности за ее спасенье (как она называла его поступок), – каждый становой сделал бы то же. Если бы нам только приходилось воевать с мужиками, мы бы не допустили так далеко неприятеля, – говорил он, стыдясь чего то и стараясь переменить разговор. – Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна, желаю вам счастия и утешения и желаю встретиться с вами при более счастливых условиях. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.
Но княжна, если не благодарила более словами, благодарила его всем выражением своего сиявшего благодарностью и нежностью лица. Она не могла верить ему, что ей не за что благодарить его. Напротив, для нее несомненно было то, что ежели бы его не было, то она, наверное, должна была бы погибнуть и от бунтовщиков и от французов; что он, для того чтобы спасти ее, подвергал себя самым очевидным и страшным опасностям; и еще несомненнее было то, что он был человек с высокой и благородной душой, который умел понять ее положение и горе. Его добрые и честные глаза с выступившими на них слезами, в то время как она сама, заплакав, говорила с ним о своей потере, не выходили из ее воображения.
Когда она простилась с ним и осталась одна, княжна Марья вдруг почувствовала в глазах слезы, и тут уж не в первый раз ей представился странный вопрос, любит ли она его?
По дороге дальше к Москве, несмотря на то, что положение княжны было не радостно, Дуняша, ехавшая с ней в карете, не раз замечала, что княжна, высунувшись в окно кареты, чему то радостно и грустно улыбалась.
«Ну что же, ежели бы я и полюбила его? – думала княжна Марья.
Как ни стыдно ей было признаться себе, что она первая полюбила человека, который, может быть, никогда не полюбит ее, она утешала себя мыслью, что никто никогда не узнает этого и что она не будет виновата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том, любить того, которого она любила в первый и в последний раз.
Иногда она вспоминала его взгляды, его участие, его слова, и ей казалось счастье не невозможным. И тогда то Дуняша замечала, что она, улыбаясь, глядела в окно кареты.
«И надо было ему приехать в Богучарово, и в эту самую минуту! – думала княжна Марья. – И надо было его сестре отказать князю Андрею! – И во всем этом княжна Марья видела волю провиденья.
Впечатление, произведенное на Ростова княжной Марьей, было очень приятное. Когда ои вспоминал про нее, ему становилось весело, и когда товарищи, узнав о бывшем с ним приключении в Богучарове, шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился. Он сердился именно потому, что мысль о женитьбе на приятной для него, кроткой княжне Марье с огромным состоянием не раз против его воли приходила ему в голову. Для себя лично Николай не мог желать жены лучше княжны Марьи: женитьба на ней сделала бы счастье графини – его матери, и поправила бы дела его отца; и даже – Николай чувствовал это – сделала бы счастье княжны Марьи. Но Соня? И данное слово? И от этого то Ростов сердился, когда ему шутили о княжне Болконской.
Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру.
Князь Андрей приехал в Царево Займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов, кричавших «ура!новому главнокомандующему. Тут же у ворот, шагах в десяти от князя Андрея, пользуясь отсутствием князя и прекрасной погодой, стояли два денщика, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и, взглянув на князя Андрея, спросил: здесь ли стоит светлейший и скоро ли он будет?
Князь Андрей сказал, что он не принадлежит к штабу светлейшего и тоже приезжий. Гусарский подполковник обратился к нарядному денщику, и денщик главнокомандующего сказал ему с той особенной презрительностью, с которой говорят денщики главнокомандующих с офицерами:
– Что, светлейший? Должно быть, сейчас будет. Вам что?
Гусарский подполковник усмехнулся в усы на тон денщика, слез с лошади, отдал ее вестовому и подошел к Болконскому, слегка поклонившись ему. Болконский посторонился на лавке. Гусарский подполковник сел подле него.
– Тоже дожидаетесь главнокомандующего? – заговорил гусарский подполковник. – Говог'ят, всем доступен, слава богу. А то с колбасниками беда! Недаг'ом Ег'молов в немцы пг'осился. Тепег'ь авось и г'усским говог'ить можно будет. А то чег'т знает что делали. Все отступали, все отступали. Вы делали поход? – спросил он.
– Имел удовольствие, – отвечал князь Андрей, – не только участвовать в отступлении, но и потерять в этом отступлении все, что имел дорогого, не говоря об именьях и родном доме… отца, который умер с горя. Я смоленский.
– А?.. Вы князь Болконский? Очень г'ад познакомиться: подполковник Денисов, более известный под именем Васьки, – сказал Денисов, пожимая руку князя Андрея и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского. – Да, я слышал, – сказал он с сочувствием и, помолчав немного, продолжал: – Вот и скифская война. Это все хог'ошо, только не для тех, кто своими боками отдувается. А вы – князь Андг'ей Болконский? – Он покачал головой. – Очень г'ад, князь, очень г'ад познакомиться, – прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку.
Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе. Это воспоминанье и сладко и больно перенесло его теперь к тем болезненным ощущениям, о которых он последнее время давно уже не думал, но которые все таки были в его душе. В последнее время столько других и таких серьезных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые Горы, недавнее известно о смерти отца, – столько ощущений было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой. И для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, поэтическое прошедшее, когда он, после ужина и пения Наташи, сам не зная как, сделал предложение пятнадцатилетней девочке. Он улыбнулся воспоминаниям того времени и своей любви к Наташе и тотчас же перешел к тому, что страстно и исключительно теперь занимало его. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах. Он представлял этот план Барклаю де Толли и теперь намерен был представить его Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения. Он начал разъяснять свой план князю Андрею.
– Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что пг'ог'ву их; дайте мне пятьсот человек, я г'азог'ву их, это вег'но! Одна система – паг'тизанская.
Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план Болконскому. В средине его изложения крики армии, более нескладные, более распространенные и сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра. На деревне послышался топот и крики.
– Сам едет, – крикнул казак, стоявший у ворот, – едет! Болконский и Денисов подвинулись к воротам, у которых стояла кучка солдат (почетный караул), и увидали подвигавшегося по улице Кутузова, верхом на невысокой гнедой лошадке. Огромная свита генералов ехала за ним. Барклай ехал почти рядом; толпа офицеров бежала за ними и вокруг них и кричала «ура!».
Вперед его во двор проскакали адъютанты. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывшую иноходью под его тяжестью, и беспрестанно кивая головой, прикладывал руку к бедой кавалергардской (с красным околышем и без козырька) фуражке, которая была на нем. Подъехав к почетному караулу молодцов гренадеров, большей частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча, внимательно посмотрел на них начальническим упорным взглядом и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение; он вздернул плечами с жестом недоумения.
– И с такими молодцами всё отступать и отступать! – сказал он. – Ну, до свиданья, генерал, – прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея и Денисова.
– Ура! ура! ура! – кричали сзади его.
С тех пор как не видал его князь Андрей, Кутузов еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз, и рана, и выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в мундирный сюртук (плеть на тонком ремне висела через плечо) и в белой кавалергардской фуражке. Он, тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке.
– Фю… фю… фю… – засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой, крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживавшим его.
Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо, не узнав его, зашагал своей ныряющей походкой к крыльцу.
– Фю… фю… фю, – просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея только после нескольких секунд (как это часто бывает у стариков) связалось с воспоминанием о его личности.
– А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем… – устало проговорил он, оглядываясь, и тяжело вошел на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце.
– Ну, что отец?
– Вчера получил известие о его кончине, – коротко сказал князь Андрей.
Кутузов испуганно открытыми глазами посмотрел на князя Андрея, потом снял фуражку и перекрестился: «Царство ему небесное! Да будет воля божия над всеми нами!Он тяжело, всей грудью вздохнул и помолчал. „Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой“. Он обнял князя Андрея, прижал его к своей жирной груди и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидал, что расплывшие губы Кутузова дрожали и на глазах были слезы. Он вздохнул и взялся обеими руками за лавку, чтобы встать.
– Пойдем, пойдем ко мне, поговорим, – сказал он; но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что адъютанты у крыльца сердитым шепотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам, вошел на крыльцо. Кутузов, оставив руки упертыми на лавку, недовольно смотрел на Денисова. Денисов, назвав себя, объявил, что имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов усталым взглядом стал смотреть на Денисова и досадливым жестом, приняв руки и сложив их на животе, повторил: «Для блага отечества? Ну что такое? Говори». Денисов покраснел, как девушка (так странно было видеть краску на этом усатом, старом и пьяном лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов жил в этих краях и знал хорошо местность. План его казался несомненно хорошим, в особенности по той силе убеждения, которая была в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор соседней избы, как будто он ждал чего то неприятного оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно во время речи Денисова показался генерал с портфелем под мышкой.
– Что? – в середине изложения Денисова проговорил Кутузов. – Уже готовы?
– Готов, ваша светлость, – сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.
– Даю честное благородное слово гусского офицег'а, – говорил Денисов, – что я г'азог'ву сообщения Наполеона.
– Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер интендант, как приходится? – перебил его Кутузов.
– Дядя г'одной, ваша светлость.
– О! приятели были, – весело сказал Кутузов. – Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. – Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему Коновницын.
– Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, – недовольным голосом сказал дежурный генерал, – необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. – Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился…
– Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, – сказал он. – Ты не уходи, – прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.
Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью, в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове, полную, румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа влавввквмандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, она дома… «Очень хорошенькая», – прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Цареве Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что то другое, что должно было решить дело, – что то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, откосилось до мародерства русских войск. Дежурный редерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взысканий с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес.
Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.
– В печку… в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, – сказал он, – все эти дела в огонь. Пуская косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят – щепки летят. – Он взглянул еще раз на бумагу. – О, аккуратность немецкая! – проговорил он, качая головой.
– Ну, теперь все, – сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.
Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.
Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:
– И красавица какая! Спасибо, голубушка!
Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.
– Ну что, как живешь? – сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был «Les chevaliers du Cygne», сочинение madame de Genlis [«Рыцари Лебедя», мадам де Жанлис], как увидал князь Андрей по обертке.
– Ну садись, садись тут, поговорим, – сказал Кутузов. – Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец… – Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.
– До чего… до чего довели! – проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. – Дай срок, дай срок, – прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: – Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.
– Благодарю вашу светлость, – отвечал князь Андрей, – но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, – сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. – А главное, – прибавил князь Андрей, – я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте…
Умное, доброе и вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:
– Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню… Помню, помню, с знаменем помню, – сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желания выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.
– Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. – Он помолчал. – Я жалел о тебе в Букареште: мне послать надо было. – И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. – Да, немало упрекали меня, – сказал Кутузов, – и за войну и за мир… а все пришло вовремя. Tout vient a point a celui qui sait attendre. [Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.] A и там советчиков не меньше было, чем здесь… – продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. – Ох, советчики, советчики! – сказал он. Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции, и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. – Он покачал головой. – И французы тоже будут! Верь моему слову, – воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, – будут у меня лошадиное мясо есть! – И опять глаза его залоснились слезами.
– Однако до лжно же будет принять сражение? – сказал князь Андрей.
– До лжно будет, если все этого захотят, нечего делать… А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voila le mal. [этим ухом не слышат, – вот что плохо.] Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? – спросил он, видимо, ожидая ответа. – Да, что ты велишь делать? – повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. – Я тебе скажу, что делать, – проговорил он, так как князь Андрей все таки не отвечал. – Я тебе скажу, что делать и что я делаю. Dans le doute, mon cher, – он помолчал, – abstiens toi, [В сомнении, мой милый, воздерживайся.] – выговорил он с расстановкой.
– Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. – Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неконченный роман мадам Жанлис «Les chevaliers du Cygne».
Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, – думал князь Андрей, – но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что то сильнее и значительнее его воли, – это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной волн, направленной на другое. А главное, – думал князь Андрей, – почему веришь ему, – это то, что он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки; это то, что голос его задрожал, когда он сказал: „До чего довели!“, и что он захлипал, говоря о том, что он „заставит их есть лошадиное мясо“. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.
