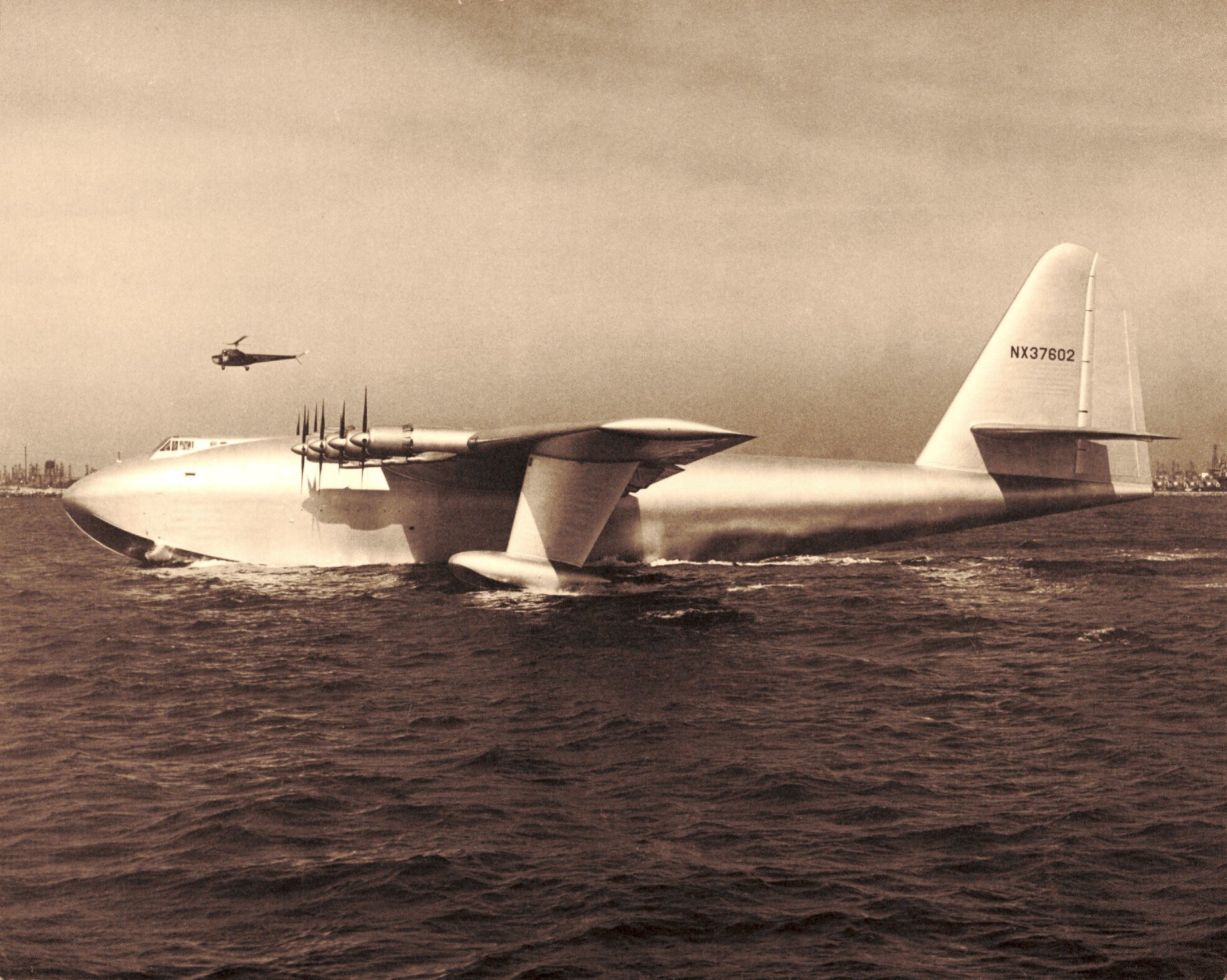Хьюз, Говард
| Говард Хьюз | |
| англ. Howard Hughes | |
 Фото 1938-го года | |
| Имя при рождении: |
Говард Робард Хьюз — младший |
|---|---|
| Род деятельности: | |
| Место рождения: | |
| Место смерти: | |
| Супруга: |
Элла Райс (1925—1929) |
Го́вард Ро́бард Хьюз — младший (англ. Howard Robard Hughes, Jr.; 24 декабря 1905 — 5 апреля 1976) — американский предприниматель, инженер, пионер авиации, режиссёр, продюсер. В конце 1960-х годов Хьюз считался обладателем первого или второго (после Пола Гетти) состояния в США, оценивавшегося, по разным источникам, в 1,4—2 млрд долларов. Среди крупнейших компаний, в разные годы входивших в холдинг Говарда Хьюза: Hughes Tool Company[en], Hughes Aircraft, AirWest[en], Hughes Helicopters, TWA, HHMI[en], RKO Pictures. По утверждению Ричарда Никсона — «самый могущественный человек в мире» («most powerful man in the world»)[1].
Режиссёр и независимый продюсер известных фильмов: «Ангелы ада», «Лицо со шрамом», «Вне закона»[en] и других. С 1947 по 1954 год владелец компании RKO Pictures. Картины, которые он продюсировал, дважды номинировались на «Оскар» за лучший фильм. В 1927 году спродюсированная им комедия «Два аравийских рыцаря» получила премию «Оскар» в номинации «Лучшая режиссура комедии». Открыл таких актёров, как Джин Харлоу, Джейн Рассел, Джек Бьютел[en], Энн Дворак, Пол Муни и других. Сотрудничал с Льюисом Майлстоуном, Говардом Хоуксом, Фрэнком Ллойдом и другими режиссёрами.
Участвовал в создании и испытании новаторских самолётов H-4 Hercules, XF-11, Constellation. Руководил разработкой и испытывал важные технологические решения в самолётостроении и авионике: убирающиеся шасси, цельнометаллический моноплан, средства радионавигации, автопилот. Установил несколько мировых рекордов в авиации. Основатель исследовательской и опытно-конструкторской компании Hughes Aircraft, вертолетостроительной корпорации Hughes Helicopters. Крупнейший акционер компании TWA с 1938 по 1966 год.
Стал знаменит благодаря эксцентричному характеру и многочисленным скандальным романам со звёздами кино и шоу-бизнеса. Эпатажное поведение в начале и полное затворничество в конце жизни, отягощённое душевной болезнью, управление одной из крупнейших бизнес-империй США, вовлечение в политические скандалы — всё это породило растиражированный образ чудаковатого и таинственного миллиардера. Биография Говарда Хьюза стала прототипом для целой череды вымышленных героев и стала основой для многих произведений искусства.
Содержание
Биография
Кинематограф и авиация
Детство и юность
 Говард Хьюз — единственный ребёнок в семье предпринимателя Говарда Робарда Хьюза[en] и домохозяйки Аллен Стоун Гано, появился на свет 24 декабря 1905 года, согласно метрической книге. Роды были тяжёлыми, Аллен потеряла много крови и едва выжила[2]. Ребёнок был долгожданный и выстраданный — мать Говарда долгое время не могла забеременеть. Родители отложили оформление свидетельства о рождении на будущее. В итоге документ ими так и не был выписан и оформили его только в 1941 году, со слов и по памяти тёти будущего миллиардера — Аннет Гано. В некоторых источниках встречаются и альтернативные даты рождения, в частности 14 сентября 1905 года[3] и 24 сентября 1905 года[4][5][~ 1].
Говард Хьюз — единственный ребёнок в семье предпринимателя Говарда Робарда Хьюза[en] и домохозяйки Аллен Стоун Гано, появился на свет 24 декабря 1905 года, согласно метрической книге. Роды были тяжёлыми, Аллен потеряла много крови и едва выжила[2]. Ребёнок был долгожданный и выстраданный — мать Говарда долгое время не могла забеременеть. Родители отложили оформление свидетельства о рождении на будущее. В итоге документ ими так и не был выписан и оформили его только в 1941 году, со слов и по памяти тёти будущего миллиардера — Аннет Гано. В некоторых источниках встречаются и альтернативные даты рождения, в частности 14 сентября 1905 года[3] и 24 сентября 1905 года[4][5][~ 1].
Его отец, Говард Хьюз-старший, был основателем компании Hughes Tool Company, занимавшейся производством бурового оборудования. Компания быстро поднялась на волне нефтяного бума начала XX века. Хьюз-старший доработал конструкцию конического шарошечного долота и, благодаря использованию грамотной бизнес-модели, сколотил значительное состояние. Отец был всецело занят работой, воспитывала сына в основном мать. Санни (Sonny (англ.) — сынок) как называли Говарда дома, рос болезненным ребёнком, а Аллен была чрезвычайно мнительна. Мать много времени уделяла гигиене сына и всячески пыталась оградить ребёнка от опасности инфекций и микробов и изолировала от общества других детей. Регулярно она устраивала сыну тщательную проверку его тела. Когда мальчику было 13 лет, у него неожиданно отнялись ноги. Доктора предполагали, что это полиомиелит, но через несколько месяцев недуг прошёл так же внезапно, как появился[6].
С детства Хьюз был замкнут, сторонился общества других детей[7]. Единственным его школьным другом был Дадли Шарп, сын партнера по бизнесу отца. Уже с малых лет Хьюз сам находил себе развлечения: изучал физику и математику, рано проявил задатки изобретателя и инженера. В 12 лет мальчик собрал в оборудованной отцом домашней мастерской мотовелосипед, затем радиопередатчик и начал самостоятельно осваивать азбуку Морзе. Серьёзно увлекался фотографией. Говард поменял много учебных заведений. Сначала он учился в элитной частной школе Prosso Academy в Хьюстоне. Затем отец, пытаясь уберечь от чрезмерной опеки матери, отправил сына в Школу Фессенден[en], недалеко от Бостона. В возрасте 14 лет его перевели в школу Тетчер[en] (Охай, Калифорния)[8]. Отец всячески поощрял стремление сына к науке и ни в чём ему не отказывал — юный Говард получал до 5000 долларов на личные расходы в неделю[9].
 Будущий миллиардер так и не получил систематического образования. Говард покинул школу Тетчер не доучившись. Вместо занятий юноша предпочитал проводить время в хьюстонском гольф-клубе Кантри Клаб[10]. Будучи в Калифорнии, Говард посещал по личной инициативе отдельные лекции в Калифорнийском технологическом институте. Хьюз-старший, не спрашивая мнения юноши, определил сына в университет Райса[10]. Вернувшись ненадолго в родной Хьюстон, Говард в 1923 году поступил в университет, но занятия не посещал[11].
Будущий миллиардер так и не получил систематического образования. Говард покинул школу Тетчер не доучившись. Вместо занятий юноша предпочитал проводить время в хьюстонском гольф-клубе Кантри Клаб[10]. Будучи в Калифорнии, Говард посещал по личной инициативе отдельные лекции в Калифорнийском технологическом институте. Хьюз-старший, не спрашивая мнения юноши, определил сына в университет Райса[10]. Вернувшись ненадолго в родной Хьюстон, Говард в 1923 году поступил в университет, но занятия не посещал[11].
Родители рано ушли из жизни. Как и предсказывали врачи, Аллен больше не смогла иметь детей. В 1922 году Аллен ждала ребёнка, но беременность оказалась внематочной и она скончалась после неудачно проведённой операции. В 1924 году из-за сердечного приступа ушёл из жизни отец. Говард спокойно принял печальные известия, не выказав никаких эмоций. Примерно год воспитанием молодого человека занималась его тётя Аннет. По законам штата 18-летний юноша не мог рассчитывать на полный контроль над наследством. Однако он не стал пускать дела на самотёк. Прежде всего, Говард урегулировал вопросы с родственниками, попытавшимися сразу продать компанию и, по собственному выражению, «послал их ко всем чертям»[12]. Зная, что дело будет решаться в суде, Говард поближе познакомился с судьёй Уолтером Монтьё. Они сыграли партию в гольф и договорились. Молодой человек был признан дееспособным, но должен был продолжить обучение в университете. Хьюз пообещал, что получит высшее образование[13].
В 1924 году Хьюз-младший стал единоличным владельцем предприятия отца[14]. На момент смерти основателя, рыночная стоимость компании Hughes Tool составляла около 2 млн долларов[15]. Управляющим компании остался Рудольф Кулделл — опытный специалист старой закалки, долго работавший с Хьюзом-старшим. В 1925 году Говард познакомился с человеком, сыгравшим важную роль в его жизни — Ноем Дитрихом[en]. Решение о приёме на работу снова было принято при участии любимой игры Говарда. Хьюз протянул Ною карточку с количеством ударов, затраченных на прохождение поля для гольфа, и тот мгновенно назвал сумму. Предложение о приёме в штат Hughes Tool поступило немедленно[16]. Дитрих был назначен консультантом Hughes Tool и затем стал ведущим сотрудником, на котором во многом и держалась вся финансовая сторона работы организации. Слова, которые очень часто использовал Хьюз: «Ной сделает это»[17]. Hughes Tool почти два десятилетия оставалась основным генератором прибыли для Хьюза, поддерживая его в самых разнообразных начинаниях[18][19].
Кинематограф
Новый владелец Hughes Tool не особенно интересовался нефтедобычей — его увлекали иные перспективы. Нарушив обещание данное судье, продолжать обучение в университете Хьюз не стал. Говард поставил сам себе в дневнике три цели:
1. Стать лучшим гольфистом мира 2. Лучшим пилотом 3. Самым известным продюсером фильмов[20].
 В июне 1925 года он женился на Элле Райс, происходившей из влиятельной хьюстонской семьи основателей Университета Райса. Затем Говард сообщил тёте Аннет, что уезжает в Калифорнию «снимать фильмы» и пара перебирается в Голливуд. Молодожёны приобрели дом в элитном районе Лос-Анджелеса Hancock Park (en). Калифорния и Лос-Анджелес нравились Говарду гораздо больше, чем Хьюстон, город с устоявшимся бытом и патриархальным укладом. Голливуд начала 1920-х — центр кинематографического бума, пространство свободной морали и нравов. В детстве Говард много времени проводил со своим дядей Рупертом[en]. Тот был известным сценаристом, режиссёром и продюсером, работавшим вместе с самим Сэмюэлем Голдвином, основателем студии MGM. Племянник, навещая дядю, посещал голливудский свет[9]. Хьюз-младший встречался со своими кумирами: легендами серебряного экрана: Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Хьюз-старший был близко знаком с Мэй Мюррей и Аллой Назимовой[21]. Говард ещё ребёнком завёл себе тетрадку, куда записывал мысли о просмотренных фильмах, заметки о том, как бы он снял некоторые сцены по-своему[8].
В июне 1925 года он женился на Элле Райс, происходившей из влиятельной хьюстонской семьи основателей Университета Райса. Затем Говард сообщил тёте Аннет, что уезжает в Калифорнию «снимать фильмы» и пара перебирается в Голливуд. Молодожёны приобрели дом в элитном районе Лос-Анджелеса Hancock Park (en). Калифорния и Лос-Анджелес нравились Говарду гораздо больше, чем Хьюстон, город с устоявшимся бытом и патриархальным укладом. Голливуд начала 1920-х — центр кинематографического бума, пространство свободной морали и нравов. В детстве Говард много времени проводил со своим дядей Рупертом[en]. Тот был известным сценаристом, режиссёром и продюсером, работавшим вместе с самим Сэмюэлем Голдвином, основателем студии MGM. Племянник, навещая дядю, посещал голливудский свет[9]. Хьюз-младший встречался со своими кумирами: легендами серебряного экрана: Дугласом Фэрбенксом и Мэри Пикфорд. Хьюз-старший был близко знаком с Мэй Мюррей и Аллой Назимовой[21]. Говард ещё ребёнком завёл себе тетрадку, куда записывал мысли о просмотренных фильмах, заметки о том, как бы он снял некоторые сцены по-своему[8].
В 1927 году Говард приобрёл небольшую продюсерскую компанию Caddo Films и затем выкупил помещение для офиса в Лос-Анджелесе по адресу Romain Street 7000. Здание, похожее на средневековую крепость, на долгие годы стало центральным офисом растущей империи Говарда Хьюза. Здесь же осуществлялся монтаж картин. Договор на дистрибьюцию фильмов был заключён с United Artists[22]. 22-летний юноша стал независимым агентом, который самостоятельно занялся продюсированием и производством картин, вне сферы влияния студий мейджоров[en]. Первую полнометражную работу «Swell Hogan» видел только сам Говард и редактор, до кинотеатров она не дошла. Вторая лента «Играют все» («Everybody’s acting») вышла в прокат и окупила свой бюджет. В 1927 году третья картина 23-летнего продюсера и режиссёра, комедия «Два аравийских рыцаря», получила премию «Оскар», в номинации лучшая режиссура комедии[23]. Картина стала прорывом к новым высотам также для режиссёра Льюиса Майлстоуна, с которым Хьюз и в дальнейшем успешно сотрудничал[24].
 Тема войны оставалась весьма популярной в кинематографе того времени. В 1928 году Говард подготовил сценарий и начал съёмки картины «Ангелы ада», посвящённой британским военным лётчикам Первой мировой[25]. Хьюз, с присущей ему скрупулёзностью, очень тщательно подошёл к производству[26]. Долгие месяцы пришлось ждать правильную погоду, при которой можно было с должным эффектом снять задуманные воздушные трюки[27]. Он добивался технического совершенства в сложных сценах, в которых было задействовано свыше 80 старых аэропланов. Хьюз преследовал цель также скупить все аэропланы и призвать всех лётчиков, дабы они не достались конкурентам. Когда пилоты отказались исполнять трюк, который хотел увидеть Говард, он лично сел за штурвал аэроплана. Манёвр был выполнен, но самолёт потерял управление и разбился при посадке. Говард сломал скулу и едва остался цел. В сцене атаки немецкого бомбардировщика, Говард хотел запечатлеть то, как был подбит британский истребитель и как он, свалившись в штопор, врезался в землю. Ради зрелища режиссёр пошёл на потерю самолёта (пилот выбросился с парашютом) — но сцену снял. Всего погибло три лётчика в ходе производства картины[28].
Тема войны оставалась весьма популярной в кинематографе того времени. В 1928 году Говард подготовил сценарий и начал съёмки картины «Ангелы ада», посвящённой британским военным лётчикам Первой мировой[25]. Хьюз, с присущей ему скрупулёзностью, очень тщательно подошёл к производству[26]. Долгие месяцы пришлось ждать правильную погоду, при которой можно было с должным эффектом снять задуманные воздушные трюки[27]. Он добивался технического совершенства в сложных сценах, в которых было задействовано свыше 80 старых аэропланов. Хьюз преследовал цель также скупить все аэропланы и призвать всех лётчиков, дабы они не достались конкурентам. Когда пилоты отказались исполнять трюк, который хотел увидеть Говард, он лично сел за штурвал аэроплана. Манёвр был выполнен, но самолёт потерял управление и разбился при посадке. Говард сломал скулу и едва остался цел. В сцене атаки немецкого бомбардировщика, Говард хотел запечатлеть то, как был подбит британский истребитель и как он, свалившись в штопор, врезался в землю. Ради зрелища режиссёр пошёл на потерю самолёта (пилот выбросился с парашютом) — но сцену снял. Всего погибло три лётчика в ходе производства картины[28].
После того как «Ангелы ада» были почти готовы и смонтированы, Хьюз увидел и услышал первую звуковую картину «Певец джаза». Он решил, не медля, переделать свою работу из немого в звуковой вариант, не считаясь с расходами. Из-за этого пришлось полностью переписать сценарий, добавив диалоги. Картину начинали снимать с Гретой Ниссен[en] в главной роли. После перехода на звуковой вариант Ниссен, из-за её сильного норвежского акцента, пришлось уволить, и в 1929 году Говард нашёл новую исполнительницу главной роли: Джин Харлоу. Затем продюсер решился на другую революционную новинку — частично добавить цвет в некоторые сцены[29]. На производство картины пришлось потратить около трёх лет и рекордный по тем временам бюджет в 4 млн долларов. До 1941 года это была самая дорогая в производстве картина в истории кино[14]. Картина едва окупила затраты, собрав в прокате свыше 8 млн долларов[30]. Сильно беспокоило Хьюза и неприятное совпадение. В то же время снимался фильм «Утренний патруль»[en] режиссёра Говарда Хоукса, с сюжетом, до мелочей совпадавшим с «Ангелами ада». Не желая мириться с недобросовестной конкуренцией, Хьюз инициировал судебное разбирательство против Warner Bros.[31].
Семейная жизнь Говарда с первых же дней дала трещину. Молодые почти не проводили время вместе. Говард пропадал на съёмках. Рождество 1927 и 1928 года супруги провели порознь. Светское общество Хьюстона оживлённо обсуждало странное поведение молодого миллионера, но Говарду не было до этого дела. Последней каплей для Эллы стали слухи о многочисленных любовных связях её мужа на стороне, в том числе с Билли Дав. В 1929 году она собрала вещи и уехала домой, подав документы на развод[32].
«Лицо со шрамом»
С выходом на экраны «Маленького Цезаря» тема гангстерского кино становилась популярной и коммерчески перспективной. В 1930 году Хьюз приобрёл права на сценарий по роману Армитэджа Трейла «Лицо со шрамом», созданного по мотивам биографии Аль Капоне. Говард Хьюз, уже заработавший имя в киноиндустрии, попытался заинтересовать крупных игроков, но студии-мейджоры отказались принимать в производство скандальный сюжет будущего фильма «Лицо со шрамом». Лента продюсировалась в Caddo Films как независимая. В качестве режиссёра «Лица со шрамом» Хьюз видел Говарда Хоукса, вот только отношения в тот момент были не лучшими. Продолжался судебный процесс по поводу возможного плагиата в «Утреннем патруле». В июле 1930 года Хьюз послал приглашение Хоуксу на партию в гольф, а тот, как известно, очень увлекался спортом и гольфом в частности. После 18 лунок в Lakeside Country club противники помирились и договорились об условиях съёмок[13].
Картина затрагивала сложные вопросы насилия, коррупции, инцеста. Хьюз собирался снять жёсткую криминальную драму, играя с закрытыми тогда темами[33]. Хоукс, будучи режиссёром картины, видел её совсем в другом ключе — как современное прочтение истории семьи Борджиа. Продюсер и режиссёр долго спорили и, в конце концов, сошлись на компромиссе, ближе к варианту Хьюза. Автор сценария в первом его варианте оставил к концовке фильма 25 трупов. Говард решил, что и этого мало, попросив дополнить сценарий. Актёров на главные роли снова пришлось искать среди малоизвестных имён[34]. Лента стала открытием для актёров Пола Муни и Энн Дворак. Хьюзу пришлось выдержать настоящее сражение с комитетом кодекса Хейса, из-за чрезмерной жестокости и вульгарности некоторых сцен. Картина вышла на экраны только в марте 1932 года, с альтернативной концовкой, почти год спустя окончания монтажа. Она получила блестящие отзывы критики и собрала хорошую кассу. Долгая тяжба с MPAA и комитетом кодекса Хейса продолжалась до 1940-х годов, когда драма вышла в повторный прокат. Картина «Лицо со шрамом» оказала большое влияние на развитие жанра гангстерского фильма, в том виде, каким мы его знаем сейчас[35].
Ной Дитрих, как правило, поддерживал большинство инициатив Хьюза, увлеченного кинематографом и авиацией. Кулделл, наоборот, постоянно опасался того, что ветреная натура хозяина компании, вовлечение в крайне рискованные предприятия в неблагоприятный момент поставит Hughes Tool на грань банкротства. Во многом благодаря Кулделлу, компания Hughes Tool выросла до производителя мирового уровня. С 200 человек в 1920 году, через десять лет штат увеличился до 2000 сотрудников[15]. Тем не менее, постоянные разбирательства между Кулделлом и Дитрихом закончились тем, что именно Дитрих в 1930-е годы вышел на первые роли в компании[36].
Кинобизнес продолжал оставаться для Говарда весьма рискованным вложением средств, хотя он и пытался следовать конъюнктуре. Помимо продюсирования картин, он рассматривал возможность приобретения сети кинотеатров и киностудий, но был вынужден поумерить пыл[37]. В 1931—1932 годах Caddo Films выпустила целый ряд картин: «Первая полоса», «Возраст любви»[en], «Король воздуха»[en] и других. Пресса хорошо оценила картины, однако в прокате картины едва отбивали затраты на производство[38]. Пытаясь найти причины неудач, Хьюз предполагал, что палки в колёса ему вставляет дистрибьютер United Artists (UA), уделяя основное внимание в прокате собственным релизам. Он безуспешно пытался судиться по данному поводу с UA[39]. Как бы то ни было, в 1932 году Хьюз прислушался к мнению Дитриха и временно прекратил работы и инвестиции в области кинематографа[22].
Увлечение авиацией
В первый раз Говард прокатился на биплане Waco[en], когда ему было 14 лет, и с тех пор авиация стала его страстью[40]. В ходе съёмок «Ангелов ада» Хьюзу пришлось много работать над подготовкой аэропланов и летать самому, выполняя рискованные трюки. Одновременно с производством картины Говард посещал лётную школу в Санта-Монике. Первые уроки аэробатики ему давал Шарль Лежотте — ас Первой мировой и консультант картины[41]. В 1928 году Хьюз получил официальную лицензию пилота и в 1930 году купил свой первый самолёт Boeing 100A[en] [42].
Hughes Tool выжила в Великую депрессию. Кулделлу даже пришлось открыть подразделение, занимавшееся производством пива (Gulf Brewing Company), с тем чтобы справиться в тяжёлое время, благо сухой закон как раз отменили[43]. В самый разгар финансового кризиса Хьюз начинает рискованное дело. В 1932 году предприниматель основал опытно-конструкторскую компанию Hughes Aircraft. Под её будущие нужды было приобретено около 1200 акров земли недалеко от Калвер-Сити, построены ангары и закуплено 6 самолётов-амфибий Sikorsky S-43[en] [44]. В далеко идущих планах Говарда стояла цель: стать ведущим поставщиком армии США. Начинала компания с разработки единичных экземпляров опытных летательных аппаратов. Первым сотрудником компании в апреле 1933 года стал талантливый инженер Гленн Одекирк[en], помогавший Говарду ещё на съёмках «Ангелов Ада»[45].
 У Говарда Хьюза была привычка исчезать из дома, никого не предупредив, и отправляться налегке путешествовать по стране. В сентябре 1932 года он уехал из дома, ничего не сказав в офисе и дома. Коротко постригшись и купив недорогой деловой костюм, он уехал в Техас, в Форт-Уэрт. Там Хьюз, под именем Чарльза Говарда, устроился на работу в местном офисе American Airlines в качестве клерка багажного отделения с окладом $115 в месяц. Одновременно Говард записался на внутренние курсы пилотов. За три недели, удивляя преподавателей своей памятью и дисциплиной, Хьюз освоил управление пассажирским самолётом Fokker и сдал экзамен на специальность второго пилота. Во время первого полёта новоиспеченного пилота American Airlines обман раскрылся, однако Хьюз получил необходимый опыт[46]. Странствия на том не закончились. Вскоре ещё раз на несколько месяцев покинул дом. Скрывая свою личность под вымышленным именем Уэйн Ректор, Говард бродяжничал и путешествовал автостопом по всей стране. Взяв в дорогу только сотню долларов, он перебивался случайными заработками. Заняв денег, Говард купил камеру и, вспомнив детское увлечение, зарабатывал на жизнь свадебными фотографиями[47].
У Говарда Хьюза была привычка исчезать из дома, никого не предупредив, и отправляться налегке путешествовать по стране. В сентябре 1932 года он уехал из дома, ничего не сказав в офисе и дома. Коротко постригшись и купив недорогой деловой костюм, он уехал в Техас, в Форт-Уэрт. Там Хьюз, под именем Чарльза Говарда, устроился на работу в местном офисе American Airlines в качестве клерка багажного отделения с окладом $115 в месяц. Одновременно Говард записался на внутренние курсы пилотов. За три недели, удивляя преподавателей своей памятью и дисциплиной, Хьюз освоил управление пассажирским самолётом Fokker и сдал экзамен на специальность второго пилота. Во время первого полёта новоиспеченного пилота American Airlines обман раскрылся, однако Хьюз получил необходимый опыт[46]. Странствия на том не закончились. Вскоре ещё раз на несколько месяцев покинул дом. Скрывая свою личность под вымышленным именем Уэйн Ректор, Говард бродяжничал и путешествовал автостопом по всей стране. Взяв в дорогу только сотню долларов, он перебивался случайными заработками. Заняв денег, Говард купил камеру и, вспомнив детское увлечение, зарабатывал на жизнь свадебными фотографиями[47].
Осенью 1935 года партнёр по гольфу Рэндольф Скотт познакомил Говарда с актёром Кэри Грантом. Впоследствии они регулярно вместе отдыхали, кутили, соперничали за внимание прекрасного пола. Они очень совпадали характерами, и у них был примерно один размер одежды. Грант нередко одалживал другу смокинги и фраки из своего гардероба. У Гранта Говард перенял стиль и аристократичную манеру одеваться[48]. Узнав о том, что Кэри снимается в картине «Сильвия Скарлетт»[en], Говард посетил съёмочную площадку и там впервые встретил Кэтрин Хепбёрн. Они быстро сошлись и стали проводить много времени вместе. Миллионер катал актрису на самолёте и научил её управлять своим любимым Sikorsky. Как-то раз они вместе исполнили опасный трюк, пролетев под нью-йоркским мостом Куинсборо на S-43, после чего Кэтрин долго не могла прийти в себя. Знакомство могло перерасти в брак. Говард сделал девушке официальное предложение и познакомился с её родителями. В августе 1937 года Хепберн переехала вместе со своей прислугой в дом к Хьюзу по адресу 211 Murfield Road в Лос-Анджелесе. Примерно через год они расстались, сохранив, впрочем, самую тёплую дружбу на долгие годы[49].
Рекорды
С 1935 года Хьюз и его компания готовятся участвовать в конкурсе на новый истребитель для ВВС США. Предприниматель нанимает целую группу талантливых молодых инженеров, которые начинают работу в Hughes Aircraft. Компания занимается передовыми разработками и технологическими новинками. В рамках конкурса ещё в 1934 году Хьюз начал разработку самолета H-1, прозванного Flying Bullet («Летящая пуля»). В этом моноплане были воплощены несколько важных новинок, в частности, бесклёпочный цельнометаллический фюзеляж, убирающиеся шасси[50]. Крылья небольшого размера и малый запас топлива были спроектированы с определённой целью — достижения рекордной скорости на малой дистанции[47]. Конкурс выиграть не удалось, но предприниматель не оставлял попыток привлечь внимание к своей разработке[45]. В августе 1935 года, после 18 месяцев подготовки, Говардом Хьюзом было установлено высшее мировое достижение — скорость 567 км/ч на дистанции 3 км[51]. На самолёте H-1 был смонтирован стандартный радиальный двигатель Pratt & Whitney R-1535[en]. Благодаря тюнингу, выполненному инженером Одекирком, и использованию высокооктанового бензина двигатель был форсирован от 750 л. с. до 1000 л. с. При попытке перейти на второй топливный бак система переключения не сработала, двигатель заглох, и пилот был вынужден спланировать на свекольное поле, повредив при посадке летательный аппарат[52].
Механики не успевали восстановить Flying Bullet, и свой следующий рекорд авиатор решил бить на другом аппарате. Теперь рекордсмена интересовала не скорость, а дистанция. Самолёт Northrop Gamma[en] разрекламировала Жаклин Кокран. Хьюз позаимствовал аппарат у знаменитой женщины-пилота, пообещав ей спонсорскую помощь. На самолёте он заменил двигатель, смонтировав Wright Cyclone R-1820G мощностью 850 л. с.[53]. В январе 1936 года Говард установил на самолёте Gamma рекорд скорости при полёте на длинной дистанции. Сразу после взлета оказалось, что радио не работает и пилот вел машину без связи с землёй. Несмотря на неисправность, пилот отказался возвращаться назад, так как боялся, что ему долго придётся ждать столь благоприятной погоды по всему маршруту следования. Вылетев из Бербанка (Калифорния), спустя 9 часов 27 минут и 10 секунд он приземлился в Ньюарке, побив трансконтинентальный рекорд. Журналистам рекордсмен скромно описал полёт так: «Я только сидел в кресле, всю работу проделал двигатель»[54]. Хьюз остался неудовлетворён результатом и решил переделать Flying Bullet для рекордов на большие дистанции[55].
19 января 1938 года Говард вырулил на дорожку аэродрома в Бербанке на реконструированном Flying Bullet для атаки на очередной трансамериканский рекорд. В модернизацию самолёта было вложено $125 тыс. Отрабатывалась теория достижения высокой скорости за счёт полёта на большой высоте. Пилот набрал высоту в 20 000 футов (6100 м). Теория оказалась верна. Средняя скорость составила 380 миль в час (611 км/ч), однако из-за несовершенства кислородной маски Хьюз был подвержен гипоксии и начал терять контроль над управлением летательным аппаратом. С трудом ему удалось сохранить сознание. При подлёте к Ньюарку снова оказалось, что радио не работает и пилот не смог связаться с землёй, чтобы запросить подготовку посадочной полосы. В результате пришлось 18 минут кружить над аэродромом, пока самолёт, наконец, не заметили и дали добро на посадку[57].
В 1938 году Хьюз начал подготовку к кругосветному перелёту, приуроченному к нью-йоркской всемирной выставке. Он выбрал для этой цели пассажирский Lockheed 14 (en) и за два месяца подготовил его к установлению рекорда. Первоначально командой к полёту готовился хорошо известный лётчику Sikorsky S-43, но у него был большой расход топлива и относительно малая скорость. L-14 был недостаточно велик для того, чтобы нести необходимый запас топлива и снаряжения, но Хьюз, игнорируя возражения своей команды, выбрал именно его[49]. Среди прочего на летательном аппарате был установлен новый автопилот конструкции компании Sperry[58]. Наученный горьким опытом предыдущих поломок, конструктор продублировал ключевые системы летательного аппарата. Путешественники постарались тщательно собраться — они заранее подготовили напечатанные тексты на русском языке на тот случай, если потерпят бедствие на территории СССР. Перед полётом были сделаны все необходимые распоряжения в связи с новым завещанием Хьюза. Англичане не давали разрешение на пролёт над своей территорией, и из-за этого пришлось изменить маршрут. Подготовка затянулась на год[59].
10 июля 1938 года, загруженный 1500 галлонами топлива (5 678 литров), Lockheed с шестью членами экипажа на борту вылетел из Нью-Йорка. Несмотря на продолжительную подготовку, организаторы перелёта не учли того, что для перегруженного самолёта взлётно-посадочная полоса (ВПП) окажется слишком короткой. Говард решил не делать вторую попытку перед толпой, собравшейся на проводы, и с риском для жизни взлетел, оторвавшись от земли уже за пределами полосы, с грунта, немного повредив шасси[49]. Экипаж взял курс на Париж. Следующим пунктом маршрута была Москва, где путешественников ждал тёплый приём на Центральном аэродроме, но остановка продолжалась всего около двух часов[60]. Затем самолёт побывал в городах Омск, Якутск, Фэрбанкс (Аляска), Миннеаполис и, наконец, 14 июля вернулся в аэропорт Флойд Беннетт Филд[en]. Был установлен новый рекорд: за 3 дня 19 часов 8 минут и 10 секунд самолёт пролетел 23 612 км. Возвращение было триумфальным. На улицах Нью-Йорка героев встречало до миллиона жителей[61]. Такой же восторженный приём ждал авиатора в родном Хьюстоне, где его приветствовало 350 тыс. жителей города. В газете Chicago Tribune о нём написали: «когда у нас есть такие лётчики, у Люфтваффе нет никаких шансов». Говард Хьюз, вместе с Чарльзом Линдбергом и Джеймсом Дулиттлом, вошёл в число легендарных пилотов Америки[62]. За свои достижения Хьюз был удостоен золотой медали Конгресса США, однако он был настолько занят, что так и не посетил церемонию вручения медали, проходившую в Вашингтоне. Медаль позже выслали по почте[40][63].
TWA и проект Constellation
В 1938 году Хьюз занялся проектом по поставке на вооружение ВВС США перехватчика под кодовым наименованием D-2. Характеристики будущего самолёта предполагались такими: практический потолок 6000 м, скорость до 580 км/ч. Предприниматель перенёс производство Hughes Aircraft на новое место — в город El Segundo (Калифорния) (en), где он приобрёл 1200 акров земли. Штат компании значительно расширился: до 500 человек. Было построено дополнительное здание для лабораторий и сборки летательных аппаратов. На новом месте компания оборудовала собственный аэродром с ВПП длиной 2900 м[64]. Основным источником прибыли в системе активов Хьюза оставалась компания Hughes Tool[65]. После окончания Великой депрессии, перед войной, компания практически монополизировала производство буров и свёрл для нефтедобычи. Дела шли прекрасно, и рыночная капитализация компании достигла $20 млн к 1940 году[66]. В конце 1930-х общая стоимость активов Говарда Хьюза оценивалась примерно в $60 млн. Несмотря на все усилия, Hughes Aircraft пока не интересовала заказчиков из военно-промышленного комплекса США. Личность владельца была постоянно в центре внимания СМИ, но настоящего успеха в бизнесе всё не наблюдалось. Предприниматель делился с близкими предположениями о том, что у военных сложился некий «комплекс Хьюза», и они не хотят с ним иметь дело из принципа. Тогда у Хьюза и возникла идея попытать счастья в гражданской авиации[67].
В конце 1938 года у Хьюза возник интерес к авиакомпании TWA, специализировавшейся на почтовых перевозках. Президентом компании недавно стал Джек Фрай[en] — пионер авиации, весьма популярная фигура с передовыми взглядами на развитие технологий[68]. В середине и конце 1930-х началась гонка между TWA, Pan American и American Airlines за лидерство в пассажирских авиаперевозках. В 1937 году Pan American разместила заказ на первые два Boeing Stratoliner[en] — революционную модель пассажирского самолёта. Stratoliner впервые был оборудован гермокабиной, позволявшей поднять эшелон на высоту свыше 6000 метров, где значительно снижалась болтанка и расход топлива. При очевидных преимуществах в Boeing подстраховались, выпустив самолёт, который, в случае, если он не устроит гражданских заказчиков, можно было легко переделать в бомбардировщик[69]. Салон вмещал всего 33 пассажира, и такая модель не могла оказать серьёзного влияния на рынок гражданской авиации[70].
Авиакомпании пока вели себя осторожно и не торопились вкладываться в новые модели. Споры происходили и на совете директоров TWA (тогда компания называлась Transcontinental & Western Airlines). Именно тогда в 1939 году Хьюз приобрёл 25 % акций TWA, став мажоритарным акционером TWA (переименованной в Trans World Airlines) и поддержал инициативу президента Джека Фрая с расширением флота компании. После своих рекордных полётов на больших высотах Хьюз не сомневался: это и есть магистральный путь развития гражданской авиации. Авиакомпании был нужен просторный четырёхмоторный авиалайнер с гермокабиной вместимостью до 100 пассажиров, способный доставить пассажиров от берега до берега страны менее чем за 10 часов. TWA самостоятельно не могла осуществить кардинальное обновление флота и прорыв на рынке пассажирских перевозок, однако, с появлением Хьюза, идея стала реальностью. С этим проектом Фрай и Хьюз обратились в Lockheed. К июню 1939 года ими был подготовлен дизайн проекта 049. Хьюз встретился с президентом Lockheed Робертом Гроссом[en]. Посмотрев чертежи и спецификацию, предприниматель бросил: «Пришлите счёт в Hughes Tool». Вместе они согласились на беспрецедентную в истории гражданской авиации сделку[71]. Хьюз подтвердил размещение предварительного заказа стоимостью 18 млн долларов за 40 новых самолётов, причём по условиям контракта Lockeed имела право собирать данные самолёты другим авиакомпаниям только после поставки 35 аппаратов TWA. Форма хвостового оперения была согласована с заказчиком — низкая высота летательного аппарата позволяла ему помещаться в ангарах TWA[70]. Разработка и строительство самолётов велись в условиях тотальной секретности, за которой лично следил Хьюз. Он справедливо полагал, что Constellation нанесёт удар основным конкурентам — Pan American и American Airlines. В решающий момент в схватку авиакомпаний вмешались форсмажорные обстоятельства — приближалась война[72].
«Вне закона»
Перед войной Говард был полон планов. Летом 1938 года Говард отдыхал в городе Ки-Уэст и начал работу над сценарием по мотивам романа «Иметь и не иметь» Эрнеста Хэмингуэя. Проект остался нереализованным, а права Хьюз перепродал Говарду Хоуксу, экранизировавшему роман в 1944 году[73]. В 1939 году на американские киноэкраны вышел вестерн «Джесси Джеймс»[en], сделавший «хорошую кассу». Хьюз снова решил следовать конъюнктуре[74] и в 1940 году начал производство картины с рабочим названием «Билли Кид». Картина снималась по мотивам истории жизни Билли Кида — легендарного стрелка с Дикого Запада. На пробы к картине, которые проводил лично продюсер, пришла 19-летняя секретарша Джейн Рассел и была утверждена на роль Рио Макдональд. Другим новичком стал страховой агент Джек Бьютел, получивший роль Билли Кида. Съёмки начались в ноябре 1940 года[75]. Наученный предыдущим горьким опытом, Хьюз ещё до начала производства показал сценарий представителю MPAA Джеффри Шурлоку и получил предварительное одобрение. Впрочем, как показали дальнейшие события, от проблем с цензурой картину это всё равно не спасло[76].
Просмотрев первый предварительный футаж, Хьюз сделал замечание режиссёру Говарду Хоуксу. Он считал, что чистое небо без облаков на заднем плане лишает кадр глубины. «Зачем нужно было ехать в такую даль на природу в Аризону, если подобную пустую сцену можно снять и в павильоне?» — спрашивал он Хоукса. Как и в «Ангелах ада», началось ожидание правильной погоды. Через две недели после начала съёмок Хоукс, понимая, что фильму грозит судьба очередного затянувшегося проекта, предложил Хьюзу самому занять режиссёрское кресло. Говард согласился, и для съёмочной группы это не предвещало лёгкой жизни. Хьюз, как правило, освобождался только вечером и тогда (в случае работы в павильоне) съёмки шли ночью. Как иронически писала New York Times о Хьюзе: он снимает с одному ему понятной скоростью (own bizarre pace)[74]. Затянувшееся производство привело к уже знакомой коллизии. Конкуренты в MGM быстро сняли и выпустили в 1941 году фильм «Билли Кид»[en] с близким сюжетом. Хьюз безуспешно пытался оспорить ситуацию лично с Луисом Майером. Пришлось переименовать картину с рабочего названия «Билли Кид» на «Вне закона»[77].
В начале 1941 года съёмки продолжились, и следующее затруднение возникло со сценой, в которой индейцы пытали героиню Джейн Рассел. Природа наделила девушку прекрасными формами, и обычный бюстгальтер не устраивал придирчивого режиссёра. Он начал разрабатывать специальную конструкцию с металлическими вставками[78]. Впрочем, сама Рассел вспоминала о том, что попытки Хьюза создать конструкцию, называемую сейчас невидимым бюстгальтером, оказались только бесполезной тратой времени. В фильме она пользовалась своим обычным бельём[79].
Понимаю — вы делаете всё зависящее для того, чтобы продемонстрировать грудь мисс Рассел. Однако я хочу сказать, что она выглядит ненатуральной, а это на самом деле не так. Я хочу, чтобы её груди двигались естественно с её движением в кадре, а не застыли как приклеенные. Это инженерная проблема, и я с ней разберусь лично.
Оригинальный текст (англ.)I know that you are making every effort to showcase Miss Russell's breasts. But I am just saying that they seem artificial or padded, which I know they are not. I want to see the tops of her breasts as she moves, not be held in place as if they were supported by concrete. This is an engineering problem, and I will handle it personally.
— Говард Хьюз[80]
Одновременно со съёмками Хьюз продолжал совершенствовать конструкцию самолёта D-2. Стараясь везде успевать, Хьюз перенёс съёмочную площадку фильма из Аризоны в Калифорнию, поближе к лабораториям Hughes Aircraft. Другой причиной паузы в производстве ленты стали проблемы на личном фронте, скандальный роман с 15-летней Фейт Домерг[en][78]. В феврале 1941 года съёмки фильма «Вне закона» завершились и начался монтаж[81]. В апреле 1941 года Говард был вынужден приостановить работу на нескольких фронтах. Обнаружив сыпь на руках, он обратился к врачу, который диагностировал у него сифилис. В эпоху до открытия антибиотиков данное заболевание нередко имело летальный исход или тяжёлые осложнения. Врачи рекомендовали лечение недавно открытым пенициллином, но больной предпочёл проверенные препараты на основе ртути и мышьяка. После пяти недель лечения состояние улучшилось[82]. Доктор предписал пациенту строго следить за личной гигиеной, что только усилило мизофобию Хьюза, которая преследовала его с детства. Говард тщательно продезинфицировал своё жилище, избавился от гардероба, постельного белья, всей ткани в доме и даже поменял свой автопарк[83].
Война и послевоенное время
Война
После нападения на Пёрл-Харбор США вступили во Вторую мировую войну. Весь флот самолётов TWA (как и других крупнейших авиакомпаний) был временно реквизирован в пользование американской армии. Выпуск Constellation оказался отложен до 1944 года. В 1941 году Хьюза, как самого известного в стране лётчика, собирались призвать в армию. Его вполне могли комиссовать и из-за проблем со здоровьем (глухота), однако Хьюз был признан важным поставщиком для нужд обороны и по этой причине освобождён от службы[84]. В начале 1942 года Хьюз продолжал работу над монтажом фильма «Вне закона» и самолётом D-2. Обоим проектам не было видно конца. Инвестиции в производство, расширение штата Hughes Aircraft, пока не давали плодов. Правительство не было заинтересовано в передаче заказов Hughes Aircraft, полагая, что компания не справится с заказами такого калибра. Представитель заказчика полковник Фрэнк Кэрролл после инспекции Hughes Aircraft оставил следующий комментарий:
По мнению нашего ведомства, это авиационное производство не более чем хобби руководства компании, и разрабатываемый проект [D-2] пустая трата времени. Персонал и оборудование не используются с должной эффективностью в данных чрезвычайных обстоятельствах […] ВВС должны приостановить размещение каких либо будущих заказов в данной организации.
Оригинальный текст (англ.)It is the opinion of this office that this plant is a hobby of the management and that the present project now being engineered [the D-2] is a waste of time and that the facilities, both in engineering personnel and equipment, are not being used to the full advantage in this emergency [...] the Air Corps should discontinue any further aircraft projects with this organization.
— [45]
Не будучи востребованной в поставках самолётов, Hughes Aircraft всё же оказалась занята в военных поставках. Важным заказом стали патронные ленты для авиационных пулемётов и пушек. Доработки в конструкции лент позволили увеличить скорострельность в два раза[85]. Hughes Aircraft закрыли до 90 % военных заказов в этой нише. Также компания выполняла некоторые заказы на навигационное и радиооборудование, комплектующие к самолётам[45]. Владелец компании мечтал о большем. Хьюз с начала военных действий вынашивал идею постройки больших транспортных самолётов, способных пересечь Атлантику. Так предполагалось бороться с немецкими субмаринами, контролирующими ключевые транспортные маршруты, пролегающие через океан. По одной из версий, сотрудничество в производстве амфибий предложил Говарду судостроитель Генри Дж. Кайзер. Boeing, Lockheed и McDonnell Douglas были полностью загружены военными заказами и только Hughes Aircraft могли взяться за амбициозный проект. Хьюз довольно долго размышлял над предложением и, наконец, 18 ноября 1942 года был подписан контракт на поставку трёх первых самолётов-амфибий под кодовым наименованием H-4 Hercules на сумму $18 млн[86]. Хьюз в этот момент был под угрозой срыва сроков по фильму «Вне закона» и подписал контракт без чёткого видения его исполнения. Речь ведь шла о самолёте, который не знало авиастроение того времени — со снаряженной массой порядка 200 тонн[85].
5 февраля 1943 года, после более чем 18 месяцев редактирования и сведения фильма, состоялась премьера «Вне закона» в Сан-Франциско. Нападки цензоров не заставили себя ждать. Слишком откровенные по тем временам сцены с участием Джейн Рассел привлекли их внимание[87]. Задолго до того, как картина вышла на экраны, большую популярность приобрела фотосессия Джейн для журнала Life. Джейн Рассел, также как и Бетти Грейбл, стала известным пинап-символом для миллионов штатских американцев и солдат на фронте. Публика ждала фильм[88][79][89]. Отзывы критики на картину оказались разочаровывающими[90]. Ведущие издания страны, не стесняясь в выражениях, разгромили картину. Журнал Variety назвал фильм «Вне закона» «бурлескным вестерном», а журнал Time — лучшим кандидатом на «провал всех времён». После 8 недель и рекордных по тем временам кассовых сборов картина была снята с проката самим Хьюзом. Продюсер и режиссёр был крайне раздосадован оценками и даже собирался судиться с журналом Time за слишком оскорбительный тон статей о фильме[91].
После премьеры картины у Говарда начался роман с Авой Гарднер, но Хьюз не разорвал отношения с Фейт Домерг. Разочарованная изменой девушка задумала месть. Фейт выследила и затем протаранила своей машиной автомобиль, в котором находились Говард и Ава. Только благодаря вмешательству прохожих инцидент не повлёк за собой серьёзных травм[92][93].
В мае 1943 года Хьюз снова попал в авиационную катастрофу. При посадке на поверхность водохранилища Мид самолёт Sikorsky S-43, который пилотировал Хьюз, потерял управление, разрушился и затонул. S-43 готовили к новому рекордному полёту. Причиной катастрофы стали непроверенные изменения в конструкции амфибии, повлекшие смещение центра тяжести. Два человека, находившиеся на борту, погибли при аварии. Обломок пропеллера попал в кабину пилота. Сам Говард получил только лёгкие ранения. Вечером того дня Хьюз признался Аве: «Я убил двоих человек»[94][95]. Очередное решение миллионера снова удивило его подчинённых. Более полумиллиона долларов было потрачено на то, чтобы поднять самолёт S-43 со дна озера и восстановить[96].
К середине 1943 года окружающие стали раз за разом замечать, что у руководителя Hughes Aircraft явные проблемы с душевным здоровьем. Он всё реже появлялся в офисе и всё меньше разговаривал с коллегами и друзьями, предпочитая закрываться в спальне и общаться по телефону. Будучи на работе, Говард подолгу запирался в пустом ангаре и сидел там, не отзываясь на просьбы выйти. Он часами, молча, разглядывал незаконченный D-2. Тем временем сроки поджимали. Компанию посетил сын президента Эллиотт Рузвельт[en] с проверкой состояния военных заказов и тогда D-2 был впервые продемонстрирован на публике. Революционно выглядящая двухфюзеляжная форма секретного изделия, теперь позиционировавшегося как самолёт для дальней разведки, впечатляла[97]. После визита Эллиотт Рузвельт дал в Вашингтоне прекрасные отзывы о состоянии заказов для ВВС и отдельно о качестве нового самолёта. Hughes Aircraft договорилась о предварительном заказе на сто экземпляров самолёта-разведчика, переименованного в XF-11[98]. Специалисты предостерегали от опрометчивого заказа изделия, которое ещё не отрывалось от земли, но компания получила $48 млн от правительства в счёт будущей поставки[99].
После четырёх лет разработки проект оставался в неопределенном состоянии. Самолёт будущего XF-11 был спроектирован под двигатель, который ещё не был создан промышленностью. Транспортный Hercules также не был закончен. В январе 1944 года Военное министерство США уведомило Hughes Aircraft о том, что заказ может быть отозван. Миллионер был вынужден немедленно направиться в Вашингтон для переговоров. Хьюзу удалось получить отсрочку, что стоило ему больших нервных затрат. Помогли знакомства в среде высшего руководства США, которые возникли после легендарного кругосветного перелёта. Президент Франклин Рузвельт, заинтригованный обещанием хозяина Hughes Aircraft поднять в воздух 200-тонный самолёт, тоже одобрил отсрочку. Известно, что некоторых чиновников военного ведомства Хьюз задобрил взятками, в частности генерала Бенетта Мейерса, представителя отдела закупок военного ведомства[100]. Под подозрение в получении взяток попал и Эллиотт Рузвельт[101].
Тем временем, в апреле 1944 года гонка между Pan American и TWA продолжилось, Говард Хьюз пролетел на прототипе Constellation от Бербанка до Вашингтона за рекордные 6 часов 58 минут[102]. В середине 1944 года TWA возобновила регулярные пассажирские авиаперевозки, и усилия по разработке самолёта не пропали даром. Управление по гражданской авиации США (Civil Aviation Board) разделило сферы влияния, и TWA открыла рейсы в Азию и Европу. Тем временем в Pan American также успели заказать новые самолёты и эффект новинки был потерян. Constellation прекрасно показывали себя в эксплуатации, хотя серия аварий несколько подорвала позиции TWA на рынке. В 1946 году один из самолётов Constellation в ходе тренировочного полёта загорелся и упал. Два месяца весь флот Constellation стоял на приколе, пока Управление национальной авиации[en] разбиралось с причинами инцидента. Затем произошла всеобщая забастовка пилотов. В 1947 году между Джеком Фраем и Говардом Хьюзом произошла размолвка. Джек предлагал провести дополнительную эмиссию акций TWA, с целью привлечения средств. Хьюз, опасаясь утраты позиции мажоритарного акционера, отказался. Размолвка закончилась увольнением Фрая[103].
Hercules и XF-11
После возвращения из Вашингтона Хьюз, несмотря на предупреждения врачей и близких, занялся проектом Hercules. Последствием перенапряжения стал тяжёлый нервный срыв. Несколько недель он не выходил из дома и сидел в комнате с наглухо зашторенными окнами. С того времени Говард начал требовать от помощников и слуг абсолютно точного следования инструкциям, которые, в первую очередь, касались предметов непосредственного соприкосновения. Утомившись каждый раз объяснять во сколько слоёв салфеток необходимо оборачивать туалетные принадлежности, он начал писать эти инструкции. К себе в пространных документах магнат обращался в третьем лице — HRH[104].
В октябре 1944 года Говард вызвал к себе руководителя службы сервисного обслуживания Hughes Aircraft Джозефа Петрали и приказал подготовить к полёту S-43 — тот самый, что был поднят со дна озера. Несколько месяцев они бесцельно и беспорядочно путешествовали по стране. Побывали в Лас Вегасе, Шривпорте, Майами, Нью-Йорке. Поднимаясь в самолёт, магнат не всегда говорил, куда собирается лететь. Беспорядочные полеты над территорией страны, находящейся в состоянии войны, были довольно опасны. Петрали сообщал диспетчерам: «В небе Говард Хьюз, у него дела, связанные с военными поставками»[96][105]. Будучи в Луизиане, Хьюз покинул отель и пропал на несколько дней. Полицейские, обнаружившие Хьюза на бензоколонке, приняли его за бомжа. В карманах у скитальца нашли больше тысячи долларов и полицейские решили, что он кого-то ограбил. Миллионер путался в объяснениях кто он такой и бессвязно бормотал: «Я Ширли Темпл». Его спас из полицейского участка приехавший Петрали. Подавать признаки возвращения к душевному равновесию Хьюз стал только в Нью-Йорке, где он вернулся к более-менее нормальному для себя образу жизни. В сентябре 1945 года Говард, наконец, вернулся в Калвер-Сити и появился в своём офисе[106].
В отсутствие шефа фирмами Hughes Tool и Hughes Aircraft управлял Ной Дитрих[107]. В сентябре 1945 года, когда война окончилась, Хьюз, наконец, появился в Калвер-сити в офисе Hughes Aircraft. Как выяснилось, пока руководитель отсутствовал, Hercules был практически завершён, а заказ на XF-11 оказался аннулирован. Внимания требовала и ситуация с фильмом «Вне закона». Цензурный комитет кодекса Хейса распорядился внести в ленту свыше сотни правок и особенно досталось сценам с Джейн Рассел. Этого не было сделано, и картина получила ограничение по прокату. Выздоровевший Хьюз со всей энергией взялся за решение проблемы, но не добился компромисса. После долгих дебатов картина с серьёзными купюрами вышла в повторный прокат. Было решено снова запустить кампанию продвижения: в одном из цехов Hughes Aircraft даже собрали рекламный дирижабль[108]. Позже, в июле 1946 года, Хьюз организовал иск на $5 млн против MPAA за излишне долгое рассмотрение вопроса о цензурных правках в картине, со ссылкой на первую поправку[101][109]. Ситуация с картиной «Вне закона» стала первым прецедентом в эпоху «кодекса». Несмотря на проигрыш дела в суде штата Нью-Йорк, Хьюз добился расширения проката картины, хотя полностью запрет кодекса Хейса с неё так и не сняли. При всех ограничениях в прокате, картина оказалась самой финансово успешной из всех, что продюсировал Говард Хьюз. При бюджете в $1,2 млн она собрала только в США и Канаде свыше 5 млн долларов[90][110].
Перемещение готового самолёта Hercules из сборочного цеха в акваторию военно-морской базы Лонг-Бич[en] для испытаний стало событием национального масштаба. За транспортировкой гигантского самолёта наблюдало около 100 тыс. человек. Личность Хьюза и его компания снова были на слуху. Самолёт с размахом крыльев 320 футов (98 м) оборудовали 8 двигателями мощностью по 3800 л. c. и, согласно расчётам, был способен перевозить до 650 пассажиров. Предполагалось, что в условиях недостатка металла почти полностью деревянный корпус станет привлекательным решением для заказчиков[101].
7 июля 1946 года Говард Хьюз запланировал испытать прототип XF-11. На аэродром его провожала вместе с другими друзьями новая знакомая — актриса Джин Питерс. C эффектной зеленоглазой брюнеткой Говард познакомился пару дней назад, на вечеринке, посвящённой Дню независимости. Как обычно, авиатор надел в полёт свою счастливую шляпу-федору. В нарушение правил испытательных полётов в самолёт залили в два раза больше топлива, чем разрешалось — 1200 галлонов (~ 4548 л)[111]. Делая круги над городом Калвер-Сити, пилот обнаружил, что один из двигателей вышел из строя, и машина стала терять высоту. Пока пилот пытался визуально определить причину проблемы, самолёт снизился до 300 метров, и парашютирование стало опасным. К тому же самолёт стремительно снижался на густонаселённый район Беверли-Хиллз. Попытки вернуть управление оказались безуспешны[112].
На скорости около 250 км/ч самолёт XF-11 упал в районе улицы North Linded Drive, разрушил несколько домов и взорвался. К счастью никто из жителей не пострадал. Вытащил Хьюза из горящих обломков сержант ВМФ США Уильям Даркин, гостивший в одном из домов по соседству. С многочисленными тяжёлыми травмами и ожогом 78 % поверхности тела, авиатора доставили в госпиталь Good Samaritan Лос-Анджелеса. Пострадавший потерял свыше 3 литров крови. Около недели состояние пациента было очень тяжёлым, и врачи не давали положительного прогноза[113][114].
В госпиталь пришло свыше 6 тысяч писем и телеграмм со всей страны. Пожелания скорейшего выздоровления прислал Гарри Трумэн. После 13 июля пациент пошёл на поправку. Первым посетителем, которого допустил к себе Говард, стала Джин Питерс. Стандартный больничный матрас оказался крайне неудобен, и Хьюз заказал изготовить новую конструкцию в своей лаборатории и вскоре ему его доставили. В ходе лечения пришлось постоянно принимать болеутоляющие препараты. Пациент приобрел зависимость, повлиявшую в дальнейшем на здоровье и психику[115]. Говард выписался из госпиталя 12 августа 1946 года и затем провел 4 недели реабилитации дома у своего друга Кэри Гранта. Он ежедневно звонил в Нью-Йорк и продолжал тяжбу с MPAA по поводу судьбы «Вне закона» и полного снятия цензурных ограничений по отношению к фильму[116].
Сенатские слушания
Неисполненные военные заказы остались в поле зрения правительственных структур и ФБР. С 1946 года за Хьюзом и некоторыми его контактами практически постоянно следили агенты. Телефоны в доме миллионера находились под прослушиванием. Отчёты о слежке содержали информацию о связях Хьюза со многими знаменитостями. Некоторые отчёты попадали на стол самому Эдгару Гуверу[101]. В 1947 году большинство в Сенате получили республиканцы, учредившие комиссию по выявлению нарушений в поставках военного оборудования. Hughes Aircraft получила более 40 млн долларов средств по контрактным обязательствам, но ни одного самолёта так и не было поставлено. Также комиссию интересовали затраты на увеселения и возможную дачу взяток некоторым официальным лицам. Ключевой фигурой в расследовании был сенатор Оуэн Брюстер[en] — председатель комиссии. Говард Хьюз был не единственным объектом интереса комиссии. Аналогичные расследования проводились против крупнейших поставщиков вооружения в ходе войны: Престона Такера[en] и Эндрю Хиггинса[en] [117].
Хьюз постепенно восстанавливался после аварии и возвращался к нормальному образу жизни. К концу 1946 года он владел 46 % акций TWA, его состояние оценивалось в 520 млн долларов[118][107][~ 2]. В это время Говард не особенно внимательно следил за своим бизнесом, был целик увлечён развлечениями и романом с Джин Питерс. Вместе с Кэрри Грантом и с компанией разбитных друзей Хьюз курсировал между Техасом и Мексикой на самолёте DC-3 под названием Flying Penthouse, переоборудованном в летающий бар. Дела требовали присутствия босса в Нью-Йорке, а подчиненные не могли его нигде найти. Газеты начали осторожно размещать некрологи на Хьюза и Гранта[119]. Ответчик около недели успешно укрывался от федеральных маршалов, пытавшихся вручить ему повестку. У Говарда продолжался роман с Джин Питерс, и одновременно он успел завести интрижку на стороне с танцовщицей Сид Чарисс. В конце июля Хьюз появился в доме своего друга Кэри Гранта, который уговорил его остановиться. Перед слушаниями Грант привёл внешний вид Хьюза в порядок: отвёл Хьюза к собственному парикмахеру и портному[120].
Тем временем Ной Дитрих готовился к схватке. За деятельностью комиссии стояло не одна только попытка разобраться в том, куда ушли бюджетные средства. TWA, основным акционером которой был Хьюз, впервые вышла на рынок гражданской авиации Европы и Ближнего Востока. TWA бросила вызов гиганту индустрии Pan American, до того монопольно контролировавшей пассажирские перевозки в Европу. Глава Pan American Хуан Трип[en] начал кампанию лоббирования в Конгрессе интересов своей компании, с целью сохранить её доминирующее положение на рынке. Pan American именовала себя «избранным инструментом» (chosen instrument). Билль, вынесенный на рассмотрение в Конгрессе, получил такое же условное наименование. В ответ TWA представила «Общий билль авиакомпаний» («Community Airlines Bill»)[121].
Летом 1947 года Хьюз вернулся обратно к подготовке к слушаниям сенатской комиссии. Он предпринял несколько продуманных ходов. Понимая, что сенатская комиссия вызовет в качестве свидетелей его друзей из кинобогемы и некоторых сотрудников Hughes Aircraft, Хьюз отправил многих из потенциальных свидетелей в долгие командировки за пределы страны. Хьюз опубликовал серию материалов в газетах, где отстаивал точку зрения того, что на деньги правительства были построены летательные аппараты. В частности Hercules готов к испытательным полётам. Для этого Хьюз и его помощники тесно работали с известным колумнистом Дрю Пирсоном[en]. Говард нанял детективное агентство Schindler, дабы собрать компромат на своих противников. Представители агентства расставили «жучки» в гостиничных номерах сенатора Брюстера и очистили от многочисленных прослушивающих устройств номер Хьюза и Дитриха[122]. Так Хьюз смог собрать и затем опубликовать материалы о конфликте интересов: финансовой связи сенатора Оуэна Брюстера и Pan American. Ещё до появления Хьюза в качестве ответчика, сенатор Брюстер неожиданно сам оказался в положении допрашиваемого. Ему пришлось объясняться в прессе по поводу интересов в Pan American и своей связи с Хуаном Трипом[123].
Сенатские слушания начались 28 июля 1947 года в Вашингтоне и заняли первые полосы газет. Говард Хьюз прилетел в столицу на пилотируемом им Douglas DC-3. На заседании Хьюз впервые появился 5 августа и провёл на слушаниях всего пять дней. Журнал Newsweek в своём репортаже назвал слушания «самым большим цирком, который только видел Вашингтон». Допрос вёл сенатор Гомер Фергюсон[en]. Все попытки выяснить, что же правительство приобрело за $40 млн, оказались безуспешными. Допрашиваемый отмёл все подозрения и сам перешёл в атаку, ссылаясь на то, что сенатская комиссия имеет конфликт интересов. Отвечая на вопрос о том, в каком состоянии поставка транспортного самолёта, Хьюз заявил: самолёт готов, и он лично может провести испытания. Если самолёт не взлетит — он готов покинуть страну. Кроме того, в проектирование и постройку была вложена значительная доля его собственных средств[124].
Hercules был монументальным предприятием. Самый большой летательный аппарат в мире. Он выше пятиэтажного здания, с размахом крыльев, превышающим футбольное поле. Он больше городского квартала. Это труд всей своей жизни. Я поставил на этот самолёт свою репутацию и как уже неоднократно повторял: если испытания закончатся неудачей, вероятно, я покину страну и никогда не вернусь.
Оригинальный текст (англ.)The Hercules was a monumental undertaking. It is the largest aircraft ever built. It is over five stories tall with a wingspan longer than a football field. That's more than a city block. Now, I put the sweat of my life into this thing. I have my reputation all rolled up in it and I have stated several times that if it's a failure, I'll probably leave this country and never come back.
— [125]
Тем временем в компании не сидели сложа руки. Работая в три смены, сотрудники спешно готовили XF-11 и Hercules к испытаниям, пока их шеф отвечал на вопросы комиссии. 2 ноября 1947 года состоялся первый и последний полёт Hercules, прозванного журналистами Spruce Goose[~ 3]. Самолёт, который пилотировал Хьюз, оторвался от воды и пролетел над акваторией порта Лонг-Бич менее мили (1600 м) на высоте около 70 футов (21 м)[126]. После памятных испытаний Hercules комиссия продолжала расследование, но общественный интерес к нему постепенно спал. Расследование продолжалось до 22 ноября 1947 года, после чего все обвинения против Hughes Aircraft были сняты[127].
RKO Pictures
После возвращения домой из Вашингтона Хьюз решил снова включиться в кинобизнес. В этой сфере экономики потянуло ветром перемен. Быстро распространявшееся телевидение набирало популярность. Назревал кризис студийной системы. Тем не менее, предприниматель считал кинобизнес перспективным объектом для инвестиций[128]. В начале 1948 года он начал подготовку сделки по приобретению RKO Pictures, третьей студии страны после MGM и Warner Bros. Большую часть акций предприниматель приобрёл у Флойда Олдума[en] — такого же, как он, чудаковатого миллионера. Олдума пришлось обхаживать несколько месяцев, используя знакомство с его женой, давней знакомой по авиационному цеху, Жаклин Кокран [129]. В мае 1948 года бизнесмен купил 24 % акций RKO Pictures. В 1954 году Хьюз полностью выкупил компанию, уплатив $6 за акцию, что вдвое превышало оценочную рыночную стоимость. Кинокомпания обошлась ему в 23,5 млн долларов[130].
Попытки оживить бизнес и кинопроизводство оказались не совсем успешными — RKO Pictures не приносила дохода. Будучи единственным владельцем компании, Хьюз активно вёл дела компании, продюсировал и участвовал в производстве более 20 фильмов. Говард подписал 20-летний контракт с Джейн Рассел о совместном творчестве с RKO, с оплатой вне зависимости от занятости актрисы в картинах. После того как Хьюз занял кресло руководителя, в студии началась большая кадровая чистка. Заявив, что не собирается платить зарплату «комми», окопавшимся в RKO, в апреле 1952 года Хьюз приостановил работу студии на несколько месяцев, до тех пор, пока не были решены проблемы с чужеродными элементами. Говард принимал самое активное участие в послевоенной антикоммунистической охоте на ведьм, в ходе которой многие сотрудники студии были вынуждены покинуть компанию[131].
Глава компании вмешивался в съёмки и монтаж картин со своим обычным вниманием к мелочам и дотошностью. Так он заставил полностью переснять уже смонтированную картину «Его тип женщины»[en] с Джейн Рассел в главной роли[132]. Бизнес с RKO оказался сплошной чередой неудач. Говард распорядился прекратить съёмки картин «Поле битвы» и «Малайя»[en] и уволить звезду RKO Барбару Бел Геддес. Затем под сокращение попали вице-президент Дори Шери[en] (из-за несогласия с политикой нового руководителя по чистке персонала) и ещё более ста сотрудников компании. Дори Шери перешёл работать к конкурентам (в MGM), забрав с собой несколько незаконченных проектов. «Поле битвы» принесло около 5 млн долларов прибыли в прокате и две премии «Оскар»[129]. Кульминацией отношений RKO и Говарда Хьюза стали съёмки помпезной картины «Сын Синбада»[en]. Лента стала наиболее дорогостоящей из всех снятых Хьюзом с бюджетом в 6 млн долларов[133]. Картину планировалось снять в революционной технологии 3D и, как всегда, Хьюз-продюсер делал ставку на малоизвестных актёров. У картины снова были проблемы цензурного характера — картина сильно пострадала при монтаже, что повлекло провал в прокате[134].
В 1955 году Хьюз продал компанию и даже оказался в прибыли, однако в дальнейшем дела кинокомпании шли всё хуже и хуже. Последствия несовершенного управления сказывались и много позже. Картину «Лётчик» с Джоном Уэйном в главной роли начали снимать в 1949 году. Говард хотел напоследок спродюсировать ещё одну картину на авиационную тему и вспомнить «Ангелов ада». Однако на экраны она вышла только в 1957 году из-за бесконечных переделок и затянувшегося монтажа. Картину, в которой присутствовали явные антикоммунистические настроения, критика встретила более чем прохладно[134].
TWA и Hughes Aircraft после войны
После событий 1947 года интерес Хьюза к авиационной индустрии несколько угас[127]. Между тем первый послевоенный период стал переломным в истории Hughes Aircraft. Важнейшее влияние оказала Корейская война. Успехом для компании стала электронная система управления огнём E-1 на первом реактивном перехватчике Lockheed F-94 Starfire, хорошо показавшая себя в воздушных схватках[135]. Ещё в 1944 году Hughes Aircraft получили контракт на поставку первой управляемой ракеты JB-3 Tiamat класса «воздух-воздух». В серийное производство она не пошла. В 1949 году начались разработки ракеты AIM-4 Falcon, которая была первой поставлена на вооружение армии и использовалась во Вьетнамской войне. В 1949 году руководитель компании осуществил прорыв на рождающийся рынок вертолётостроения. За 250 тыс. долларов у небольшой компании Kellett[en] была выкуплена перспективная разработка винтокрылого летательного аппарата под кодовым названием XH-17[en], ставшая впоследствии прототипом летающего крана для ВВС США. Вместе с разработкой из Kellett переманили целую группу инженеров. В дальнейшем подразделение выросло в самостоятельную бизнес-единицу Hughes Helicopters[45]. Рыночная стоимость компании взлетела с 2 млн в 1947 до 200 млн долларов в 1952 году. Журнал Fortune назвал её «настоящим монополистом продвинутых электронных технологий для ВВС» («a virtual monopoly of the Air Force’s advanced electronic requirements»)[136].
 К 1953 году число сотрудников корпорации Hughes Aircraft достигло 17 тысяч человек. Ведущие учёные компании Саймон Рамо[en] и Дин Вулдридж[en] вывели её в лидеры на рынке электроники и систем управления. С началом холодной войны и ростом числа заказов компании требовалось расширение производственных площадей, грамотное управление и финансовые вливания. Хьюз тогда опять увлекся кинематографом и передал бразды управления Дитриху. Рамо и Вулдридж покинули компанию в конце 1953 года, обозначив начало кадрового кризиса. Министру ВВС США Гарольду Талботту[en] пришлось вмешаться в ситуацию с ключевым поставщиком ВВС США. Министр вылетел в город Калвер-Сити, прихватив с собой несколько отчётов ФБР, где Хьюза называли не иначе как «сумасбродным параноиком». В офисе Hughes Aircraft министр затребовал к себе на аудиенцию руководителя компании. Говард, который к тому времени предпочитал управлять, не покидая своих покоев в Beverly Hills Hotel, под угрозой разрыва ключевых контрактов был вынужден явиться встречу и уговорить министра повременить с санкциями[137].
К 1953 году число сотрудников корпорации Hughes Aircraft достигло 17 тысяч человек. Ведущие учёные компании Саймон Рамо[en] и Дин Вулдридж[en] вывели её в лидеры на рынке электроники и систем управления. С началом холодной войны и ростом числа заказов компании требовалось расширение производственных площадей, грамотное управление и финансовые вливания. Хьюз тогда опять увлекся кинематографом и передал бразды управления Дитриху. Рамо и Вулдридж покинули компанию в конце 1953 года, обозначив начало кадрового кризиса. Министру ВВС США Гарольду Талботту[en] пришлось вмешаться в ситуацию с ключевым поставщиком ВВС США. Министр вылетел в город Калвер-Сити, прихватив с собой несколько отчётов ФБР, где Хьюза называли не иначе как «сумасбродным параноиком». В офисе Hughes Aircraft министр затребовал к себе на аудиенцию руководителя компании. Говард, который к тому времени предпочитал управлять, не покидая своих покоев в Beverly Hills Hotel, под угрозой разрыва ключевых контрактов был вынужден явиться встречу и уговорить министра повременить с санкциями[137].
Впоследствии у Хьюза даже были планы по продаже компании Lockheed, но он передумал. В 1953 году был открыт Медицинский институт Говарда Хьюза (HHMI). Основной причиной создания института явилась оптимизация налоговых издержек, что всегда не давало покоя предпринимателю. Во главе института встал доктор Верн Мейсон[en], тот самый, что поставил на ноги Хьюза после катастрофы с XF-11[45]. Hughes Aircraft формально стала подразделением медицинского института. В 1954 году Hughes Aircraft возглавил опытный руководитель Лоуренс Хайланд[en]. С его приходом организационные проблемы, наконец, закончились, и рост компании продолжился[127].
Тем временем на рынке гражданской авиации близились перемены. На подходе был Douglas DC-7 и в Lockheed спешно готовили обновленный Constellation L-749, способный к беспересадочному полёту через Атлантику. К 1950 году TWA оправилась после череды неудач и снова вошла в число ведущих авиакомпаний США. TWA предложила клиентам новшество: смешанный пассажирский салон с местами первого класса и экономкласса. Позже эта система организации салона стала повсеместно принятой в гражданской авиации. Однако новинки имели относительный успех — дни самолётов с поршневыми двигателями были сочтены[138]. Наступала эпоха лайнеров с турбореактивным двигателем (ТРД), обозначившая время упадка для TWA. Целый ряд непродуманных деловых решений со стороны Говарда Хьюза поставил под сомнение лидирующие позиции компании на рынке. Он понимал, что за ТРД будущее, но действовал не совсем адекватно. Когда в Pan American делали ставку на Boeing 707 и DC-8, Хьюз попытался найти более экономичное решение — такое лавирование на рынке было на грани финансовых возможностей TWA[139][140].
Хьюз пытался вести переговоры с небольшой компанией Avro Canada, якобы имевшей собственные перспективные решения на рынке лайнеров с ТРД. Так же была попытка договориться с Convair, но компания не решилась вступить в схватку с гигантами: Boeing и McDonnel Douglas. Драгоценное время уходило[140]. Блокноты Говарда Хьюза того времени заполнены бессмысленными инженерными расчётами — попытками набросать проект собственного самолёта. Настроение его было близким к паническому: «Кто-то хочет украсть мою авиакомпанию»: заявлял Говард Ною Дитриху[139].
К январю 1957 года компания с опозданием заказала 707-е и будущий Convair 880 — всего 63 лайнера (по другим сведениям свыше 100)[139]. Как вспоминал Дитрих, это был импульсивный поступок — без расчётов и консультаций. Дитрих был крайне разочарован происходящим, считая, что душевное здоровье шефа не в порядке и мешает ведению дел. Прочитав записку, Дитрих поехал в Беверли-Хиллз за уточнениями:
— (Дитрих) Где вы собираетесь взять 487 миллионов долларов?
— (Хьюз): Это неправда. Я ничего такого на 487 миллионов не заказывал[139].
Заказ, тем не менее, был размещён. В 1957 году Дитрих был уволен из компании с выходным пособием $500 тыс. Формальным поводом стал отказ Дитриха переехать из Калифорнии в Техас, в новый офис компании. После увольнения они больше никогда не общались[141].
Затем возникли проблемы финансового характера. У основного источника доходов в империи магната — Hughes Tool дела шли не особенно хорошо, в 1959 году имела место кратковременная рецессия американской экономики, и TWA не смогла перевести очередной транш за заказанные самолёты. Собственно речь шла всего лишь о платеже в 25 млн долларов — не так много по масштабам индустрии и при иных обстоятельствах срок возврата долга могли бы продлить. Однако всё дело было в том, что Хьюз, договариваясь о поставке самолётов, установил чрезвычайно строгие условия контракта, обычно не применявшиеся в подобного рода сделках. Условия, наложенные инвестиционной компанией Dillon, Read & Co.[en], имели симметричную обратную силу для заказчика — даже несвоевременная оплата одного транша повлекла за собой негативные последствия для недобросовестного плательщика. История с отстранением Хьюза от управления компании стала важным прецедентом. 29 декабря 1960 года регулирующие органы отстранили Хьюза от управления TWA и лишили права распоряжаться своим пакетом акций (так называемая процедура voting trust)[142][140].
Хьюз долго судился, и всё равно в 1966 году был вынужден продать свою долю акций TWA. Крупный пакет был приобретен Конрадом Хилтоном[143]. За свою долю акций Говард Хьюз получил самый большой чек в истории, выписанный одному человеку — на сумму 546 млн долларов. При этом предприниматель был должен уплатить авиакомпании 137 млн долларов из собственных средств за издержки. Одной из причин огромного штрафа стали также упорные неявки ответчика на заседания, которые суд квалифицировал как «вопиющее издевательство»[144]. В 1962 году TWA получила заказанные самолёты, и акции снова поднялись в цене, только для Говарда Хьюза это уже не имело значения. Компания больше ему не принадлежала[145].
Затворничество
Второй брак (1955—1966)
 Примерно с середины 1950-х годов Говард Хьюз полностью поменял образ жизни. Он всё больше и больше времени проводил в уединении и пропал из поля зрения СМИ[146]. В 1956 году, сообщив своим помощникам, что собирается работать над новым фильмом, Говард заперся в просмотровом кинозале недалеко от своего дома. Там он провёл около 4 месяцев и по свидетельствам близких почти всё время проводил за просмотром фильмов, сидя в кресле[147]. В 1957 году Говард Хьюз и Джин Питерс поженились. Свадебная церемония прошла без огласки в маленьком городке Тонопа[en], в Неваде. Молодожёны вернулись в Голливуд в отель Beverly Hills[148], после чего Джин исчезла со съёмочных площадок Америки и перестала появляться в свете. Единственным свидетельством их свадьбы стали немногочисленные открытки, подписанные супругами, которые получали друзья Джин[149]. С 1958 года затворника никто не фотографировал и лично никто не брал у него интервью[150].
Примерно с середины 1950-х годов Говард Хьюз полностью поменял образ жизни. Он всё больше и больше времени проводил в уединении и пропал из поля зрения СМИ[146]. В 1956 году, сообщив своим помощникам, что собирается работать над новым фильмом, Говард заперся в просмотровом кинозале недалеко от своего дома. Там он провёл около 4 месяцев и по свидетельствам близких почти всё время проводил за просмотром фильмов, сидя в кресле[147]. В 1957 году Говард Хьюз и Джин Питерс поженились. Свадебная церемония прошла без огласки в маленьком городке Тонопа[en], в Неваде. Молодожёны вернулись в Голливуд в отель Beverly Hills[148], после чего Джин исчезла со съёмочных площадок Америки и перестала появляться в свете. Единственным свидетельством их свадьбы стали немногочисленные открытки, подписанные супругами, которые получали друзья Джин[149]. С 1958 года затворника никто не фотографировал и лично никто не брал у него интервью[150].
После Beverly Hills Хьюз путешествовал, проживая в отелях или съёмных домах. По неподтвержденным сведениям он появлялся в Акапулько и на Бермудах. В 1961 году снял дом в районе Bel Air (en) в Калифорнии. Везде магнат был под присмотром первоклассной охраны, у которой были чёткие инструкции не беспокоить клиента и общаться с ним устно только в случае крайней необходимости. Своих приближённых Хьюз нанимал в основном из среды мормонов. Как считал Хьюз: мормоны, благодаря строгим религиозным правилам, были «чистыми» людьми[151]. Последние годы из числа мормонов он нанимал и высших руководителей своего холдинга[152]. Им был, в частности, председатель совета директоров Hughes Aircraft Фрэнк Уильям Гей (en) — теневая фигура, в среде высшего менеджмента. Именно его и личного адвоката Честера Дэвиса, упоминали в числе тех, кто негласно управлял империей Хьюза, в то время, когда миллиардер стал совсем недееспособным[153].
Чудачества Говарда всё усиливались. Он требовал приготовления еды в строгом соответствии определённым условиям. Например, мясо и овощи необходимо было нарезать на кусочки в точности по полдюйма. Специальной вилкой он проверял размер. Хьюз не чистил зубы, не мылся и не стриг волосы месяцами. Общение с внешним миром происходило только при помощи записок и изредка телефонных звонков. Сложно даже сказать, кто его видел воочию. Среди сотрудников бытовала легенда, что их шеф посещает офис ночью. Даже ближайший помощник Роберт Мае[en] ни разу не видел своего шефа за все 17 лет, что работал на него[9]. Верная секретарша Надин Хенли, работавшая на Хьюза с 1940 года, не видела своего шефа и общалась с ним по телефону и с помощью записок. Не видел Хьюза и личный адвокат Честер Дэвис. Предприниматель был одержим секретностью и боялся, что его телефоны находятся под прослушиванием, поэтому для ответственного звонка мог поехать на бензоколонку[154].
Говарда постоянно вызывали в суд по делам, связанным с TWA. Он и раньше всячески старался избегать появления в суде, а в последнем периоде жизни миллиардер стал попросту игнорировать вызовы. Федеральным маршалам, вручающим повестки, обещали награду за обнаружение Хьюза, но найти его не могли.
В 1962 году журналист журнала Life Томас Томпсон гадал — где вообще находится миллиардер и жив ли он[155]?
Период Лас-Вегаса (1966—1970)
Предприниматель уже давно присматривался к возможности перебраться самому и перенести свой бизнес в Неваду — из-за весьма благоприятного финансового климата (налог на доход в штате был самым низким в стране). Ещё с 1940-х он любил наведываться в игорную столицу США и проводить время в казино. Также Хьюз считал, что в пустыне более чисто и благоприятный для здоровья климат[156].
10 июня 1966 года Хьюз, ничего никому не сообщив, с ближайшими помощниками покинул Bel Air. В ноябре 1966 года Хьюз прибыл в спальном вагоне на вокзал Лас-Вегаса, вселился в отель Desert Inn[en], заняв на четыре года пентхауз — последние два этажа. Руководство отеля было не в курсе, насколько долго собирается оставаться в отеле высокий гость — начинался сезон приезда игроков по крупным ставкам хайроллеров[en]. Гостю намекнули, что ему здесь не рады, и Хьюз, после недолгой торговли, купил весь отель за $13 млн. На том дело не остановилось. К апрелю 1968 году он приобрел 6 крупнейших отелей и казино на Стрипе Лас-Вегаса: Sands[en], Castaways[en], Frontier, Landmark[en], Silver Slipper[en][157]. Затем предприниматель приобрёл некоторые другие элементы городской инфраструктуры. К казино добавился телевизионный канал, аэропорт и значительные площади земли в городе и окрестностях[152]. Телевизор в номере Говарда был включен всегда и на максимальную громкость. По новостям и передачам предприниматель в основном и узнавал о том, что происходит в мире[158]. После приобретения телевизионного канала KLAS[en], новый владелец распорядился о круглосуточном вещании — так он мог, не отрываясь, смотреть любимые фильмы[159].
На последнем этаже отеля Desert Inn Хьюз провёл 4 года.
Вскоре Хьюз стал крупнейшим оператором игрового бизнеса в штате. Размах деятельности миллиардера в Неваде был столь велик, что приобретениями заинтересовались антимонопольные органы. Тем не менее, Хьюзу удалось быстро решить все бюрократические вопросы и получить лицензию на игорный бизнес[en]. В то время бизнес, связанный с казино в Неваде, в значительной мере контролировался мафиозными структурами, в частности группировками Мо Далица[en] и Меира Лански[157]. Данное обстоятельство весьма беспокоило власти штата, но идти на конфронтацию с организованной преступной группировкой до поры до времени они не решались. Теперь же эту заботу брал на себя Говард Хьюз[160]. Журнал Time называл основной причиной интереса Хьюза к игорному бизнесу то, что игорный бизнес слабо контролировался со стороны правительства, и выручку магнат мог пустить на лоббирование своих растущих интересов[161]. Во главе бизнеса в Лас-Вегасе Хьюз поставил Роберта Мае, наладившего тесный контакт с губернатором штата Полом Лаксалтом, который заявлял о том, что деньги миллиардера вернули доверие штату[162]. Казино вошли впоследствии в новую головную структуру холдинга — Summa Corporation[en]. К 1970 году Хьюз контролировал до одной трети всей выручки Лас-Вегаса. Узнав о том, что ядерные испытания проводятся в пустыне, в относительной близости от его владений, Хьюз обратился к Линдону Джонсону, с просьбой прекратить испытания, но не получил никакого ответа[157].
Столь успешно начавшийся бизнес в Лас-Вегасе также внезапно закончился. В 1970 году, после прихода к власти в штате губернатора Майка О’Каллахана[en], миллиардер, в обстановке тотальной секретности, внезапно покинул город и выехал за пределы страны[163]. Пресса высказывала самые разные версии по поводу исчезновения Хьюза. От похищения мормонской мафией, до протеста ядерным испытаниям в Неваде[164]. Приехавший через несколько дней в отель Роберт Мае, не мог дознаться у персонала отеля, куда исчез их постоялец. Он терялся в догадках о судьбе своего шефа и был вынужден обратиться в полицию и газеты с сообщением о пропаже Говарда Хьюза. По мнению Нормана Мейлера, Хьюз был тогда уже недееспособен и всё происшедшее суть интриги внутри его команды: борьба между «мафией мормонов» и Робертом Мае за контроль над их шефом[165][150].
Только через несколько недель Джин Питерс узнала, что её супруг отбыл в направлении Багамских островов. С того момента, как Говард покинул поместье Bel Air, он больше не виделся с женой. Джин подозревала, что её мужа удерживает под стражей собственная охрана. Из Лас-Вегаса она получила записку от Говарда:
Моя драгоценная,
Я болен, очень сильно болен, хотя уверен, что скоро пойду на поправку. Если мне хоть немного полегчает, ты узнаешь об этом немедленно. Ты моя единственная любовь.
Оригинальный текст (англ.)Dearest,
I'm ill but very, very ill yet confident I'll feel better soon. You will hear from me the minute I feel even a little better. My very most love.
— [165]
Журналисты строили догадки о странных взаимоотношениях супругов, называя Джин игрушкой йо-йо в руках Говарда[166]. В марте 1967 года Джин попыталась увидеться с мужем, но охрана не пропустила её[167]. В 1970 году Джин подала на развод, запросив в качестве алиментов 70 000 долларов в год (с возможностью повышения до 140 000 долларов в зависимости от инфляции). Говард был удивлён столь скромными требованиями. Известно, что он предлагал больше, но Джин отказалась[168]. Колумнист Сидней Сколски (en) утверждал, что Джин вполне могла претендовать на сумму не менее 100 млн долларов[169].
Последние годы. Болезнь
Последние годы миллиардер провёл в непрерывных путешествиях из отеля в отель за пределами США, сохраняя полную секретность. Биографы упоминают о его пребывании на Багамах, в Ванкувере, Лондоне, Манагуа и, наконец, Акапулько.
Ещё в 1968 году в одной из последних своих сделок магнат приобрёл за 90 млн долларов авиакомпанию Hughes Airwest. В 1974 фискальные органы обнаружили нарушения в сделке: махинации с ценными бумагами, и сумма иска составила 48 млн долларов. Однако Хьюз был за пределами США на Багамах, и власти страны его не выдали[170].
Здоровье миллиардера, которого приближенные давно уже называли за глаза «стариком» (old man), было крайне расшатано после 14 серьёзных автомобильных, авиационных аварий и перенесённого в 1941 году сифилиса[171]. Хьюз увлекался сильнодействующими препаратами и наркотиками, в частности кокаином, кодеином и секоналом[en], принимая их в дозах близких к летальным. Собственно наркотики и стали одной из причин, по которой Хьюз покинул пределы США. На Багамах с доставкой опасных препаратов у него было минимум проблем[172][173]. Известный журналист Джек Андерсон[en] утверждая, что видел Хьюза в начале 1970-х годов, так описывал его облик:
Больной, немощный инвалид со спутанной бородой и чудовищно длинными ногтями… но с проблесками былой гениальности.
Оригинальный текст (англ.)a basket case, physically helpless...an emaciated invalid with a straggly beard and grotesquely long fingernails and toenails.. .but with flashes of his old brilliance.
— [174]
Затворничество и болезненное отношение к чистоте стало навязчивой идеей. Считается, что Говард унаследовал ипохондрию и мизофобию от матери[175]. То, что сначала считалось чудачеством, постепенно стало тяжёлым психическим расстройством. Хьюз не показывался врачам по этому поводу, однако, американский психиатр доктор Джеффри Шварц полагал во второй половине жизни Хьюза наличие всех признаков прогрессирующего обсессивно-компульсивного расстройства[176]. C детства Хьюз плохо слышал, что было последствием отосклероза[177]. Несмотря на скандальную репутацию плейбоя, считается, что Хьюз имел сниженное сексуальное влечение[177]. Вероятно, у него была дисфункция эякуляции, из-за чего он предпочитал оральный секс со своими партнёршами[178].
Питался Хьюз нерегулярно и беспорядочно. Неделями мог жить на одном молоке и на любимых шоколадках Hershey. Хьюз редко покидал спальню, главным образом, чтобы посетить туалет. Порой он мог часами стоять перед дверной ручкой, не решаясь её тронуть. Представления о гигиене были своеобразными. Каждый предмет, который подавали Говарду, оборачивали в несколько слоёв салфеток Kleenex[en]. Очищая руки — растирал их до крови[99]. Вместе с тем он месяцами не менял бельё, хотя требовал от прислуги тщательно мыться и менять одежду несколько раз в день. Говард Хьюз месяцами не стриг волосы и ногти. Также у него была привычка справлять малую нужду в бутылки из-под молока и складывать их штабелями в жилых комнатах номеров отеля[179].
Каждый день миллиардера проходил в соответствии со строгим расписанием и в множестве гласных и негласных ритуалов[176][180]. Слуги затворника тщательно вели подробные журналы всех однообразных событий, происходивших с их хозяином. Объём этих журналов превысил 100 тыс. страниц[172]. Время Хьюз проводил за просмотром телевизора и кинофильмов. В тщательно зашторенном пентхаузе он установил кинопроектор и просматривал без конца любимые фильмы[172].
Чудачества одного из богатейших людей мира интересовали всех. Находились желающие погреть на сенсации руки, в частности опубликовать (авторизованную) биографию знаменитого затворника. Хьюз и его люди решительно пресекали подобные попытки. Одним из самых известных стало дело Клиффорда Ирвинга. В конце 1971 года журнал Life распространил информацию о том, что писатель подготовил к изданию автобиографию Говарда Хьюза. Книга объёмом в 230 тыс. слов должна была выйти в издательстве McGraw-Hill. В статье писатель рассказывал о том, что якобы встречался с магнатом в Мексике, работал с ним над текстом книги[181]. На первой странице февральского номера Life был опубликован портрет Говарда Хьюза, нарисованный со слов Ирвинга. 7 января 1972 года затворник прервал своё более чем 15-летнее молчание и организовал телефонную пресс-конференцию в отеле Sheraton в Голливуде. Он сообщил журналистам, что он не встречался с Ирвингом и книга — мистификация, с целью заработать на его имени. На вопрос о местонахождении миллиардер уточнил, что находится в городе Нассау. Вслед за этим Хьюз подал в суд на медиахолдинг Life Time[en] и Ирвинга и выиграл дело. Как выяснилось, лжебиограф даже подделал письма от Хьюза и подпись Хьюза. Ирвинг провёл 17 месяцев в тюрьме по обвинению в мошенничестве и был вынужден вернуть 765 тыс. долларов аванса за книгу[182][183]. История впоследствии была экранизирована в фильме «Мистификация».
В 1973 году, как достоверно известно, Хьюз последний раз покинул кровать и гостиничный номер. В мае — июне по приглашению старого знакомого Говарда, в прошлом лётчика-испытателя Джека Риала[en], Хьюз посетил Англию и совершил четыре полёта на самолётах. Говард сам сидел за штурвалом De Havilland 125. В августе, выбираясь из кровати, Говард сломал ногу и больше уже не вставал[184]. Больному предлагали провести оперативное вмешательство с эндопротезированием кости, но Хьюз отказался. Постепенно Хьюз терял интерес к жизни, перестал смотреть свои любимые фильмы и обычно лежал в неподвижности и молчании[164].
Смерть и наследство
 Февраль 1976 года Говард Хьюз встретил в Акапулько, в отеле Princess. Присматривал за ним мормон Чак Уолдрон, один из немногих приближенных. В отдельные дни Говард принимал до 481 мг кодеина в день (при максимально разрешённой дозе до 240 мг). Состояние его оценивалось как близкое к коматозному[180]. В начале апреля положение резко ухудшилось: больной перестал принимать жидкость и пищу, почти не просыпался. 3 апреля его не смогли разбудить и зрачки не реагировали на свет. Как вспоминал один из личных врачей магната, примерно за день до смерти Хьюз очнулся и попытался сделать себе внутривенную инъекцию. Его последние слова были «пожалуйста, помоги мне» (please help me)[185]. Прибывшие местные врачи провели осмотр и сделали анализы. Обычно Говард никому не позволял трогать себя, не то что брать кровь, но сейчас он был в бессознательном состоянии. Доктор Монтемайор был удивлён тем, что полуживой затворник до сих пор не госпитализирован, и распорядился немедленно транспортировать его для оказания более квалифицированной помощи в Мехико или в США. Предположительный диагноз: диабетическая кома[186]. В окружении умирающего было четыре доктора и несколько медсестёр, но приближенные Хьюза, которым запрещалось с ним разговаривать, пока он сам не обратится, пребывали в замешательстве. О перелёте в США позаботился Джек Риал[164][185].
Февраль 1976 года Говард Хьюз встретил в Акапулько, в отеле Princess. Присматривал за ним мормон Чак Уолдрон, один из немногих приближенных. В отдельные дни Говард принимал до 481 мг кодеина в день (при максимально разрешённой дозе до 240 мг). Состояние его оценивалось как близкое к коматозному[180]. В начале апреля положение резко ухудшилось: больной перестал принимать жидкость и пищу, почти не просыпался. 3 апреля его не смогли разбудить и зрачки не реагировали на свет. Как вспоминал один из личных врачей магната, примерно за день до смерти Хьюз очнулся и попытался сделать себе внутривенную инъекцию. Его последние слова были «пожалуйста, помоги мне» (please help me)[185]. Прибывшие местные врачи провели осмотр и сделали анализы. Обычно Говард никому не позволял трогать себя, не то что брать кровь, но сейчас он был в бессознательном состоянии. Доктор Монтемайор был удивлён тем, что полуживой затворник до сих пор не госпитализирован, и распорядился немедленно транспортировать его для оказания более квалифицированной помощи в Мехико или в США. Предположительный диагноз: диабетическая кома[186]. В окружении умирающего было четыре доктора и несколько медсестёр, но приближенные Хьюза, которым запрещалось с ним разговаривать, пока он сам не обратится, пребывали в замешательстве. О перелёте в США позаботился Джек Риал[164][185].
Скончался Говард Хьюз 5 апреля 1976 года, на борту самолета, который вёз его из Акапулько в родной город, в Методистский госпиталь Хьюстона[en]. Самолёт встречали представители ФБР. С умершего пришлось снять отпечатки пальцев, так как никто не мог его уверенно опознать. В момент смерти Хьюз находился в крайнем истощении и обезвоживании. При росте 6 футов 2 дюйма (188 см) он весил около 93 фунтов (38 кг)[171][187]. Вскрытие показало, что причиной смерти стал отказ функции почек[171]. Также были обнаружены следы вторичного сифилиса[82]. Осмотр и рентгенограмма показали многочисленные следы внутривенных инъекций и обломки игл, оставшихся под кожей[188].
Существовала также версия насильственной смерти. Слуги-мормоны контролировали все информационные потоки и специально давали высокие дозы наркотических препаратов, что повлекло за собой постепенный отказ жизненно важных органов и смерть. Уолтер Кейн, руководитель отделения Summa Corporation, управлявший направлением азартных игр и казино, озвучил именно такую версию[189].
«Почему никто во время похоронной службы не вспомнил, что этот человек был гением? Гениям становится скучно, когда проблема решена. Гиганты ищут новые вершины для преодоления… Мой Говард Хьюз принимал свои взлёты и падения без лишних слов, как одинокий Гэри Купер, на залитой солнцем улице ровно в полдень. Герои не треплют языком в кухонных разговорах, и у них нет терпения на ищеек адвокатов и налоговых инспекторов.
Струна Говарда Хьюза оборвалась в полёте. На скорости в пятьсот узлов и высоте в 41 тысячу футов над землёй, в разреженном воздухе, высоко над мирской суетой. Он умер как жил, в лайнере стоимостью в миллионы, в самом экзотическом летательном аппарате, какой только можно купить за деньги. Богач плейбой превратил деньги своего отца в миллиарды, и, крошка, он ничего не упустил. Он жил и летал дальше, выше и быстрее, чем я только могу представить».
Didn't anybody at the funeral mention that the man was a genius? And that geniuses grow bored quickly when the problem is solved? Giants look for new mountains to stride … My Howard Hughes took his crashes and his triumphs in the same tight-lipped silence, just like Gary Cooper alone in that sunwashed street at high noon. Heroes like that ain't supposed to be all babbling and burbling with words and tea and cookies. And no patience with pick-sniff lawyers and tax men.
The string ran out for Howard Hughes in flight. Five hundred knots at 41,000 feet in the clean, hard air high above the daily toilings and muckings of men. He died as he lived, in that million-dollar jet, the most exotic airplane your money can buy. The millionaire playboy turned his ol'Dad's seed money into billions, and baby, he never missed nothing. He lived and flew farther, higher, faster than you or I will ever dream.
Говард Хьюз был похоронен на кладбище Гленвуд, рядом с могилами отца и матери[190]. После смерти были проведены самые тщательные поиски завещания миллиардера, но его так и не смогли найти. Личный сейф хозяина империи в офисе на Romain street 7000 оказался пуст. По утверждению Джека Риала — завещание существовало. Хьюз, упоминая последнюю волю и родственников, говорил, что они не получат: «ни одного ломаного гроша» (one goddamn fucking dime)[185][191]. Известно было только, что Хьюз высказывал пожелание оставить большую часть состояния Медицинскому институту. В 1978 году нашли некий трёхстраничный рукописный документ с последней волей усопшего. В нём Говард Хьюз оставил 1/16 состояния человеку, личность которого не сразу установили — некоему Мелвину Даммару, работнику бензоколонки в Юте. История породила одну из самых известных городских легенд, связанных с жизнью магната[192]. Впрочем, позже выяснилось, что данное завещание фальшивка[193]. Хьюз при жизни не особенно жаловал своих родственников, но из-за отсутствия документально подтверждённой последней воли, наследство пришлось делить среди оставшейся родни[194]. Вокруг состояния миллиардера началась тяжба между наследниками и кредиторами. Сын Аннет Гано, Уильям Люммис, остался ближайшим родственником Говарда Хьюза. Заниматься вопросами наследства пришлось именно ему[195]. Уильям обнаружил, что дела Говарда остались в полном беспорядке. Сложность была ещё в том, что Говард Хьюз при жизни, как только мог, избегал уплаты налогов, и фискальные органы штата вменили ему неуплату на сумму около $300 млн[196]. Банки сообщали о неуплате по кредитам на сумму более 60 млн долларов[197]. В 1981 году в Хьюстоне прошли судебные слушания по разделу имущества. Одна женщина безуспешно пыталась доказать то, что является дочерью Говарда Хьюза, ссылаясь на их внешнее сходство. Ещё три женщины: Альма Хьюз, Эллис Хьюз и Терри Мур утверждали, что состояли в браке с покойным миллиардером. Ни по одному из заявлений судья полностью не признал притязания на наследство правомерными, хотя Терри Мур удалось отсудить долю в 350 тыс. долларов от наследства[198]. После этого Терри стала называть себя Терри Мур Хьюз и в 1984 году опубликовала получившую известность автобиографию «The Beauty and the Billionaire» («Красавица и Миллиардер») [199][200]. Разбирательства по наследству продолжались много лет и выплаты по нему затронули около 1000 человек[197].
Личность
Личная жизнь
Семейная жизнь Говарда Хьюза не сложилась. В первом браке Эллу Райс и Говарда не связывали никакие интересы. После переезда в Голливуд Говард сразу закрыл ту часть дома в районе Hancock Park, где была его мастерская, и не пускал туда жену. С родственниками жены он не общался и не выходил с ней в свет. В 1929 году они развелись. Во втором браке с Джин Питерс супруги также не находили взаимопонимания. В обоих браках Говард даже не пытался сохранять верность и вести семейную жизнь в обычном понимании этого слова[201].
Многочисленные случайные связи стали притчей. Особую слабость Говард испытывал к брюнеткам с большим бюстом[202]. Одним из первых был роман с Билли Дав. Хьюз даже заплатил в 1930 году 345 тыс. долларов отступных за неофициальный развод с её супругом и неразглашение в прессе подробностей. «Ангелы ада» открыли Джин Харлоу, ставшей следующей пассией плейбоя. Среди его любовниц упоминались первые красавицы серебряного экрана: Ава Гарднер, Джинджер Роджерс, Рита Хейворт, Лана Тёрнер, Бетт Дейвис, Айда Лупино, Сид Чарисс и другие кинозвёзды[203][204]. Хьюз увлекался девушками-подростками: 15-летними Фейт Домерг и Ивонн Шуберт[205]. Среди любовниц было и много безымянных старлеток, которые приходили на пробы в картины[206].
Говард Хьюз был хорошо сложен, высок; у него были тёмные волосы и карие глаза. В молодости прекрасно играл в гольф[149]. Миллиардер жил на широкую ногу и мог очаровать женщину своими практически неограниченными возможностями. Ава Гарднер вспоминала о том, как Хьюз мог отвезти её на уикенд в Палм-Спрингс или на барбекю в Акапулько по одному желанию. К услугам магната был парк автомобилей, самолётов и яхта. В 1936 году Хьюз приобрёл яхту, названную Rover. Её длина составляла 320 футов (98 м), а экипаж — 32 человека[207]. Позднее она была переименована в Southern Cross («Южный крест») и стала одной из крупнейших и самых роскошных яхт своего времени[208].
Женщины находили Хьюза привлекательным, хотя и с некоторыми оговорками[209]. Несмотря на то, что магнат уделял массу времени персональной гигиене, его любовницы жаловались, что он не особенно чистоплотен[156]. Партнёрши вовсе не оценивали его сексуальную энергию как чрезмерную и даже наоборот. Бренда Фрейзер[en] называла его «гомиком»[210]. Несмотря на славу плейбоя, женщины утверждали, что он был замкнутым и застенчивым человеком. Ещё с детства и юности Говард стеснялся своей глухоты и из-за своего недостатка разговаривал громко, с характерным техасским выговором, слегка растягивая слова[208][211]. Как правило, Говард не являлся инициатором первого свидания с девушкой, которая ему нравилась[212]. Хьюз практиковал и знакомства через своих помощников, которые, порой, открыто предлагали деньги или продвижение в киноиндустрии за любовную связь с магнатом. Таким своеобразным «агентом» Хьюза был продолжительное время Грег Баутцер[en].
Обычной манерой для Хьюза было уже на первом или втором свидании предложить женщине руку и сердце. Нередко он дарил своим дамам сердца обручальные кольца[206]. В 1940 году Хьюз поддерживал одновременно три романа со звёздами: с Фейт Домерг, Глорией Вандербилт и Джинджер Роджерс. Всем им он дарил дорогостоящие подарки и, в том числе, юной Фейт он преподнёс кольцо с бриллиантом в 6 карат от Cartier. Он распорядился провести три телефонных линии в свой дом, с тем, чтобы обман не раскрылся. Секретарша Надин Хенли вела график свиданий в течение нескольких месяцев так, чтобы они не пересекались[213]. К постоянным разрывам приводил эксцентричный характер и стремление к контролю на грани мании. Говард считал необходимым некоторым из своих женщин устраивать полный медицинский осмотр, прежде чем вступал с ними в связь[156]. Он устанавливал прослушивающие устройства и нанимал частных сыщиков, следивших за его любовницами[214]. Роман с Фейт Домерг стал тому подтверждением. 15-летняя девушка жила в роскошном доме Говарда, как в маленьком обособленном мире. Личный лимузин возил её на частные уроки и примерки. Всё продолжалось до тех пор, пока Фейт не обнаружила случайно оставшийся незапертым ящик для писем и открыла для себя, сколько до неё и во время их романа было женщин у её покровителя[215]. Многим своим женщинам Говард обещал содействие в их кинематографической карьере и для многих обещание выполнял. Фейт Домерг, впрочем, пришлось ждать дебюта и первой главной роли долго. Картину «Где живёт опасность», по обыкновению, начали снимать в 1945 году, а на экраны она вышла только спустя пять лет[216].
Деловые отношения и дальше постоянно мешались с личными. В 1951 году Говард выкупил контракт Джин Симмонс. Актриса вспоминала о том, как Хьюз открыто домогался и преследовал её, хотя Джин была замужем. «Хьюз купил меня», — говорила Джин. Она обнаружила в своём контракте с RKO обязанность сняться в четырёх фильмах. Взбешенная актриса, узнав о том, что у героини должны быть длинные волосы, обрезала себе их ножницами прямо на глазах у Хьюза. В итоге ей всё равно пришлось исполнить главную роль в картине «Ангельское лицо» в парике, но съёмки провели всего за 18 дней, точно как того требовал контракт. Хьюз пообещал «похоронить карьеру» своенравной Джин, и стороны впоследствии договорились только через суд[202][217].
Памятным для Говарда стал роман с Авой Гарднер. Они познакомились в 1943 году, когда шли съёмки фильма «Вне закона», и Ава только пережила развод. Они стали встречаться, но красавица всегда держала Хьюза на расстоянии, давая понять, что их отношения не более чем развлечение. Когда Ава Гарднер узнала о том, что её дом начинён прослушивающими устройствами, то закатила своему любовнику скандал. Она бросила ему в голову бронзовую статуэтку, разбив лицо до крови и выбив зуб. Ава собралась добить упавшего на пол Говарда креслом, и только вмешательство служанки остановило женщину. Потерявшего сознание Хьюза пришлось госпитализировать[218]. Отношения с Авой Хьюз разорвал так же, как со многими другими — исчез без предупреждений, прощальных писем и звонков[219].
Наиболее известным и продолжительным во времени стал роман Хьюза с Кэтрин Хепбёрн. Считается, что она была его единственной настоящей любовью[220]. Они познакомились на съёмочной площадке картины «Сильвия Скарлетт»[en]. Это произошло сразу после того, как в 1935 году Говард установил рекорд скорости[221]. Хьюз катал её на самолёте, принадлежавшем компании, и разрешал самой садиться за штурвал[222]. Говард предлагал замужество, но Кэтрин отказалась. В 1937 году Говард предложил Кэтрин переехать в его дом, и они прожили вместе около года. Хьюз всеми способами пытался доказать своё внимание и преданность. В 1937 году картина «Воспитание крошки» с Хепбёрн в главной роли оказалась под угрозой закрытия; Хьюз выкупил картину у кинокомпании RKO и сам выпустил её в прокат. После очередного романа на стороне Хьюз и Кэтрин разошлись, сохранив тёплые отношения[223].
Данные о гомосексуальных связях Говарда Хьюза противоречивы. Писатель Дарвин Портер[en], в книге «Howard Hughes, Hell’s Angel», сообщает о многочисленных подобных связях, в частности с Билли Хейнсом и Кэри Грантом[224]. В книге «Howard Hughes: The Untold Story» сообщается о том, что слухи о нетрадиционной ориентации Хьюза сильно преувеличены. Отчёты ФБР также не выявили подобных наклонностей во время слежки[225].
У Хьюза не было детей. В 1948 году роман с Ритой Хейворт закончился беременностью актрисы. Говард не знал об этом. Рита отправилась в Европу, легла в частную клинику и, без огласки, сделала аборт. После они никогда не встречались[226].
Политическая деятельность и убеждения
Предприниматель всегда активно интересовался политикой и хотел в неё вмешиваться[124]. По убеждениям Говард Хьюз был правым и откровенным антикоммунистом[194]. В своё время Хьюз уволил из RKO Пола Джаррико[en] за отказ от сотрудничества с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности. Он также использовал своё влияние на Национальный легион приличия, дабы не допустить до американского проката фильм «Огни рампы» опального Чаплина[134]. Хьюз с предубеждением относился к чернокожим, ему также приписывали некоторые расистские высказывания[194][5].
Магнат был в достаточной мере расчётлив и циничен. Он говорил: «Каждый человек имеет свою цену, иначе люди вроде меня не смогли бы существовать»[227]. Хьюз не гнушался давать взятки должностным лицам, политикам, с целью лоббирования своих интересов в бизнесе и не особенно это скрывал[14]. В 1968 году вице-президент США Хьюберт Хамфри получил от представителя Хьюза Роберта Мае сумму в 100 тыс. долларов[228]. В период проживания в Лас-Вегасе Хьюз через помощников неоднократно передавал крупные суммы местным чиновникам[229]. В 1960—1970 годах имя магната оказалось замешано в политическом скандале. В 1956 году брат будущего президента США Дональд Никсон[en] получил от предпринимателя взаймы 205 тыс. долларов. В 1960-м году об этой истории вспомнили противники Ричарда Никсона в ходе его первой президентской кампании. «Заём» от Хьюза стоил президентских выборов. Никсон проиграл тогда Джону Кеннеди[230]. Считается, что Ричард Никсон получил от Хьюза около 100 тыс. долларов наличными через своего помощника Ричарда Рибозо (насколько известно, лично они никогда не встречались)[231][232]. Материалы об этом деле исчезли из архива документов Summa Corporation после налёта на него грабителей в 1974 году, однако остались косвенные свидетельства[233].
История вновь всплыла после Уотергейтского скандала. Тогда в 1972 году нанятые представителями республиканцев взломщики проникли в штаб-квартиру демократов. Считается, что их целью были секретные документы, принадлежавшие Ларри О’Брайену, руководителю избирательного комитета Джона Кеннеди. Документы изобличали теневые взаимоотношения Никсона и Хьюза[9][234]. Один из уотергейтских взломщиков Фрэнк Стёрджис открыто признался в ходе дознания: «мы искали что-нибудь на Хьюза»[231].
Полная секретность, которой окружал себя миллиардер, подпитывала слухи о тесных связях Хьюза с силовыми структурами: ЦРУ и ФБР[235]. О причинах тесной связи высказывались противоречивые мнения, вплоть до того, что Хьюз подчинялся прямым приказам из этих ведомств. Начиная с 1930 годов, ФБР практически постоянно следило за Хьюзом. Предприниматель был одним из крупнейших поставщиков военно-промышленного комплекса, что само себе требовало пристального контроля за ним. Проект «Гломар Эксплорер» — крупнейшее совместное предприятие ЦРУ и Summa Corporation, в рамках которого ЦРУ перевело на счёта корпорации около 350 млн долларов. Другой противоречивый проект, который в последний период жизни вынашивал Хьюз — покушение на Фиделя Кастро. Помощник миллиардера Роберт Мае взял в аренду небольшой остров в Карибском море и начал подготовку группы диверсантов. Известно, что в этом проекте Хьюз тесно сотрудничал с ЦРУ. Впрочем, проект так и не вышел за рамки предварительных планов[167]. Всего, по оценкам, компании, входившие в холдинг магната, выполнили заказов для ЦРУ на сумму свыше $6 млрд[150]. По сообщению журнала Time, до самой смерти миллиардера ни одно из его предприятий ни разу не подвергалось полноценному аудиту, что также было следствием того, что Хьюз находился на особом счету у правительства[236][150].
Характер и деловые качества
О Говарде Хьюзе часто говорили, что он обладает даром превращать в золото всё, к чему прикоснётся. Это довольно противоречивая оценка. Он многократно приумножил богатство, доставшееся ему от отца, однако, если бы Хьюз инвестировал средства только в Hughes Tool, вероятнее всего, заработал бы значительно больше. Хьюз постоянно вовлекался в весьма рискованные предприятия: много выигрывал и много терял[237]. Среди его самых главных качеств биографы упоминают то, что он, прежде всего, прекрасно разбирался в людях. Ной Дитрих отзывался о своём шефе: он мог бы научить самого Макиавелли плести интриги[121]. Дитрих также вспоминал о сверхъестественном даре своего шефа различать друзей и врагов[121]. При этом, следуя совету отца, Говард всю жизнь старался не иметь постоянных бизнес-партнёров и держался сам по себе[185]. Окружающие не считали Хьюза очень организованным человеком, хотя он мог быть весьма дотошным[128]. Природа наделила его качествами, важными для предпринимателя: способностью на решительные шаги без раскачки, прекрасной памятью и высокой работоспособностью. Он мог работать и не спать по 48 часов подряд, что нередко имело место, когда было необходимо включиться в важную работу, особенно во время войны[83][7].
Будучи одним из богатейших людей планеты, Хьюз предпринимал поступки, которые сложно было назвать обдуманными. Несмотря на уговоры руководителей своей компании, он продолжал лично испытывать самолёты. Хьюз мог, не сказав ни слова близким и коллегам, уехать в неизвестном направлении. Развлекаясь с любовницами, миллионер иногда ставил самолёт на автопилот, и уединялся с девушкой в салоне. 11 июля 1936 года он сбил на проезжей части дороги пешехода, который скончался до приезда медицинской помощи. При дальнейшем разбирательстве водителя признали невиновным, хотя авария произошла на пешеходном переходе. Хьюзу пришлось выплатить 10 тыс. долларов семье погибшего, дабы уладить ситуацию[207].
Если какая-то идея приходила в голову, и Хьюз считал её важной, то он становился одержим ей[100]. Фейт Домерг вспоминала: «когда он оказывался по-настоящему вовлечён в проект или жизнь человека, то не мог выпустить их из-под контроля. Он не мог владеть чем-то отчасти — только целиком. Эта черта была самоубийственной в его характере». Качество, ставшее со временем тяжёлым психическим расстройством — стремление контролировать жизнь, свою жизнь и окружающих[238]. Это стремление принимало разные формы. Когда в 1948 году в студии RKO узнали о том, что их руководителем станет Говард Хьюз, в компании началась паника. Сотрудники начали подыскивать новое место работы. Всем было хорошо известно, какой он фанатичный перфекционист и как любит вдаваться в самые мелкие детали[239]. Хьюз содержал целый штат сотрудников, занимавшихся слежкой и специальными операциями. Одним из них был Грег Бауцер[en], по официальной версии — поверенный Хьюза. Он, в том числе, занимался вопросами того, чтобы неугодные его шефу материалы не попадали в СМИ. Хьюз не оставлял в покое своих женщин, организовывая слежку и прослушивание[240].
Дотошность и принципиальность оборачивалась чрезмерным вниманием к мелочам. Два крупнейших авиационных проекта, XF-11 и Hercules, в конце концов, были доведены до работающих прототипов, но уже тогда, когда кончилась война, и заказчикам требовались другие самолёты. Говард Хьюз был режиссёром только двух картин: «Ангелы ада» и «Вне закона». В обоих случаях съёмки и монтаж затягивались, выходя далеко за рамки стандартов американского кинопроизводства. Своим человеком в Голливуде он так и не стал[31]. Говард Хоукс говорил как-то Хьюзу: «Говард, я снимаю картины, чтобы заработать на жизнь, а ты — для развлечения»[241]. Хьюз мог удерживать в памяти целиком чертёж всего летательного аппарата, со всеми размерами, но не мог вспомнить имена своих ближайших помощников. Говард не любил распространяться о личной жизни, Дитрих вспоминал, что он никогда не делился с ним о том, что рано потерял родителей[8]. Биографы отмечали то, что ещё с детства он жил в своём воображаемом мире. В конце жизни Говард проводил время, в основном, за просмотром телевизора и кинофильмов. Его любимой картиной была «Полярная станция „Зебра“», которую он пересмотрел более 150 раз[172]. По мнению Поля Вирильо, в бесконечном просмотре одной и той же ленты проявилось своеобразное бегство от реальности в вымышленный мир, которое привело к распаду личности[242].
Оценка и влияние
Судьба империи Хьюза
В 1968 году по оценке журнала Fortune стоимость активов, принадлежавших Хьюзу, оценивалась в 1,4 млрд долларов[240]. По разным оценкам Хьюз считался обладателем первого или второго (после Пола Гетти) состояния в США[243][244]. По оценкам газеты New York Times общая стоимость активов Хьюза могла достигнуть $6 млрд[194]. Перед смертью магната из-за неадекватного управления, бесконтрольных трат и взыскания налоговых недоимок его состояние значительно уменьшилось. Когда в 1981 году Налоговое управление провело аудит перед дележом наследства, размер состояния был оценён в 460 млн долларов[200].
Компания Hughes Tool, с которой началась предпринимательская деятельность магната — стала в XX веке одним из крупнейших поставщиков бурового оборудования в мире. В 1972 году она стала публичной компанией. В 1987 году Hughes Tool и Baker International слились в одну компанию Baker Hughes. В 2013 году общая выручка компании Baker Hughes превысила 22 млрд долларов, а число сотрудников — 60 тыс.[245]
Мечта предпринимателя со временем сбылась — Hughes Aircraft стала на долгие годы одним из главных поставщиков американской армии. По состоянию на 1979 год, Hughes Aircraft поставила Пентагону оборудования и вооружения на сумму 1,6 млрд долларов[143]. Несмотря на то, что самые громкие проекты авиапредприятия Hughes Aircraft (самолёты XF-11 и Hercules) остались в стадии прототипов, серийная продукция империи Говарда Хьюза стала приносить прибыль. Его компания стала известной благодаря внедрению множества революционных технологических идей и решений. В Hughes Research Laboratories[en] (научно исследовательское звено Hughes Aircraft) Гарольдом Лайонсом были осуществлены первые успешные эксперименты с атомными часами и газовым мазером[246]. Также можно упомянуть: выпуск первой в США управляемой ракеты «воздух-воздух», выпуск авионики и систем управления огнём для целого поколения истребителей. С 1961 года Hughes Aircraft стала одним из крупнейших поставщиков NASA. Компания участвовала в подготовке посадочного модуля, участвовала в лунной программе Apollo, разрабатывала первый геостационарный спутник Syncom[en] и затем — Intelsat I[en][247]. Другое важное детище Говарда Хьюза — компания Hughes Helicopters. В 1947 году предприниматель приобрёл небольшую компанию Kellet и со временем преобразовал её в ведущего поставщика военных и гражданских вертолётов. AH-64 Apache, произведённый фирмой Hughes Helicopters — по состоянию на начало 2000-х годов основной ударный вертолёт вооружённых сил США. В 1984 году Hughes Helicopters приобрела McDonnel Douglas. В 1985 году Hughes Aircraft была приобретена General Motors за 5,5 млрд долларов[45].
В 1953 году был создан Медицинский институт Говарда Хьюза (HHMI) — благотворительная организация, занимавшаяся нетрадиционными и рискованными исследованиями в различных областях медицины и биохимии. Изначально институт был создан как благовидное прикрытие финансовых махинаций[248]. Hughes Aircraft номинально стала подразделением HHMI, что позволяло уменьшить налоговые издержки. Со временем HHMI, наряду с Институтом Карнеги, стал крупнейшей в стране медицинской филантропической организацией. В 2005 году HHMI контролировал фонды общей суммой до 18 млрд долларов. В год через систему грантов распределялось на цели исследований до 700 млн долларов[249]. C медицинским институтом Хьюза сотрудничали такие известные учёные как Стенли Прузинер[250], Эдвин Кребс[251], Джордж Торн[en] и другие[252].
В начале 1970-х годов была образована Summa Corporation как головная структура конгломерата компаний в империи Говарда Хьюза. Считается, что после 1970-х годов магнат уже слабо контролировал происходящее, и большинство решений принималось руководством Summa Corp. 7 марта 1968 года в северной части Тихого океана затонула советская дизельная подводная лодка К-129 с ядерными ракетами на борту. Обстоятельства гибели лодки по сей день — предмет дискуссий. В 1972 году ЦРУ инициировала секретный проект Азориан (также известный как операция «Дженнифер») по поднятию останков лодки на поверхность с глубины более 4000 м. Сложную операцию поручили Summa Corporation. Специально построенный для этой операции корабль Гломар Эксплорер достиг намеченной точки 4 июля 1974 года. Участникам операции удалось поднять часть носового отсека К-129, хотя значительная часть отломилась при подъёме с глубины. Стоимость операции составила около $550 млн. Операция проводилась под прикрытием исследований возможности добычи полезных ископаемых со дна моря[253].
Образ в искусстве и масскультуре
Эксцентричный и противоречивый характер Говарда Хьюза, легенды связанные с ним, притягивали внимание представителей мира искусства ещё при жизни и после смерти. Биография магната вдохновила на создание многих фильмов. В картине «Удивительный Говард Хьюз»[en] главную роль исполнил Томми Ли Джонс. Другим известным фильмом, в котором нашла отражение часть реальной биографии миллиардера, стал «Мелвин и Говард»[en], снятый в 1980 году. В нём рассказывается о той самой истории с заправщиком на бензоколонке Мелвине Даммаре (en), которому миллиардер якобы оставил солидную долю своего наследства[193]. Роль Хьюза исполнил Джейсон Робардс[254].
Наиболее известный фильм о жизни Хьюза — «Авиатор» Мартина Скорсезе, снятый в 2004 году. Роль Хьюза в нём исполнил Леонардо Ди Каприо. Создатели картины тщательно исследовали и довольно точно передали жизнь миллиардера, хотя считается, что лента несколько приукрасила действительность[255]. Мартин Скорсезе, оценивая «Авиатора», отзывался о том, что в его ленте Хьюз изображён скорее положительным героем. В реальности он вряд ли был тем, с кого можно брать пример[256]. Последние дни Говарда Хьюза были предметом для шуток из области чёрного юмора. Так умирающего Хьюза в скетч-шоу Saturday Night Live сыграла Ларейн Ньюман, а его ассистентов-мормонов — Дэн Эйкройд, Билл Мюррей. Уоррен Битти ещё с 1973 года хотел экранизировать жизнь миллиардера и посвятил много времени изучению биографии. Друзья актёра вспоминали о том, как он преклонялся перед образом Хьюза. Ещё в 1970-х годах Бо Голдман написал несколько вариантов сценария[257]. В конце 1980-х годов возможность постановки обсуждалась со Стивеном Спилбергом и руководством Warner Brothers. Спилберг сам предложил Битти совместную работу, однако из-за разногласий до производства дело так и не дошло[258]. В 2014 году Independent сообщила о том, что съёмки картины о последних днях магната, с Уорреном Битти в главной роли, начались[259].
Хьюз стал прообразом для многих вымышленных героев. В серии комиксов 1982 года «Ракетчик»[en] и затем в фильме, Говард Хьюз становится героем вымышленной вселенной в сеттинге Америки 1930-х годов. Он положительный герой — миллионер и тайный изобретатель[260]. Один из ключевых персонажей компьютерной игры Fallout: New Vegas — Роберт Эдвин Хаус (мистер Хаус) — перенял некоторые качества и образ Хьюза. Центральный персонаж шутера Bioshock Эндрю Райан также, по словам геймдизайнера игры Кена Левина, во многом основывался на личности миллиардера.[261] Прототипом для героя комиксов Тони Старка, а также и его отца, во многом стал Говард Хьюз. Страсть к изобретательству, интерес к бизнесу в области поставок вооружения, мизофобия и тяга к женщинам объединяет вымышленного персонажа и историческую личность. Стэн Ли так писал о созданном им персонаже:
Я живо представляю себе Говарда Хьюза, как человека с неограниченным богатством, бизнес интересами по всему миру, того кому завидуют все мужчины, и на кого заглядываются самые гламурные женщины света.
Оригинальный текст (англ.)I could envision a Howard Hughes type with almost unlimited wealth — a man with holdings and interests in every part of the world —envied by other males and sought after by glamorous females from every walk of life
— [262]
Эпизод пресс-конференции Тони Старка в картине «Железный человек» вдохновлён реальными показаниями, данными Говардом Хьюзов перед Сенатом в 1947 году[263][262]. Герой фильма 1971 года из серии о Джеймсе Бонде «Бриллианты навсегда», Уиллард Уайт, таинственный миллиардер, проживающий в затворничестве в одном из отелей Лас-Вегаса. Образ был во многом списан с Говарда Хьюза, который, кстати, лично одобрил сценарий картины[264]. Когда в 1939 году Орсон Уэллс начал работу над сценарием к своему первому фильму, среди прототипов главного героя картины Чарльза Кейна рассматривался и Говард Хьюз. Фильм «Гражданин Кейн» вышел в 1941 году и предсказал всю жизнь Хьюза. Юность открытого всем успешного журналиста и последующая старость, и таинственная смерть Кейна в полном уединении в роскошном отеле — явная аллюзия на историю Говарда Хьюза[265][166].
Жизнь Говарда Хьюза — миниатюрная версия технологической революции западного мира. Его погружение в мир машин — совершенное воплощение западной технократии. Соответственно его эпическое падение в застой, безумие и неподвижность, предвещает грядущий конец технологической цивилизации.
Оригинальный текст (англ.)As Howard Hughes's life was a miniature version of the technological unfolding of Western civilization — for his descent into the machine is a perfect encapsulation of the West's descent into its machines, and thus, his ultimate ruin through stasis, madness, and immobility can also foreshadow the coming end of technological civilization
— Джон Дэвид Эберт[266].
Фильмография
| Год | Русское название | Английское название | Роль |
|---|---|---|---|
| 1926 | Swell Hogan | Продюсер | |
| 1927 | Два арабских рыцаря | Two Arabian Knights | Продюсер, презентёр |
| 1928 | Рэкет | The Racket | |
| Брачный зов | The Mating Call | ||
| 1930 | Ангелы ада | Hells Angels | Режиссёр, продюсер, презентёр |
| 1931 | Первая полоса | The Front Page | Продюсер, презентёр |
| Время любви | The Age for Love | Продюсер | |
| 1932 | Кок с воздуха | Cock of the Air | |
| Sky Devils | Продюсер, презентёр | ||
| Лицо со шрамом | Scarface | Руководящий режиссёр, продюсер, презентёр | |
| 1943 | Вне закона | The Outlaw | Режиссёр, продюсер, презентёр |
| Позади восходящего Солнца | Behind the Rising Sun | Продюсер | |
| 1947 | Грехи господина Дидлбока | The Sin of Harold Diddlebock | |
| 1950 | Незнакомец с татуировкой | The Tattooed Stranger | Исполнительный продюсер |
| Вендетта | Vendetta | Режиссёр досьёмок, исполнительный продюсер | |
| 1951 | Горящий полёт | Flying Leathernecks | Презентёр |
| Женщина его мечты | His Kind of Woman | Сценарист, исполнительный продюсер, презентёр | |
| Кнут в руках | The Whip Hand | Исполнительный продюсер | |
| Рэкет | The Racket | Презентёр | |
| Два билета на Бродвей | Two Tickets to Broadway | Продюсер, презентёр | |
| 1952 | История в Лас Вегасе | The Las Vegas Story | |
| Макао | Macao | Исполнительный продюсер | |
| Минута до нуля | One Minute to Zero | Презентёр | |
| 1953 | Ангельское лицо | Angel Face | |
| Роман с незнакомцем | Affair with a Stranger | ||
| Второй шанс | Second Chance | Продюсер, презентёр | |
| Каньон дьявола | Devil's Canyon | Презентёр | |
| Французская линия | The French Line | Исполнительный продюсер, презентёр | |
| 1954 | Она не могла отказать | She Couldn't Say No | Презентёр |
| 1955 | Под воду! | Underwater! | Исполнительный продюсер, презентёр |
| Сын Синдбада | Son of Sinbad | ||
| 1956 | Завоеватель | The Conqueror | Продюсер, презентёр |
| 1957 | Пилот реактивного самолёта | Jet Pilot |
Напишите отзыв о статье "Хьюз, Говард"
Комментарии
Примечания
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 364.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 6.
- ↑ Porter, Limi, с. 8.
- ↑ Hack, 2007, с. 20.
- ↑ 1 2 Sheridan, 2011, с. 139.
- ↑ Porter, Limi, с. 18.
- ↑ 1 2 Barlett, 1979, с. 623.
- ↑ 1 2 3 Dietrich, 1972, с. 25.
- ↑ 1 2 3 4 Alef, 2009, с. 1.
- ↑ 1 2 Sederberg, 2013, с. 50.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 629.
- ↑ Hurt, 1977, с. 74.
- ↑ 1 2 Brown, 2013, с. 261.
- ↑ 1 2 3 Ingham, 1983, с. 636.
- ↑ 1 2 Botson, 2005, с. 55.
- ↑ Hack, 2007, с. 59.
- ↑ Thomas, 1985, с. 22.
- ↑ Botson, 2005, с. 216.
- ↑ Thompson, 1962, с. 28.
- ↑ Hack, 2007, с. 56.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 23.
- ↑ 1 2 Balio, 1985, с. 112.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 44.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 73.
- ↑ McCarthy, 2000, с. 111.
- ↑ McCarthy, 2000, с. 114.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 69.
- ↑ Porter, Limi, с. 179.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 54.
- ↑ Hack, 2007, с. 82.
- ↑ 1 2 Rice, 2013, с. 51.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 52.
- ↑ Black, 1998, с. 30.
- ↑ Friedrich, 1986, с. 123.
- ↑ Rice, 2013, с. 62.
- ↑ Botson, 2005, с. 215.
- ↑ Barlett, 1979, с. 622.
- ↑ Balio, 1985, с. 111.
- ↑ Balio, 1985, с. 95.
- ↑ 1 2 Thompson, 1962, с. 22.
- ↑ Sederberg, 2013, с. 48.
- ↑ Porter, Limi, с. 302.
- ↑ Hack, 2007, с. 97.
- ↑ Porter, Limi, с. 293.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Porter, 2014, с. 1.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 92.
- ↑ 1 2 Higham, 2013, с. 69.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 98.
- ↑ 1 2 3 Higham, 2013, с. 82.
- ↑ Porter, Limi, с. 306.
- ↑ Erik Simonsen. [www.boeing.com/news/frontiers/archive/2005/february/i_history.html Howard Hughes, aviation legend] (англ.). boeing.com. Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Marrett, 2004, с. 18.
- ↑ Marrett, 2004, с. 23.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 385.
- ↑ Hack, 2007, с. 99.
- ↑ [digital.library.unlv.edu/objects/hughes/138 Alexander Troyanovsky and Howard Hughes at the Moscow Airdrome, Russia, July 12, 1938] (англ.). digital.library.unlv.edu. Проверено 4 октября 2014.
- ↑ Hack, 2007, с. 102.
- ↑ Billings, 1996, с. 17.
- ↑ Higham, 2013, с. 77.
- ↑ Higham, 2013, с. 84.
- ↑ Hack, 2007, с. 117.
- ↑ Porter, Limi, с. 434.
- ↑ Glassman, 2011, с. 7.
- ↑ Hack, 2007, с. 127.
- ↑ Hack, 2007, с. 128.
- ↑ Botson, 2005, с. 128.
- ↑ Higham, 2013, с. 90.
- ↑ Higham, 2013, с. 91.
- ↑ Szurovy, 2003, с. 91.
- ↑ 1 2 Szurovy, 2003, с. 92.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 128.
- ↑ Szurovy, 2003, с. 94.
- ↑ Higham, 2013, с. 89.
- ↑ 1 2 Boggs, 2013, с. 69.
- ↑ Hack, 2007, с. 126.
- ↑ Higham, 2013, с. 96.
- ↑ Friedrich, 1986, с. 124.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 130.
- ↑ 1 2 Friedrich, 1986, с. 125.
- ↑ Hack, 2007, с. 125.
- ↑ Hack, 2007, с. 131.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 91.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 133.
- ↑ Hack, 2007, с. 134.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 386.
- ↑ Hack, 2007, с. 137.
- ↑ Hack, 2007, с. 138.
- ↑ Life, 1942, с. 9.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 148.
- ↑ 1 2 Wittern-Keller, 1985, с. 94.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 167.
- ↑ Hack, 2007, с. 141.
- ↑ Server, 2007, с. 94.
- ↑ Server, 2007, с. 91.
- ↑ Porter, Limi, с. 552.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 185.
- ↑ Hack, 2007, с. 146.
- ↑ Hack, 2007, с. 147.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 148.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 150.
- ↑ 1 2 3 4 Hack, 2007, с. 156.
- ↑ Szurovy, 2003, с. 95.
- ↑ Szurovy, 2003, с. 96.
- ↑ Hack, 2007, с. 191.
- ↑ Hack, 2007, с. 151.
- ↑ Hack, 2007, с. 153.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 168.
- ↑ Hack, 2007, с. 155.
- ↑ Wittern-Keller, 1985, с. 95.
- ↑ Balio, 1985, с. 205.
- ↑ Hack, 2007, с. 159.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 213.
- ↑ Hack, 2007, с. 160.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 215.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 220.
- ↑ Hack, 2007, с. 163.
- ↑ Hack, 2007, с. 166.
- ↑ Hack, 2007, с. 167.
- ↑ Hack, 2007, с. 169.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 231.
- ↑ 1 2 3 Hack, 2007, с. 170.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 232.
- ↑ Hack, 2007, с. 174.
- ↑ 1 2 Dietrich, 1972, с. 28.
- ↑ By Anna Edwards. [www.dailymail.co.uk/news/article-2227304/Spruce-Goose-Howard-Hughes-On-65th-anniversary-brief-flight-history-monumental-folly.html The monumental folly of Howard Hughes] (англ.). Daily Mail (3 November 2012). Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Hack, 2007, с. 178.
- ↑ 1 2 3 Pattillo, 2001, с. 166.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 180.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 182.
- ↑ Thomas, 1985, с. 108.
- ↑ Hack, 2007, с. 204.
- ↑ Porter, Limi, с. 628.
- ↑ Thomas, 1985, с. 143.
- ↑ 1 2 3 Brown&Broeske, 2004, с. 282.
- ↑ Marrett, 2004, с. 111.
- ↑ Dyer, 1998, с. 163.
- ↑ Hack, 2007, с. 210.
- ↑ Szurovy, 2003, с. 100.
- ↑ 1 2 3 4 Brown&Broeske, 2004, с. 283.
- ↑ 1 2 3 Szurovy, 2003, с. 101.
- ↑ Dietrich, 1972, с. 24.
- ↑ Mintz, 1985, с. 28.
- ↑ 1 2 Ingham, 1983, с. 637.
- ↑ Hack, 2007, с. 313.
- ↑ Szurovy, 2003, с. 102.
- ↑ Gladstone, 2013, с. 189.
- ↑ Life, 1942, с. 76.
- ↑ Sheridan, 2011, с. 80.
- ↑ 1 2 Thompson, 1962, с. 26.
- ↑ 1 2 3 4 Mailer, 1976, с. 27.
- ↑ Sheridan, 2011, с. 136.
- ↑ 1 2 Farrell&Case, 1995, с. 55.
- ↑ Hurt, 1977, с. 126.
- ↑ Server, 2007, с. 90.
- ↑ Thompson, 1962, с. 25.
- ↑ 1 2 3 Barlett, 1979, с. 624.
- ↑ 1 2 3 Rothman, 2010, с. 127.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 135.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 339.
- ↑ Farrell&Case, 1995, с. 53.
- ↑ Hadden&Luce, 1976, с. 10.
- ↑ Sederberg, 2013, с. 28.
- ↑ Farrell&Case, 1995, с. 56.
- ↑ 1 2 3 Lunde, 2007, с. 224.
- ↑ 1 2 Sheridan, 2011, с. 153.
- ↑ 1 2 Mailer, 1976, с. 26.
- ↑ 1 2 Porter, Limi, с. 780.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 341.
- ↑ Porter, Limi, с. 781.
- ↑ Hack, 2007, с. 363.
- ↑ 1 2 3 Brown&Broeske, 2004, с. 374.
- ↑ 1 2 3 4 Brown&Broeske, 2004, с. 349.
- ↑ Higham, 2013, с. 38.
- ↑ Sederberg, 2013, с. 95.
- ↑ Porter, Limi, с. 11.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 317.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 83.
- ↑ Friedrich, 1986, с. 121.
- ↑ Porter, Limi, с. 777.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 329.
- ↑ Graves, 1972, с. 32.
- ↑ Marrett, 2004, с. 203.
- ↑ [www.history.com/speeches/howard-hughes-breaks-his-silence#howard-hughes-breaks-his-silence Howard Hughes breaks his silence] (англ.). history.com. Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Ebert, 2010, с. 17.
- ↑ 1 2 3 4 Sederberg, 2013, с. 40.
- ↑ Barlett, 1979, с. 23.
- ↑ Barlett, 1979, с. 22.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 378.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 382.
- ↑ Hack, 2007, с. 19.
- ↑ Sederberg, 2013, с. 92.
- ↑ Ebert, 2010, с. 15.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 377.
- ↑ 1 2 3 4 David Margolick. [www.nytimes.com/books/97/10/05/reviews/971005.05margolt.html Show Them the Money. How doctors, lawyers and tax collectors divvied up the Howard Hughes fortune.] (англ.). New York Times (October 5, 1997). Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Hurt, 1977, с. 73.
- ↑ Hurt, 1977, с. 79.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 383.
- ↑ Hack, 2007, с. 386.
- ↑ Moore, 1984, с. 1.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 385.
- ↑ Hurt, 1977, с. 75.
- ↑ 1 2 Brown&Broeske, 2004, с. 241.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 2.
- ↑ Thomas, 1985, с. 77.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 294.
- ↑ 1 2 Server, 2007, с. 88.
- ↑ 1 2 Hack, 2007, с. 100.
- ↑ 1 2 Higham, 2013, с. 83.
- ↑ Friedrich, 1986, с. 122.
- ↑ Hack, 2007, с. 121.
- ↑ Sederberg, 2013, с. 410.
- ↑ Dietrich, 1972, с. 26.
- ↑ Hack, 2007, с. 129.
- ↑ Gladstone, 2013, с. 185.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 152.
- ↑ Porter, Limi, с. 670.
- ↑ Mayer&McDonnell, 2007, с. 91.
- ↑ Server, 2007, с. 98.
- ↑ Server, 2007, с. 100.
- ↑ Douglas Hyde. [edition.cnn.com/2005/SHOWBIZ/Movies/02/23/hughes.hepburn/ The Hughes-Hepburn affair] (англ.). cnn.com (Feb 23, 2005). Проверено 13 октября 2014.
- ↑ Alef, 2009.
- ↑ Hack, 2007, с. 143.
- ↑ Hack, 2007, с. 107.
- ↑ Porter, Limi, с. 248.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 100.
- ↑ Hack, 2007, с. 172.
- ↑ Hack, 2007, с. 183.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 237.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 123.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 494.
- ↑ 1 2 Volkan, 1997, с. 135.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 4.
- ↑ Drosnin, 2008, с. 2.
- ↑ Rebecca Leung. [www.cbsnews.com/news/watergate-aviator-connection/ Watergate: 'Aviator' Connection?] (англ.). boeing.com (2005 Feb 24). Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Mailer, 1976, с. 28.
- ↑ Hadden&Luce, 1976, с. 12.
- ↑ Barlett, 1979, с. 625.
- ↑ Server, 2007, с. 99.
- ↑ Hack, 2007, с. 184.
- ↑ 1 2 Gladstone, 2013, с. 190.
- ↑ McCarthy, 2000, с. 113.
- ↑ Simons, 2010, с. 233.
- ↑ Brown&Broeske, 2004, с. 376.
- ↑ Hack, 2007, с. 302.
- ↑ [marketbusinessnews.com/baker-hughes-company-information/20576 Baker Hughes – Company Information] (англ.). marketbusinessnews.com. Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Hecht, 2005, с. 86.
- ↑ Bromberg, 2000, с. 51.
- ↑ Pattillo, 2001, с. 167.
- ↑ Unesco, 2010, с. 45.
- ↑ Rifkind&Freeman, 2005, с. 129.
- ↑ Congress, 2011, с. 10326.
- ↑ Zhang, 2008, с. 1660.
- ↑ Polmar&White, 2012, с. 11.
- ↑ Sheridan, 2011, с. 86.
- ↑ Conard, 2007, с. 171.
- ↑ Conard, 2007, с. 172.
- ↑ Biskind, 2010, с. 406.
- ↑ Biskind, 2010, с. 420.
- ↑ Paul Gallagher. [www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/warren-beatty-puts-his-reputation-on-the-line-again-with-howard-hughes-biopic-9391289.html Warren Beatty puts his reputation on the line (again) with Howard Hughes biopic] (англ.). Independent (18 May 2014). Проверено 6 июля 2014.
- ↑ Rabin, 2010, с. 138.
- ↑ www.rockpapershotgun.com/2007/08/20/exclusive-ken-levine-on-the-making-of-bioshock
- ↑ 1 2 DeTora, 2009, с. 156.
- ↑ DeTora, 2009, с. 163.
- ↑ Rothman&Davis, 2002, с. 39.
- ↑ Naremore, 2004, с. 9.
- ↑ Ebert, 2010, с. 9.
Литература
- Крупнейшие афёры и аферисты мирового масштаба [Текст] : детективы, мелодрамы, расследования, блеф / [сост.: В. Башкирова, А. Соловьев]. — 2-е изд., доп . и перераб. — Москва : Коммерсантъ, 2011. — С. 121; 22 см. — (Библиотека Коммерсантъ. Коллекция историй). ISBN 978-5-699-48096-8 (в пер.)
- Валерия Башкирова. [books.google.ru/books?id=9wZAPgsx6jYC&pg=PA196&dq=Хьюз,+Говард&hl=ru&sa=X&ei=rfyCVPe4GMHlUuORgtgP&ved=0CC4Q6AEwAQ#v=onepage&q=%D0%A5%D1%8C%D1%8E%D0%B7%2C%20%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4&f=false Фигура высшего эпатажа] // Самые богатые: истории крупнейших мировых состояний. — Москва: Коммерсантъ : Эксмо, 2011. — С. 195. — ISBN 978-5-699-47914-6.
- Савинский Ю. Э. Мир вертолёта. – Helicopter universe. — Москва: Триумф, 2014. — С. 257. — 520 с. — 30 000 экз. — ISBN 978-5-89392-599-9.
- Noah Dietrich [books.google.kz/books?id=cVIEAAAAMBAJ&pg=PA24 The Howard I remember] (англ.) // Журнал Life. — 1972. — No. 25 февраля (25 Feb). — P. 16. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0024-3019&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0024-3019].
- Thomas Thompson [books.google.kz/books?id=-k0EAAAAMBAJ&pg=PA25 A playboy who turned into a secretive, besieged and lonely man] (англ.) // Журнал Life. — 1962. — No. 7 сентября (7 Sep). — P. 23. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0024-3019&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0024-3019].
- Howard Hughes Lives! [books.google.kz/books?id=SiwEAAAAMBAJ&pg=PA73 Harry Hurt] (англ.) // Журнал Texas Monthly. — 1977. — Vol. 5, no. январь (Jan). — P. 32. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0148-7736&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0148-7736].
- Ralph Graves [books.google.kz/books?id=EkAEAAAAMBAJ&pg=PA33 The Hughes Affair, Starring Clifford Irving] (англ.) // Журнал Life. — 1972. — Vol. 72, no. 4 февраля (4 Feb). — P. 36. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0024-3019&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0024-3019].
- [books.google.kz/books?id=_lAEAAAAMBAJ&pg=PA9 Speaking of pictures. Jane Russel can be seen everywhere but in a movie] (англ.) // Журнал Life. — 1942. — No. 13 апреля (13 Apr). — P. 47. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0024-3019&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0024-3019].
- Норман Мейлер [books.google.kz/books?id=B-QCAAAAMBAJ&pg=PA27 A Hitch in Historigraphy] (англ.) // Журнал New York Magazine. — 1976. — Vol. 9, no. 16 августа (16 Aug). — P. 59. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0028-7369&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0028-7369].
- Briton Hadden, Henry Robinson Luce [books.google.kz/books?id=IsjfAAAAMAAJ Looming conflict] (англ.) // Журнал Time. — 1976. — No. 107. — P. 62. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0040-781X&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0040-781X].
- Gordon Baxter [books.google.kz/books?id=V9Fx47DJF68C&pg=PA109 Howard Hughes — a milestone passed.] (англ.) // Журнал Flying Magazine. — 1976. — Vol. 98, no. июнь (Jun). — P. 64. — ISSN [www.sigla.ru/table.jsp?f=8&t=3&v0=0015-4806&f=1003&t=1&v1=&f=4&t=2&v2=&f=21&t=3&v3=&f=1016&t=3&v4=&f=1016&t=3&v5=&bf=4&b=&d=0&ys=&ye=&lng=&ft=&mt=&dt=&vol=&pt=&iss=&ps=&pe=&tr=&tro=&cc=UNION&i=1&v=tagged&s=0&ss=0&st=0&i18n=ru&rlf=&psz=20&bs=20&ce=hJfuypee8JzzufeGmImYYIpZKRJeeOeeWGJIZRrRRrdmtdeee88NJJJJpeeefTJ3peKJJ3UWWPtzzzzzzzzzzzzzzzzzbzzvzzpy5zzjzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzztzzzzzzzbzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzvzzzzzzyeyTjkDnyHzTuueKZePz9decyzzLzzzL*.c8.NzrGJJvufeeeeeJheeyzjeeeeJh*peeeeKJJJJJJJJJJmjHvOJJJJJJJJJfeeeieeeeSJJJJJSJJJ3TeIJJJJ3..E.UEAcyhxD.eeeeeuzzzLJJJJ5.e8JJJheeeeeeeeeeeeyeeK3JJJJJJJJ*s7defeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeSJJJJJJJJZIJJzzz1..6LJJJJJJtJJZ4....EK*&debug=false 0015-4806].
- Harry Brown, Pat H. Broeske. [books.google.kz/books?id=BfkKlX4FT7gC Howard Hughes: The Untold Story]. — Da Capo Press, 2004. — С. 1. — 482 с. — ISBN 9780306813924.
- Jeff Hecht. [books.google.kz/books?id=6jOnlRViWPoC Beam : The Race to Make the Laser]. — Oxford University Press, 2005. — С. 2. — 288 с. — ISBN 9780198032496.
- John N. Ingham. [books.google.kz/books?id=qzxy3pejsdoC Biographical Dictionary of American Business Leaders]. — Greenwood Publishing Group, 1983. — С. 4. — 2026 с. — ISBN 9780313213625.
- Daniel Alef. [books.google.kz/books?id=EkqPPTIkwUcC Howard Hughes: The Mysterious Billionaire]. — Titans of Fortune Publishing, 2009. — С. 5. — ISBN 9781608041688.
- D. Volkan, Norman Itzkowitz, Andrew W. Dod. [books.google.kz/books?id=BFgcTjzqxrAC Richard Nixon: A Psychobiography]. — Columbia University Press, 1997. — С. 7. — 190 с. — ISBN 9780231108553.
- John Harris Sheridan. [books.google.kz/books?id=5YHMr6LRpocC Howard Hughes: The Las Vegas Years : the Women, the Mormons, the Mafia]. — AuthorHouse, 2011. — С. 8. — 178 с. — ISBN 9781463406936.
- Conard. [books.google.kz/books?id=adI4tApGT-QC The Philosophy of Martin Scorsese]. — University Press of Kentucky, 2007. — С. 9. — 280 с. — ISBN 9780813172552.
- Richard Hack. [books.google.kz/books?id=emhBjp6-1wwC Hughes The Private Diaries, Memos and Letters]. — Phoenix Books, 2007. — С. 10. — 444 с. — ISBN 9781597775496.
- Tony Thomas. [books.google.kz/books?ei=H_tTU7bVCIvr4wS6-oH4CA&id=XIZlAAAAMAAJ Howard Hughes in Hollywood]. — Citadel Press, 1985. — С. 11. — 160 с. — ISBN 9780806509709.
- Michael Drosnin. [books.google.kz/books?id=u_S19-k0JCsC Citizen Hughes: The Power, the Money and the Madness of the man portrayed in the movie The Aviator]. — Crown Publishing Group, 2008. — С. 12. — 544 с. — ISBN 9780307482990.
- Ronald Farrell, Carole Case. [books.google.kz/books?id=MkNqOjpoSn4C The Black Book and the Mob: The Untold Story of the Control of Nevada's Casinos]. — Univ of Wisconsin Press, 1995. — С. 13. — 300 с. — ISBN 9780299147532.
- Hal Rothman. [books.google.kz/books?id=YzgOWKpnBGcC The Making of Modern Nevada]. — University of Nevada Press, 2010. — С. 14. — 176 с. — ISBN 9780874178265.
- Gregory D. Black. [books.google.kz/books?id=KWGGRWY9_mcC The Catholic Crusade Against the Movies, 1940-1975]. — Cambridge University Press, 1998. — С. 15. — 302 с. — ISBN 9780521629058.
- Michael R. Botson, Jr. [books.google.kz/books?id=pHJ2ZGH95I4C Labor, Civil Rights, and the Hughes Tool Company]. — Texas A&M University Press, 2005. — С. 17. — 280 с. — ISBN 9781603446143.
- Todd McCarthy. [books.google.kz/books?id=JEvgRkHdEjkC Howard Hawks: The Grey Fox of Hollywood]. — Grove Press, 2000. — С. 18. — 756 с. — ISBN 9780802137401.
- Christina Rice. [books.google.kz/books?id=pXH9AAAAQBAJ Ann Dvorak: Hollywood's Forgotten Rebel]. — University Press of Kentucky, 2013. — С. 19. — 384 с. — ISBN 9780813144405.
- Craig Brown. [books.google.kz/books?id=jVZoAAAAQBAJ Hello Goodbye Hello: A Circle of 101 Remarkable Meetings]. — Simon and Schuster, 2013. — С. 20. — 384 с. — ISBN 9781451684513.
- Donald J. Porter. [books.google.kz/books?id=n10rAwAAQBAJ Howard's Whirlybirds: Howard Hughes' Amazing Pioneering Helicopter Exploits]. — Fonthill Media, 2014. — С. 21. — 224 с.
- Darwin Porter. [books.google.kz/books?id=RZrkQgAACAAJ Howard Hughes: Hell's Angel]. — Blood Moon Productions, Limited, 2010. — С. 22. — 832 с. — ISBN 9781936003136.
- Lisa M. DeTora. [books.google.kz/books?id=cZRz9kM-cL4C Heroes of Film, Comics and American Culture]. — McFarland, 2009. — С. 24. — 832 с. — ISBN 9780786451432.
- Norman Polmar, Michael White. [books.google.kz/books?id=G2O5ngEACAAJ Project Azorian: The CIA and the Raising of the K-129]. — Naval Institute Press, 2012. — С. 25. — 238 с. — ISBN 9781591146681.
- Michael Schwartz. [books.google.kz/books?id=-flqOlBBfCAC The Power Structure of American Business]. — University of Chicago Press, 1985. — С. 26. — 327 с. — ISBN 9780226531083.
- Tino Balio. [books.google.kz/books?id=QljKdIYzncoC United Artists, Volume 1, 1919–1950: The Company Built by the Stars]. — University of Chicago Press, 1985. — Т. 1. — С. 27. — 327 с. — ISBN 9780226531083.
- Laura Wittern-Keller. [books.google.kz/books?id=dvzHIRpfY1UC Freedom of the Screen: Legal Challenges to State Film Censorship, 1915-1981]. — University of Chicago Press, 1985. — С. 28. — 327 с. — ISBN 9780226531083.
- David Rifkind, Geraldine Freeman. [books.google.kz/books?id=d3wdy3b9VUkC The Nobel Prize Winning Discoveries in Infectious Diseases]. — Academic Press, 2005. — С. 29. — 160 с. — ISBN 9780080459578.
- Congress. [books.google.kz/books?id=oj5jAMspUfAC Congressional Record]. — Government Printing Office, 2011. — С. 30. — 160 с.
- Yawei Zhang. [books.google.kz/books?id=RAMKAQAAMAAJ Encyclopedia of Global Health]. — Sage Publications, 2008. — С. 31. — 1938 с. — ISBN 9781412941860.
- George J. Marrett. [books.google.kz/books?id=9NVOAAAAMAAJ Howard Hughes: aviator]. — Naval Institute Press, 2004. — С. 33. — 257 с. — ISBN 9781591145103.
- Geza Szurovy. [books.google.kz/books?id=gqPIfa7EgygC Classic American AirlinesMotorbooks Classics]. — Zenith Imprint, 2003. — С. 34. — 257 с. — ISBN 9781610607124.
- Donald L. Barlett, James B. Steele. [books.google.kz/books?id=kQ294xWV_C8C Empire: the life, legend, and madness of Howard Hughes]. — Norton, 1979. — С. 35. — 257 с. — ISBN 9780393075137.
- Charles E. Billings. [books.google.kz/books?ei=DSmCU9OoOPP44QSP34DAAw&id=g583AQAAMAAJ Human-Centered Aviation Automation: Principles and Guidelines]. — 1996. — С. 38. — 222 с.
- Donald M. Pattillo. [books.google.kz/books?id=shwtKbTbEuEC Pushing the Envelope: The American Aircraft Industry]. — University of Michigan Press, 2001. — С. 39. — 484 с. — ISBN 9780472086719.
- Hal Rothman, Mike Davis. [books.google.kz/books?id=DwxU8dgsZJkC The Grit Beneath the Glitter: Tales from the Real Las Vegas]. — University of California Press, 2002. — С. 40. — 388 с. — ISBN 9780520225381.
- Peter Biskind. [books.google.kz/books?id=TIohcssIerUC Star: How Warren Beatty Seduced America]. — Simon and Schuster, 2010. — С. 42. — 627 с. — ISBN 9780743246583.
- B. James Gladstone. [books.google.kz/books?id=lz8Oy2L9-BsC&pg=PA239 The Man Who Seduced Hollywood]. — Chicago Review Press, 2013. — С. 43. — 352 с. — ISBN 9781613745793.
- Lee Server. [books.google.kz/books?id=vrAnT9ZO9-cC Ava Gardner: "Love Is Nothing"]. — Macmillan, 2007. — С. 44. — 560 с. — ISBN 9781429908740.
- Otto Friedrich. [books.google.kz/books?id=0x8AFchW4JsC City of Nets: A Portrait of Hollywood in the 1940's]. — University of California Press, 1986. — С. 45. — 495 с. — ISBN 9780520209497.
- A.V. Club. [books.google.kz/books?id=HABU9kJmpe0C My Year of Flops: The A.V. Club Presents One Man's Journey Deep into the Heart of Cinematic Failure]. — Simon and Schuster, 2010. — С. 46. — 288 с. — ISBN 9781439160312.
- David Darling. [books.google.kz/books?id=hZNGAQAAQBAJ The Rocket Man: And Other Extraordinary Characters from the History of Flight]. — Oneworld Publications, 2013. — С. 48. — 288 с. — ISBN 9781439160312.
- [books.google.kz/books?id=2ZTLCOe_fqwC&pg=PA45 UNESCO Science Report 2010: The Current Status of Science Around the World]. — UNESCO, 2010. — С. 50. — 288 с. — ISBN 9781439160312.
- Geoff Mayer, Brian McDonnell. [books.google.kz/books?id=RsBHnZoyO4kC&pg=PA91 Encyclopedia of Film Noir]. — ABC-CLIO, 2007. — С. 51. — 288 с. — ISBN 9780313333064.
- [books.google.kz/books?id=b0wTTPRsPv8C From Agamben to Žižek: Contemporary Critical Theorists]. — Edinburgh University Press, 2010. — С. 52. — 275 с. — ISBN 9780748639748.
- John David Ebert. [books.google.kz/books?id=g6TitThCzkkC&pg=PA5 Dead Celebrities, Living Icons: Tragedy and Fame in the Age of the Multimedia Superstar]. — ABC-CLIO, 2010. — С. 53. — 288 с. — ISBN 9780313377648.
- Davis Dyer. [books.google.kz/books?id=O6VUEkbqZ2QC&pg=PA163 TRW: Pioneering Technology and Innovation Since 1900]. — Harvard Business Press, 1998. — С. 54. — 288 с. — ISBN 9780875846064.
- Johnny D. Boggs. [books.google.kz/books?id=dSGXAAAAQBAJ&pg=PA69 Billy the Kid on Film, 1911-2012]. — McFarland, 2013. — С. 56. — 288 с. — ISBN 9780786465552.
- Matthew Eric Glassman. [books.google.kz/books?id=yntUk64Y4cAC&pg=PA7 Congressional Gold Medals, 1776-2010]. — DIANE Publishing, 2011. — С. 57. — 288 с. — ISBN 9781437984552.
- James Naremore. [books.google.kz/books?id=KzCH4UgSUr8C&pg=PA9 Orson Welles's Citizen Kane: A Casebook]. — Oxford University Press, 2004. — С. 60. — 291 с. — ISBN 9780195158915.
- Donald T. Lunde. [books.google.kz/books?id=s8_XhfIMdMkC&pg=PA224 Hearst to Hughes: Memoir of a Forensic Psychiatrist]. — AuthorHouse, 2007. — С. 61. — 291 с. — ISBN 9781425977047.
- Terry Moore. [books.google.kz/books?id=o1FURwDiEPIC The Beauty and the Billionaire]. — Pocket Books, 1984. — С. 63. — 291 с. — ISBN 9780671500801.
- Joan Lisa Bromberg. [books.google.kz/books?id=-UebVg1YqsoC NASA and the Space Industry]. — JHU Press, 2000. — С. 65. — 264 с. — ISBN 9780801865329.
- Arelo C Sederberg. [books.google.kz/books?id=di04thgoPGMC Hughesworld]. — iUniverse, 2013. — 458 с. — ISBN 9781475969221.
- Charles Higham. [books.google.kz/books?id=xW6zAAAAQBAJ Howard Hughes: The Secret Life]. — St. Martin's Griffin, 2013. — 384 с. — ISBN 9781466853157.
Ссылки
- [brand.podfm.ru/1036/ История успеха Говарда Хьюза] на радио «Маяк»
- (англ.) [www.senate.gov/reference/resources/pdf/hughes2.pdf Стенограмма слушаний в Сенате (28 июля 1947 года)]
- (англ.) [digital.library.unlv.edu/hughes/ Подборка фотографий]
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| Статья содержит короткие («гарвардские») ссылки на публикации, не указанные или неправильно описанные в библиографическом разделе. Список неработающих ссылок: Porter, Limi Пожалуйста, исправьте ссылки согласно инструкции к шаблону {{sfn}} и дополните библиографический раздел корректными описаниями цитируемых публикаций, следуя руководствам ВП:Сноски и ВП:Ссылки на источники.
|
Отрывок, характеризующий Хьюз, Говард
Мало того, что современники, увлекаемые страстями, говорили так, – потомство и история признали Наполеона grand, a Кутузова: иностранцы – хитрым, развратным, слабым придворным стариком; русские – чем то неопределенным – какой то куклой, полезной только по своему русскому имени…В 12 м и 13 м годах Кутузова прямо обвиняли за ошибки. Государь был недоволен им. И в истории, написанной недавно по высочайшему повелению, сказано, что Кутузов был хитрый придворный лжец, боявшийся имени Наполеона и своими ошибками под Красным и под Березиной лишивший русские войска славы – полной победы над французами. [История 1812 года Богдановича: характеристика Кутузова и рассуждение о неудовлетворительности результатов Красненских сражений. (Примеч. Л.Н. Толстого.) ]
Такова судьба не великих людей, не grand homme, которых не признает русский ум, а судьба тех редких, всегда одиноких людей, которые, постигая волю провидения, подчиняют ей свою личную волю. Ненависть и презрение толпы наказывают этих людей за прозрение высших законов.
Для русских историков – странно и страшно сказать – Наполеон – это ничтожнейшее орудие истории – никогда и нигде, даже в изгнании, не выказавший человеческого достоинства, – Наполеон есть предмет восхищения и восторга; он grand. Кутузов же, тот человек, который от начала и до конца своей деятельности в 1812 году, от Бородина и до Вильны, ни разу ни одним действием, ни словом не изменяя себе, являет необычайный s истории пример самоотвержения и сознания в настоящем будущего значения события, – Кутузов представляется им чем то неопределенным и жалким, и, говоря о Кутузове и 12 м годе, им всегда как будто немножко стыдно.
А между тем трудно себе представить историческое лицо, деятельность которого так неизменно постоянно была бы направлена к одной и той же цели. Трудно вообразить себе цель, более достойную и более совпадающую с волею всего народа. Еще труднее найти другой пример в истории, где бы цель, которую поставило себе историческое лицо, была бы так совершенно достигнута, как та цель, к достижению которой была направлена вся деятельность Кутузова в 1812 году.
Кутузов никогда не говорил о сорока веках, которые смотрят с пирамид, о жертвах, которые он приносит отечеству, о том, что он намерен совершить или совершил: он вообще ничего не говорил о себе, не играл никакой роли, казался всегда самым простым и обыкновенным человеком и говорил самые простые и обыкновенные вещи. Он писал письма своим дочерям и m me Stael, читал романы, любил общество красивых женщин, шутил с генералами, офицерами и солдатами и никогда не противоречил тем людям, которые хотели ему что нибудь доказывать. Когда граф Растопчин на Яузском мосту подскакал к Кутузову с личными упреками о том, кто виноват в погибели Москвы, и сказал: «Как же вы обещали не оставлять Москвы, не дав сраженья?» – Кутузов отвечал: «Я и не оставлю Москвы без сражения», несмотря на то, что Москва была уже оставлена. Когда приехавший к нему от государя Аракчеев сказал, что надо бы Ермолова назначить начальником артиллерии, Кутузов отвечал: «Да, я и сам только что говорил это», – хотя он за минуту говорил совсем другое. Какое дело было ему, одному понимавшему тогда весь громадный смысл события, среди бестолковой толпы, окружавшей его, какое ему дело было до того, к себе или к нему отнесет граф Растопчин бедствие столицы? Еще менее могло занимать его то, кого назначат начальником артиллерии.
Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигатели людей, говорил слова совершенно бессмысленные – первые, которые ему приходили в голову.
Но этот самый человек, так пренебрегавший своими словами, ни разу во всю свою деятельность не сказал ни одного слова, которое было бы не согласно с той единственной целью, к достижению которой он шел во время всей войны. Очевидно, невольно, с тяжелой уверенностью, что не поймут его, он неоднократно в самых разнообразных обстоятельствах высказывал свою мысль. Начиная от Бородинского сражения, с которого начался его разлад с окружающими, он один говорил, что Бородинское сражение есть победа, и повторял это и изустно, и в рапортах, и донесениях до самой своей смерти. Он один сказал, что потеря Москвы не есть потеря России. Он в ответ Лористону на предложение о мире отвечал, что мира не может быть, потому что такова воля народа; он один во время отступления французов говорил, что все наши маневры не нужны, что все сделается само собой лучше, чем мы того желаем, что неприятелю надо дать золотой мост, что ни Тарутинское, ни Вяземское, ни Красненское сражения не нужны, что с чем нибудь надо прийти на границу, что за десять французов он не отдаст одного русского.
И он один, этот придворный человек, как нам изображают его, человек, который лжет Аракчееву с целью угодить государю, – он один, этот придворный человек, в Вильне, тем заслуживая немилость государя, говорит, что дальнейшая война за границей вредна и бесполезна.
Но одни слова не доказали бы, что он тогда понимал значение события. Действия его – все без малейшего отступления, все были направлены к одной и той же цели, выражающейся в трех действиях: 1) напрячь все свои силы для столкновения с французами, 2) победить их и 3) изгнать из России, облегчая, насколько возможно, бедствия народа и войска.
Он, тот медлитель Кутузов, которого девиз есть терпение и время, враг решительных действий, он дает Бородинское сражение, облекая приготовления к нему в беспримерную торжественность. Он, тот Кутузов, который в Аустерлицком сражении, прежде начала его, говорит, что оно будет проиграно, в Бородине, несмотря на уверения генералов о том, что сражение проиграно, несмотря на неслыханный в истории пример того, что после выигранного сражения войско должно отступать, он один, в противность всем, до самой смерти утверждает, что Бородинское сражение – победа. Он один во все время отступления настаивает на том, чтобы не давать сражений, которые теперь бесполезны, не начинать новой войны и не переходить границ России.
Теперь понять значение события, если только не прилагать к деятельности масс целей, которые были в голове десятка людей, легко, так как все событие с его последствиями лежит перед нами.
Но каким образом тогда этот старый человек, один, в противность мнения всех, мог угадать, так верно угадал тогда значение народного смысла события, что ни разу во всю свою деятельность не изменил ему?
Источник этой необычайной силы прозрения в смысл совершающихся явлений лежал в том народном чувстве, которое он носил в себе во всей чистоте и силе его.
Только признание в нем этого чувства заставило народ такими странными путями из в немилости находящегося старика выбрать его против воли царя в представители народной войны. И только это чувство поставило его на ту высшую человеческую высоту, с которой он, главнокомандующий, направлял все свои силы не на то, чтоб убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их.
Простая, скромная и потому истинно величественная фигура эта не могла улечься в ту лживую форму европейского героя, мнимо управляющего людьми, которую придумала история.
Для лакея не может быть великого человека, потому что у лакея свое понятие о величии.
5 ноября был первый день так называемого Красненского сражения. Перед вечером, когда уже после многих споров и ошибок генералов, зашедших не туда, куда надо; после рассылок адъютантов с противуприказаниями, когда уже стало ясно, что неприятель везде бежит и сражения не может быть и не будет, Кутузов выехал из Красного и поехал в Доброе, куда была переведена в нынешний день главная квартира.
День был ясный, морозный. Кутузов с огромной свитой недовольных им, шушукающихся за ним генералов, верхом на своей жирной белой лошадке ехал к Доброму. По всей дороге толпились, отогреваясь у костров, партии взятых нынешний день французских пленных (их взято было в этот день семь тысяч). Недалеко от Доброго огромная толпа оборванных, обвязанных и укутанных чем попало пленных гудела говором, стоя на дороге подле длинного ряда отпряженных французских орудий. При приближении главнокомандующего говор замолк, и все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно подвигался по дороге. Один из генералов докладывал Кутузову, где взяты орудия и пленные.
Кутузов, казалось, чем то озабочен и не слышал слов генерала. Он недовольно щурился и внимательно и пристально вглядывался в те фигуры пленных, которые представляли особенно жалкий вид. Большая часть лиц французских солдат были изуродованы отмороженными носами и щеками, и почти у всех были красные, распухшие и гноившиеся глаза.
Одна кучка французов стояла близко у дороги, и два солдата – лицо одного из них было покрыто болячками – разрывали руками кусок сырого мяса. Что то было страшное и животное в том беглом взгляде, который они бросили на проезжавших, и в том злобном выражении, с которым солдат с болячками, взглянув на Кутузова, тотчас же отвернулся и продолжал свое дело.
Кутузов долго внимательно поглядел на этих двух солдат; еще более сморщившись, он прищурил глаза и раздумчиво покачал головой. В другом месте он заметил русского солдата, который, смеясь и трепля по плечу француза, что то ласково говорил ему. Кутузов опять с тем же выражением покачал головой.
– Что ты говоришь? Что? – спросил он у генерала, продолжавшего докладывать и обращавшего внимание главнокомандующего на французские взятые знамена, стоявшие перед фронтом Преображенского полка.
– А, знамена! – сказал Кутузов, видимо с трудом отрываясь от предмета, занимавшего его мысли. Он рассеянно оглянулся. Тысячи глаз со всех сторон, ожидая его сло ва, смотрели на него.
Перед Преображенским полком он остановился, тяжело вздохнул и закрыл глаза. Кто то из свиты махнул, чтобы державшие знамена солдаты подошли и поставили их древками знамен вокруг главнокомандующего. Кутузов помолчал несколько секунд и, видимо неохотно, подчиняясь необходимости своего положения, поднял голову и начал говорить. Толпы офицеров окружили его. Он внимательным взглядом обвел кружок офицеров, узнав некоторых из них.
– Благодарю всех! – сказал он, обращаясь к солдатам и опять к офицерам. В тишине, воцарившейся вокруг него, отчетливо слышны были его медленно выговариваемые слова. – Благодарю всех за трудную и верную службу. Победа совершенная, и Россия не забудет вас. Вам слава вовеки! – Он помолчал, оглядываясь.
– Нагни, нагни ему голову то, – сказал он солдату, державшему французского орла и нечаянно опустившему его перед знаменем преображенцев. – Пониже, пониже, так то вот. Ура! ребята, – быстрым движением подбородка обратись к солдатам, проговорил он.
– Ура ра ра! – заревели тысячи голосов. Пока кричали солдаты, Кутузов, согнувшись на седле, склонил голову, и глаз его засветился кротким, как будто насмешливым, блеском.
– Вот что, братцы, – сказал он, когда замолкли голоса…
И вдруг голос и выражение лица его изменились: перестал говорить главнокомандующий, а заговорил простой, старый человек, очевидно что то самое нужное желавший сообщить теперь своим товарищам.
В толпе офицеров и в рядах солдат произошло движение, чтобы яснее слышать то, что он скажет теперь.
– А вот что, братцы. Я знаю, трудно вам, да что же делать! Потерпите; недолго осталось. Выпроводим гостей, отдохнем тогда. За службу вашу вас царь не забудет. Вам трудно, да все же вы дома; а они – видите, до чего они дошли, – сказал он, указывая на пленных. – Хуже нищих последних. Пока они были сильны, мы себя не жалели, а теперь их и пожалеть можно. Тоже и они люди. Так, ребята?
Он смотрел вокруг себя, и в упорных, почтительно недоумевающих, устремленных на него взглядах он читал сочувствие своим словам: лицо его становилось все светлее и светлее от старческой кроткой улыбки, звездами морщившейся в углах губ и глаз. Он помолчал и как бы в недоумении опустил голову.
– А и то сказать, кто же их к нам звал? Поделом им, м… и… в г…. – вдруг сказал он, подняв голову. И, взмахнув нагайкой, он галопом, в первый раз во всю кампанию, поехал прочь от радостно хохотавших и ревевших ура, расстроивавших ряды солдат.
Слова, сказанные Кутузовым, едва ли были поняты войсками. Никто не сумел бы передать содержания сначала торжественной и под конец простодушно стариковской речи фельдмаршала; но сердечный смысл этой речи не только был понят, но то самое, то самое чувство величественного торжества в соединении с жалостью к врагам и сознанием своей правоты, выраженное этим, именно этим стариковским, добродушным ругательством, – это самое (чувство лежало в душе каждого солдата и выразилось радостным, долго не умолкавшим криком. Когда после этого один из генералов с вопросом о том, не прикажет ли главнокомандующий приехать коляске, обратился к нему, Кутузов, отвечая, неожиданно всхлипнул, видимо находясь в сильном волнении.
8 го ноября последний день Красненских сражений; уже смерклось, когда войска пришли на место ночлега. Весь день был тихий, морозный, с падающим легким, редким снегом; к вечеру стало выясняться. Сквозь снежинки виднелось черно лиловое звездное небо, и мороз стал усиливаться.
Мушкатерский полк, вышедший из Тарутина в числе трех тысяч, теперь, в числе девятисот человек, пришел одним из первых на назначенное место ночлега, в деревне на большой дороге. Квартиргеры, встретившие полк, объявили, что все избы заняты больными и мертвыми французами, кавалеристами и штабами. Была только одна изба для полкового командира.
Полковой командир подъехал к своей избе. Полк прошел деревню и у крайних изб на дороге поставил ружья в козлы.
Как огромное, многочленное животное, полк принялся за работу устройства своего логовища и пищи. Одна часть солдат разбрелась, по колено в снегу, в березовый лес, бывший вправо от деревни, и тотчас же послышались в лесу стук топоров, тесаков, треск ломающихся сучьев и веселые голоса; другая часть возилась около центра полковых повозок и лошадей, поставленных в кучку, доставая котлы, сухари и задавая корм лошадям; третья часть рассыпалась в деревне, устраивая помещения штабным, выбирая мертвые тела французов, лежавшие по избам, и растаскивая доски, сухие дрова и солому с крыш для костров и плетни для защиты.
Человек пятнадцать солдат за избами, с края деревни, с веселым криком раскачивали высокий плетень сарая, с которого снята уже была крыша.
– Ну, ну, разом, налегни! – кричали голоса, и в темноте ночи раскачивалось с морозным треском огромное, запорошенное снегом полотно плетня. Чаще и чаще трещали нижние колья, и, наконец, плетень завалился вместе с солдатами, напиравшими на него. Послышался громкий грубо радостный крик и хохот.
– Берись по двое! рочаг подавай сюда! вот так то. Куда лезешь то?
– Ну, разом… Да стой, ребята!.. С накрика!
Все замолкли, и негромкий, бархатно приятный голос запел песню. В конце третьей строфы, враз с окончанием последнего звука, двадцать голосов дружно вскрикнули: «Уууу! Идет! Разом! Навались, детки!..» Но, несмотря на дружные усилия, плетень мало тронулся, и в установившемся молчании слышалось тяжелое пыхтенье.
– Эй вы, шестой роты! Черти, дьяволы! Подсоби… тоже мы пригодимся.
Шестой роты человек двадцать, шедшие в деревню, присоединились к тащившим; и плетень, саженей в пять длины и в сажень ширины, изогнувшись, надавя и режа плечи пыхтевших солдат, двинулся вперед по улице деревни.
– Иди, что ли… Падай, эка… Чего стал? То то… Веселые, безобразные ругательства не замолкали.
– Вы чего? – вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих.
– Господа тут; в избе сам анарал, а вы, черти, дьяволы, матершинники. Я вас! – крикнул фельдфебель и с размаху ударил в спину первого подвернувшегося солдата. – Разве тихо нельзя?
Солдаты замолкли. Солдат, которого ударил фельдфебель, стал, покряхтывая, обтирать лицо, которое он в кровь разодрал, наткнувшись на плетень.
– Вишь, черт, дерется как! Аж всю морду раскровянил, – сказал он робким шепотом, когда отошел фельдфебель.
– Али не любишь? – сказал смеющийся голос; и, умеряя звуки голосов, солдаты пошли дальше. Выбравшись за деревню, они опять заговорили так же громко, пересыпая разговор теми же бесцельными ругательствами.
В избе, мимо которой проходили солдаты, собралось высшее начальство, и за чаем шел оживленный разговор о прошедшем дне и предполагаемых маневрах будущего. Предполагалось сделать фланговый марш влево, отрезать вице короля и захватить его.
Когда солдаты притащили плетень, уже с разных сторон разгорались костры кухонь. Трещали дрова, таял снег, и черные тени солдат туда и сюда сновали по всему занятому, притоптанному в снегу, пространству.
Топоры, тесаки работали со всех сторон. Все делалось без всякого приказания. Тащились дрова про запас ночи, пригораживались шалашики начальству, варились котелки, справлялись ружья и амуниция.
Притащенный плетень осьмою ротой поставлен полукругом со стороны севера, подперт сошками, и перед ним разложен костер. Пробили зарю, сделали расчет, поужинали и разместились на ночь у костров – кто чиня обувь, кто куря трубку, кто, донага раздетый, выпаривая вшей.
Казалось бы, что в тех, почти невообразимо тяжелых условиях существования, в которых находились в то время русские солдаты, – без теплых сапог, без полушубков, без крыши над головой, в снегу при 18° мороза, без полного даже количества провианта, не всегда поспевавшего за армией, – казалось, солдаты должны бы были представлять самое печальное и унылое зрелище.
Напротив, никогда, в самых лучших материальных условиях, войско не представляло более веселого, оживленного зрелища. Это происходило оттого, что каждый день выбрасывалось из войска все то, что начинало унывать или слабеть. Все, что было физически и нравственно слабого, давно уже осталось назади: оставался один цвет войска – по силе духа и тела.
К осьмой роте, пригородившей плетень, собралось больше всего народа. Два фельдфебеля присели к ним, и костер их пылал ярче других. Они требовали за право сиденья под плетнем приношения дров.
– Эй, Макеев, что ж ты …. запропал или тебя волки съели? Неси дров то, – кричал один краснорожий рыжий солдат, щурившийся и мигавший от дыма, но не отодвигавшийся от огня. – Поди хоть ты, ворона, неси дров, – обратился этот солдат к другому. Рыжий был не унтер офицер и не ефрейтор, но был здоровый солдат, и потому повелевал теми, которые были слабее его. Худенький, маленький, с вострым носиком солдат, которого назвали вороной, покорно встал и пошел было исполнять приказание, но в это время в свет костра вступила уже тонкая красивая фигура молодого солдата, несшего беремя дров.
– Давай сюда. Во важно то!
Дрова наломали, надавили, поддули ртами и полами шинелей, и пламя зашипело и затрещало. Солдаты, придвинувшись, закурили трубки. Молодой, красивый солдат, который притащил дрова, подперся руками в бока и стал быстро и ловко топотать озябшими ногами на месте.
– Ах, маменька, холодная роса, да хороша, да в мушкатера… – припевал он, как будто икая на каждом слоге песни.
– Эй, подметки отлетят! – крикнул рыжий, заметив, что у плясуна болталась подметка. – Экой яд плясать!
Плясун остановился, оторвал болтавшуюся кожу и бросил в огонь.
– И то, брат, – сказал он; и, сев, достал из ранца обрывок французского синего сукна и стал обвертывать им ногу. – С пару зашлись, – прибавил он, вытягивая ноги к огню.
– Скоро новые отпустят. Говорят, перебьем до копца, тогда всем по двойному товару.
– А вишь, сукин сын Петров, отстал таки, – сказал фельдфебель.
– Я его давно замечал, – сказал другой.
– Да что, солдатенок…
– А в третьей роте, сказывали, за вчерашний день девять человек недосчитали.
– Да, вот суди, как ноги зазнобишь, куда пойдешь?
– Э, пустое болтать! – сказал фельдфебель.
– Али и тебе хочется того же? – сказал старый солдат, с упреком обращаясь к тому, который сказал, что ноги зазнобил.
– А ты что же думаешь? – вдруг приподнявшись из за костра, пискливым и дрожащим голосом заговорил востроносенький солдат, которого называли ворона. – Кто гладок, так похудает, а худому смерть. Вот хоть бы я. Мочи моей нет, – сказал он вдруг решительно, обращаясь к фельдфебелю, – вели в госпиталь отослать, ломота одолела; а то все одно отстанешь…
– Ну буде, буде, – спокойно сказал фельдфебель. Солдатик замолчал, и разговор продолжался.
– Нынче мало ли французов этих побрали; а сапог, прямо сказать, ни на одном настоящих нет, так, одна названье, – начал один из солдат новый разговор.
– Всё казаки поразули. Чистили для полковника избу, выносили их. Жалости смотреть, ребята, – сказал плясун. – Разворочали их: так живой один, веришь ли, лопочет что то по своему.
– А чистый народ, ребята, – сказал первый. – Белый, вот как береза белый, и бравые есть, скажи, благородные.
– А ты думаешь как? У него от всех званий набраны.
– А ничего не знают по нашему, – с улыбкой недоумения сказал плясун. – Я ему говорю: «Чьей короны?», а он свое лопочет. Чудесный народ!
– Ведь то мудрено, братцы мои, – продолжал тот, который удивлялся их белизне, – сказывали мужики под Можайским, как стали убирать битых, где страженья то была, так ведь что, говорит, почитай месяц лежали мертвые ихние то. Что ж, говорит, лежит, говорит, ихний то, как бумага белый, чистый, ни синь пороха не пахнет.
– Что ж, от холода, что ль? – спросил один.
– Эка ты умный! От холода! Жарко ведь было. Кабы от стужи, так и наши бы тоже не протухли. А то, говорит, подойдешь к нашему, весь, говорит, прогнил в червях. Так, говорит, платками обвяжемся, да, отворотя морду, и тащим; мочи нет. А ихний, говорит, как бумага белый; ни синь пороха не пахнет.
Все помолчали.
– Должно, от пищи, – сказал фельдфебель, – господскую пищу жрали.
Никто не возражал.
– Сказывал мужик то этот, под Можайским, где страженья то была, их с десяти деревень согнали, двадцать дён возили, не свозили всех, мертвых то. Волков этих что, говорит…
– Та страженья была настоящая, – сказал старый солдат. – Только и было чем помянуть; а то всё после того… Так, только народу мученье.
– И то, дядюшка. Позавчера набежали мы, так куда те, до себя не допущают. Живо ружья покидали. На коленки. Пардон – говорит. Так, только пример один. Сказывали, самого Полиона то Платов два раза брал. Слова не знает. Возьмет возьмет: вот на те, в руках прикинется птицей, улетит, да и улетит. И убить тоже нет положенья.
– Эка врать здоров ты, Киселев, посмотрю я на тебя.
– Какое врать, правда истинная.
– А кабы на мой обычай, я бы его, изловимши, да в землю бы закопал. Да осиновым колом. А то что народу загубил.
– Все одно конец сделаем, не будет ходить, – зевая, сказал старый солдат.
Разговор замолк, солдаты стали укладываться.
– Вишь, звезды то, страсть, так и горят! Скажи, бабы холсты разложили, – сказал солдат, любуясь на Млечный Путь.
– Это, ребята, к урожайному году.
– Дровец то еще надо будет.
– Спину погреешь, а брюха замерзла. Вот чуда.
– О, господи!
– Что толкаешься то, – про тебя одного огонь, что ли? Вишь… развалился.
Из за устанавливающегося молчания послышался храп некоторых заснувших; остальные поворачивались и грелись, изредка переговариваясь. От дальнего, шагов за сто, костра послышался дружный, веселый хохот.
– Вишь, грохочат в пятой роте, – сказал один солдат. – И народу что – страсть!
Один солдат поднялся и пошел к пятой роте.
– То то смеху, – сказал он, возвращаясь. – Два хранцуза пристали. Один мерзлый вовсе, а другой такой куражный, бяда! Песни играет.
– О о? пойти посмотреть… – Несколько солдат направились к пятой роте.
Пятая рота стояла подле самого леса. Огромный костер ярко горел посреди снега, освещая отягченные инеем ветви деревьев.
В середине ночи солдаты пятой роты услыхали в лесу шаги по снегу и хряск сучьев.
– Ребята, ведмедь, – сказал один солдат. Все подняли головы, прислушались, и из леса, в яркий свет костра, выступили две, держащиеся друг за друга, человеческие, странно одетые фигуры.
Это были два прятавшиеся в лесу француза. Хрипло говоря что то на непонятном солдатам языке, они подошли к костру. Один был повыше ростом, в офицерской шляпе, и казался совсем ослабевшим. Подойдя к костру, он хотел сесть, но упал на землю. Другой, маленький, коренастый, обвязанный платком по щекам солдат, был сильнее. Он поднял своего товарища и, указывая на свой рот, говорил что то. Солдаты окружили французов, подстелили больному шинель и обоим принесли каши и водки.
Ослабевший французский офицер был Рамбаль; повязанный платком был его денщик Морель.
Когда Морель выпил водки и доел котелок каши, он вдруг болезненно развеселился и начал не переставая говорить что то не понимавшим его солдатам. Рамбаль отказывался от еды и молча лежал на локте у костра, бессмысленными красными глазами глядя на русских солдат. Изредка он издавал протяжный стон и опять замолкал. Морель, показывая на плечи, внушал солдатам, что это был офицер и что его надо отогреть. Офицер русский, подошедший к костру, послал спросить у полковника, не возьмет ли он к себе отогреть французского офицера; и когда вернулись и сказали, что полковник велел привести офицера, Рамбалю передали, чтобы он шел. Он встал и хотел идти, но пошатнулся и упал бы, если бы подле стоящий солдат не поддержал его.
– Что? Не будешь? – насмешливо подмигнув, сказал один солдат, обращаясь к Рамбалю.
– Э, дурак! Что врешь нескладно! То то мужик, право, мужик, – послышались с разных сторон упреки пошутившему солдату. Рамбаля окружили, подняли двое на руки, перехватившись ими, и понесли в избу. Рамбаль обнял шеи солдат и, когда его понесли, жалобно заговорил:
– Oh, nies braves, oh, mes bons, mes bons amis! Voila des hommes! oh, mes braves, mes bons amis! [О молодцы! О мои добрые, добрые друзья! Вот люди! О мои добрые друзья!] – и, как ребенок, головой склонился на плечо одному солдату.
Между тем Морель сидел на лучшем месте, окруженный солдатами.
Морель, маленький коренастый француз, с воспаленными, слезившимися глазами, обвязанный по бабьи платком сверх фуражки, был одет в женскую шубенку. Он, видимо, захмелев, обнявши рукой солдата, сидевшего подле него, пел хриплым, перерывающимся голосом французскую песню. Солдаты держались за бока, глядя на него.
– Ну ка, ну ка, научи, как? Я живо перейму. Как?.. – говорил шутник песенник, которого обнимал Морель.
Vive Henri Quatre,
Vive ce roi vaillanti –
[Да здравствует Генрих Четвертый!
Да здравствует сей храбрый король!
и т. д. (французская песня) ]
пропел Морель, подмигивая глазом.
Сe diable a quatre…
– Виварика! Виф серувару! сидябляка… – повторил солдат, взмахнув рукой и действительно уловив напев.
– Вишь, ловко! Го го го го го!.. – поднялся с разных сторон грубый, радостный хохот. Морель, сморщившись, смеялся тоже.
– Ну, валяй еще, еще!
Qui eut le triple talent,
De boire, de battre,
Et d'etre un vert galant…
[Имевший тройной талант,
пить, драться
и быть любезником…]
– A ведь тоже складно. Ну, ну, Залетаев!..
– Кю… – с усилием выговорил Залетаев. – Кью ю ю… – вытянул он, старательно оттопырив губы, – летриптала, де бу де ба и детравагала, – пропел он.
– Ай, важно! Вот так хранцуз! ой… го го го го! – Что ж, еще есть хочешь?
– Дай ему каши то; ведь не скоро наестся с голоду то.
Опять ему дали каши; и Морель, посмеиваясь, принялся за третий котелок. Радостные улыбки стояли на всех лицах молодых солдат, смотревших на Мореля. Старые солдаты, считавшие неприличным заниматься такими пустяками, лежали с другой стороны костра, но изредка, приподнимаясь на локте, с улыбкой взглядывали на Мореля.
– Тоже люди, – сказал один из них, уворачиваясь в шинель. – И полынь на своем кореню растет.
– Оо! Господи, господи! Как звездно, страсть! К морозу… – И все затихло.
Звезды, как будто зная, что теперь никто не увидит их, разыгрались в черном небе. То вспыхивая, то потухая, то вздрагивая, они хлопотливо о чем то радостном, но таинственном перешептывались между собой.
Х
Войска французские равномерно таяли в математически правильной прогрессии. И тот переход через Березину, про который так много было писано, была только одна из промежуточных ступеней уничтожения французской армии, а вовсе не решительный эпизод кампании. Ежели про Березину так много писали и пишут, то со стороны французов это произошло только потому, что на Березинском прорванном мосту бедствия, претерпеваемые французской армией прежде равномерно, здесь вдруг сгруппировались в один момент и в одно трагическое зрелище, которое у всех осталось в памяти. Со стороны же русских так много говорили и писали про Березину только потому, что вдали от театра войны, в Петербурге, был составлен план (Пфулем же) поимки в стратегическую западню Наполеона на реке Березине. Все уверились, что все будет на деле точно так, как в плане, и потому настаивали на том, что именно Березинская переправа погубила французов. В сущности же, результаты Березинской переправы были гораздо менее гибельны для французов потерей орудий и пленных, чем Красное, как то показывают цифры.
Единственное значение Березинской переправы заключается в том, что эта переправа очевидно и несомненно доказала ложность всех планов отрезыванья и справедливость единственно возможного, требуемого и Кутузовым и всеми войсками (массой) образа действий, – только следования за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой быстроты, со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны, безоружные солдаты, московские жители, женщины с детьми, бывшие в обозе французов, – все под влиянием силы инерции не сдавалось, а бежало вперед в лодки, в мерзлую воду.
Стремление это было разумно. Положение и бегущих и преследующих было одинаково дурно. Оставаясь со своими, каждый в бедствии надеялся на помощь товарища, на определенное, занимаемое им место между своими. Отдавшись же русским, он был в том же положении бедствия, но становился на низшую ступень в разделе удовлетворения потребностей жизни. Французам не нужно было иметь верных сведений о том, что половина пленных, с которыми не знали, что делать, несмотря на все желание русских спасти их, – гибли от холода и голода; они чувствовали, что это не могло быть иначе. Самые жалостливые русские начальники и охотники до французов, французы в русской службе не могли ничего сделать для пленных. Французов губило бедствие, в котором находилось русское войско. Нельзя было отнять хлеб и платье у голодных, нужных солдат, чтобы отдать не вредным, не ненавидимым, не виноватым, но просто ненужным французам. Некоторые и делали это; но это было только исключение.
Назади была верная погибель; впереди была надежда. Корабли были сожжены; не было другого спасения, кроме совокупного бегства, и на это совокупное бегство были устремлены все силы французов.
Чем дальше бежали французы, чем жальче были их остатки, в особенности после Березины, на которую, вследствие петербургского плана, возлагались особенные надежды, тем сильнее разгорались страсти русских начальников, обвинявших друг друга и в особенности Кутузова. Полагая, что неудача Березинского петербургского плана будет отнесена к нему, недовольство им, презрение к нему и подтрунивание над ним выражались сильнее и сильнее. Подтрунивание и презрение, само собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, в которой Кутузов не мог и спросить, в чем и за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения, делали вид исполнения печального обряда, а за спиной его подмигивали и на каждом шагу старались его обманывать.
Всеми этими людьми, именно потому, что они не могли понимать его, было признано, что со стариком говорить нечего; что он никогда не поймет всего глубокомыслия их планов; что он будет отвечать свои фразы (им казалось, что это только фразы) о золотом мосте, о том, что за границу нельзя прийти с толпой бродяг, и т. п. Это всё они уже слышали от него. И все, что он говорил: например, то, что надо подождать провиант, что люди без сапог, все это было так просто, а все, что они предлагали, было так сложно и умно, что очевидно было для них, что он был глуп и стар, а они были не властные, гениальные полководцы.
В особенности после соединения армий блестящего адмирала и героя Петербурга Витгенштейна это настроение и штабная сплетня дошли до высших пределов. Кутузов видел это и, вздыхая, пожимал только плечами. Только один раз, после Березины, он рассердился и написал Бенигсену, доносившему отдельно государю, следующее письмо:
«По причине болезненных ваших припадков, извольте, ваше высокопревосходительство, с получения сего, отправиться в Калугу, где и ожидайте дальнейшего повеления и назначения от его императорского величества».
Но вслед за отсылкой Бенигсена к армии приехал великий князь Константин Павлович, делавший начало кампании и удаленный из армии Кутузовым. Теперь великий князь, приехав к армии, сообщил Кутузову о неудовольствии государя императора за слабые успехи наших войск и за медленность движения. Государь император сам на днях намеревался прибыть к армии.
Старый человек, столь же опытный в придворном деле, как и в военном, тот Кутузов, который в августе того же года был выбран главнокомандующим против воли государя, тот, который удалил наследника и великого князя из армии, тот, который своей властью, в противность воле государя, предписал оставление Москвы, этот Кутузов теперь тотчас же понял, что время его кончено, что роль его сыграна и что этой мнимой власти у него уже нет больше. И не по одним придворным отношениям он понял это. С одной стороны, он видел, что военное дело, то, в котором он играл свою роль, – кончено, и чувствовал, что его призвание исполнено. С другой стороны, он в то же самое время стал чувствовать физическую усталость в своем старом теле и необходимость физического отдыха.
29 ноября Кутузов въехал в Вильно – в свою добрую Вильну, как он говорил. Два раза в свою службу Кутузов был в Вильне губернатором. В богатой уцелевшей Вильне, кроме удобств жизни, которых так давно уже он был лишен, Кутузов нашел старых друзей и воспоминания. И он, вдруг отвернувшись от всех военных и государственных забот, погрузился в ровную, привычную жизнь настолько, насколько ему давали покоя страсти, кипевшие вокруг него, как будто все, что совершалось теперь и имело совершиться в историческом мире, нисколько его не касалось.
Чичагов, один из самых страстных отрезывателей и опрокидывателей, Чичагов, который хотел сначала сделать диверсию в Грецию, а потом в Варшаву, но никак не хотел идти туда, куда ему было велено, Чичагов, известный своею смелостью речи с государем, Чичагов, считавший Кутузова собою облагодетельствованным, потому что, когда он был послан в 11 м году для заключения мира с Турцией помимо Кутузова, он, убедившись, что мир уже заключен, признал перед государем, что заслуга заключения мира принадлежит Кутузову; этот то Чичагов первый встретил Кутузова в Вильне у замка, в котором должен был остановиться Кутузов. Чичагов в флотском вицмундире, с кортиком, держа фуражку под мышкой, подал Кутузову строевой рапорт и ключи от города. То презрительно почтительное отношение молодежи к выжившему из ума старику выражалось в высшей степени во всем обращении Чичагова, знавшего уже обвинения, взводимые на Кутузова.
Разговаривая с Чичаговым, Кутузов, между прочим, сказал ему, что отбитые у него в Борисове экипажи с посудою целы и будут возвращены ему.
– C'est pour me dire que je n'ai pas sur quoi manger… Je puis au contraire vous fournir de tout dans le cas meme ou vous voudriez donner des diners, [Вы хотите мне сказать, что мне не на чем есть. Напротив, могу вам служить всем, даже если бы вы захотели давать обеды.] – вспыхнув, проговорил Чичагов, каждым словом своим желавший доказать свою правоту и потому предполагавший, что и Кутузов был озабочен этим самым. Кутузов улыбнулся своей тонкой, проницательной улыбкой и, пожав плечами, отвечал: – Ce n'est que pour vous dire ce que je vous dis. [Я хочу сказать только то, что говорю.]
В Вильне Кутузов, в противность воле государя, остановил большую часть войск. Кутузов, как говорили его приближенные, необыкновенно опустился и физически ослабел в это свое пребывание в Вильне. Он неохотно занимался делами по армии, предоставляя все своим генералам и, ожидая государя, предавался рассеянной жизни.
Выехав с своей свитой – графом Толстым, князем Волконским, Аракчеевым и другими, 7 го декабря из Петербурга, государь 11 го декабря приехал в Вильну и в дорожных санях прямо подъехал к замку. У замка, несмотря на сильный мороз, стояло человек сто генералов и штабных офицеров в полной парадной форме и почетный караул Семеновского полка.
Курьер, подскакавший к замку на потной тройке, впереди государя, прокричал: «Едет!» Коновницын бросился в сени доложить Кутузову, дожидавшемуся в маленькой швейцарской комнатке.
Через минуту толстая большая фигура старика, в полной парадной форме, со всеми регалиями, покрывавшими грудь, и подтянутым шарфом брюхом, перекачиваясь, вышла на крыльцо. Кутузов надел шляпу по фронту, взял в руки перчатки и бочком, с трудом переступая вниз ступеней, сошел с них и взял в руку приготовленный для подачи государю рапорт.
Беготня, шепот, еще отчаянно пролетевшая тройка, и все глаза устремились на подскакивающие сани, в которых уже видны были фигуры государя и Волконского.
Все это по пятидесятилетней привычке физически тревожно подействовало на старого генерала; он озабоченно торопливо ощупал себя, поправил шляпу и враз, в ту минуту как государь, выйдя из саней, поднял к нему глаза, подбодрившись и вытянувшись, подал рапорт и стал говорить своим мерным, заискивающим голосом.
Государь быстрым взглядом окинул Кутузова с головы до ног, на мгновенье нахмурился, но тотчас же, преодолев себя, подошел и, расставив руки, обнял старого генерала. Опять по старому, привычному впечатлению и по отношению к задушевной мысли его, объятие это, как и обыкновенно, подействовало на Кутузова: он всхлипнул.
Государь поздоровался с офицерами, с Семеновским караулом и, пожав еще раз за руку старика, пошел с ним в замок.
Оставшись наедине с фельдмаршалом, государь высказал ему свое неудовольствие за медленность преследования, за ошибки в Красном и на Березине и сообщил свои соображения о будущем походе за границу. Кутузов не делал ни возражений, ни замечаний. То самое покорное и бессмысленное выражение, с которым он, семь лет тому назад, выслушивал приказания государя на Аустерлицком поле, установилось теперь на его лице.
Когда Кутузов вышел из кабинета и своей тяжелой, ныряющей походкой, опустив голову, пошел по зале, чей то голос остановил его.
– Ваша светлость, – сказал кто то.
Кутузов поднял голову и долго смотрел в глаза графу Толстому, который, с какой то маленькою вещицей на серебряном блюде, стоял перед ним. Кутузов, казалось, не понимал, чего от него хотели.
Вдруг он как будто вспомнил: чуть заметная улыбка мелькнула на его пухлом лице, и он, низко, почтительно наклонившись, взял предмет, лежавший на блюде. Это был Георгий 1 й степени.
На другой день были у фельдмаршала обед и бал, которые государь удостоил своим присутствием. Кутузову пожалован Георгий 1 й степени; государь оказывал ему высочайшие почести; но неудовольствие государя против фельдмаршала было известно каждому. Соблюдалось приличие, и государь показывал первый пример этого; но все знали, что старик виноват и никуда не годится. Когда на бале Кутузов, по старой екатерининской привычке, при входе государя в бальную залу велел к ногам его повергнуть взятые знамена, государь неприятно поморщился и проговорил слова, в которых некоторые слышали: «старый комедиант».
Неудовольствие государя против Кутузова усилилось в Вильне в особенности потому, что Кутузов, очевидно, не хотел или не мог понимать значение предстоящей кампании.
Когда на другой день утром государь сказал собравшимся у него офицерам: «Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу», – все уже тогда поняли, что война не кончена.
Один Кутузов не хотел понимать этого и открыто говорил свое мнение о том, что новая война не может улучшить положение и увеличить славу России, а только может ухудшить ее положение и уменьшить ту высшую степень славы, на которой, по его мнению, теперь стояла Россия. Он старался доказать государю невозможность набрания новых войск; говорил о тяжелом положении населений, о возможности неудач и т. п.
При таком настроении фельдмаршал, естественно, представлялся только помехой и тормозом предстоящей войны.
Для избежания столкновений со стариком сам собою нашелся выход, состоящий в том, чтобы, как в Аустерлице и как в начале кампании при Барклае, вынуть из под главнокомандующего, не тревожа его, не объявляя ему о том, ту почву власти, на которой он стоял, и перенести ее к самому государю.
С этою целью понемногу переформировался штаб, и вся существенная сила штаба Кутузова была уничтожена и перенесена к государю. Толь, Коновницын, Ермолов – получили другие назначения. Все громко говорили, что фельдмаршал стал очень слаб и расстроен здоровьем.
Ему надо было быть слабым здоровьем, для того чтобы передать свое место тому, кто заступал его. И действительно, здоровье его было слабо.
Как естественно, и просто, и постепенно явился Кутузов из Турции в казенную палату Петербурга собирать ополчение и потом в армию, именно тогда, когда он был необходим, точно так же естественно, постепенно и просто теперь, когда роль Кутузова была сыграна, на место его явился новый, требовавшийся деятель.
Война 1812 го года, кроме своего дорогого русскому сердцу народного значения, должна была иметь другое – европейское.
За движением народов с запада на восток должно было последовать движение народов с востока на запад, и для этой новой войны нужен был новый деятель, имеющий другие, чем Кутузов, свойства, взгляды, движимый другими побуждениями.
Александр Первый для движения народов с востока на запад и для восстановления границ народов был так же необходим, как необходим был Кутузов для спасения и славы России.
Кутузов не понимал того, что значило Европа, равновесие, Наполеон. Он не мог понимать этого. Представителю русского народа, после того как враг был уничтожен, Россия освобождена и поставлена на высшую степень своей славы, русскому человеку, как русскому, делать больше было нечего. Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер.
Пьер, как это большею частью бывает, почувствовал всю тяжесть физических лишений и напряжений, испытанных в плену, только тогда, когда эти напряжения и лишения кончились. После своего освобождения из плена он приехал в Орел и на третий день своего приезда, в то время как он собрался в Киев, заболел и пролежал больным в Орле три месяца; с ним сделалась, как говорили доктора, желчная горячка. Несмотря на то, что доктора лечили его, пускали кровь и давали пить лекарства, он все таки выздоровел.
Все, что было с Пьером со времени освобождения и до болезни, не оставило в нем почти никакого впечатления. Он помнил только серую, мрачную, то дождливую, то снежную погоду, внутреннюю физическую тоску, боль в ногах, в боку; помнил общее впечатление несчастий, страданий людей; помнил тревожившее его любопытство офицеров, генералов, расспрашивавших его, свои хлопоты о том, чтобы найти экипаж и лошадей, и, главное, помнил свою неспособность мысли и чувства в то время. В день своего освобождения он видел труп Пети Ростова. В тот же день он узнал, что князь Андрей был жив более месяца после Бородинского сражения и только недавно умер в Ярославле, в доме Ростовых. И в тот же день Денисов, сообщивший эту новость Пьеру, между разговором упомянул о смерти Элен, предполагая, что Пьеру это уже давно известно. Все это Пьеру казалось тогда только странно. Он чувствовал, что не может понять значения всех этих известий. Он тогда торопился только поскорее, поскорее уехать из этих мест, где люди убивали друг друга, в какое нибудь тихое убежище и там опомниться, отдохнуть и обдумать все то странное и новое, что он узнал за это время. Но как только он приехал в Орел, он заболел. Проснувшись от своей болезни, Пьер увидал вокруг себя своих двух людей, приехавших из Москвы, – Терентия и Ваську, и старшую княжну, которая, живя в Ельце, в имении Пьера, и узнав о его освобождении и болезни, приехала к нему, чтобы ходить за ним.
Во время своего выздоровления Пьер только понемногу отвыкал от сделавшихся привычными ему впечатлений последних месяцев и привыкал к тому, что его никто никуда не погонит завтра, что теплую постель его никто не отнимет и что у него наверное будет обед, и чай, и ужин. Но во сне он еще долго видел себя все в тех же условиях плена. Так же понемногу Пьер понимал те новости, которые он узнал после своего выхода из плена: смерть князя Андрея, смерть жены, уничтожение французов.
Радостное чувство свободы – той полной, неотъемлемой, присущей человеку свободы, сознание которой он в первый раз испытал на первом привале, при выходе из Москвы, наполняло душу Пьера во время его выздоровления. Он удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая от внешних обстоятельств, теперь как будто с излишком, с роскошью обставлялась и внешней свободой. Он был один в чужом городе, без знакомых. Никто от него ничего не требовал; никуда его не посылали. Все, что ему хотелось, было у него; вечно мучившей его прежде мысли о жене больше не было, так как и ее уже не было.
– Ах, как хорошо! Как славно! – говорил он себе, когда ему подвигали чисто накрытый стол с душистым бульоном, или когда он на ночь ложился на мягкую чистую постель, или когда ему вспоминалось, что жены и французов нет больше. – Ах, как хорошо, как славно! – И по старой привычке он делал себе вопрос: ну, а потом что? что я буду делать? И тотчас же он отвечал себе: ничего. Буду жить. Ах, как славно!
То самое, чем он прежде мучился, чего он искал постоянно, цели жизни, теперь для него не существовало. Эта искомая цель жизни теперь не случайно не существовала для него только в настоящую минуту, но он чувствовал, что ее нет и не может быть. И это то отсутствие цели давало ему то полное, радостное сознание свободы, которое в это время составляло его счастие.
Он не мог иметь цели, потому что он теперь имел веру, – не веру в какие нибудь правила, или слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущаемого бога. Прежде он искал его в целях, которые он ставил себе. Это искание цели было только искание бога; и вдруг он узнал в своем плену не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уж говорила нянюшка: что бог вот он, тут, везде. Он в плену узнал, что бог в Каратаеве более велик, бесконечен и непостижим, чем в признаваемом масонами Архитектоне вселенной. Он испытывал чувство человека, нашедшего искомое у себя под ногами, тогда как он напрягал зрение, глядя далеко от себя. Он всю жизнь свою смотрел туда куда то, поверх голов окружающих людей, а надо было не напрягать глаз, а только смотреть перед собой.
Он не умел видеть прежде великого, непостижимого и бесконечного ни в чем. Он только чувствовал, что оно должно быть где то, и искал его. Во всем близком, понятном он видел одно ограниченное, мелкое, житейское, бессмысленное. Он вооружался умственной зрительной трубой и смотрел в даль, туда, где это мелкое, житейское, скрываясь в тумане дали, казалось ему великим и бесконечным оттого только, что оно было неясно видимо. Таким ему представлялась европейская жизнь, политика, масонство, философия, филантропия. Но и тогда, в те минуты, которые он считал своей слабостью, ум его проникал и в эту даль, и там он видел то же мелкое, житейское, бессмысленное. Теперь же он выучился видеть великое, вечное и бесконечное во всем, и потому естественно, чтобы видеть его, чтобы наслаждаться его созерцанием, он бросил трубу, в которую смотрел до сих пор через головы людей, и радостно созерцал вокруг себя вечно изменяющуюся, вечно великую, непостижимую и бесконечную жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был спокоен и счастлив. Прежде разрушавший все его умственные постройки страшный вопрос: зачем? теперь для него не существовал. Теперь на этот вопрос – зачем? в душе его всегда готов был простой ответ: затем, что есть бог, тот бог, без воли которого не спадет волос с головы человека.
Пьер почти не изменился в своих внешних приемах. На вид он был точно таким же, каким он был прежде. Так же, как и прежде, он был рассеян и казался занятым не тем, что было перед глазами, а чем то своим, особенным. Разница между прежним и теперешним его состоянием состояла в том, что прежде, когда он забывал то, что было перед ним, то, что ему говорили, он, страдальчески сморщивши лоб, как будто пытался и не мог разглядеть чего то, далеко отстоящего от него. Теперь он так же забывал то, что ему говорили, и то, что было перед ним; но теперь с чуть заметной, как будто насмешливой, улыбкой он всматривался в то самое, что было перед ним, вслушивался в то, что ему говорили, хотя очевидно видел и слышал что то совсем другое. Прежде он казался хотя и добрым человеком, но несчастным; и потому невольно люди отдалялись от него. Теперь улыбка радости жизни постоянно играла около его рта, и в глазах его светилось участие к людям – вопрос: довольны ли они так же, как и он? И людям приятно было в его присутствии.
Прежде он много говорил, горячился, когда говорил, и мало слушал; теперь он редко увлекался разговором и умел слушать так, что люди охотно высказывали ему свои самые задушевные тайны.
Княжна, никогда не любившая Пьера и питавшая к нему особенно враждебное чувство с тех пор, как после смерти старого графа она чувствовала себя обязанной Пьеру, к досаде и удивлению своему, после короткого пребывания в Орле, куда она приехала с намерением доказать Пьеру, что, несмотря на его неблагодарность, она считает своим долгом ходить за ним, княжна скоро почувствовала, что она его любит. Пьер ничем не заискивал расположения княжны. Он только с любопытством рассматривал ее. Прежде княжна чувствовала, что в его взгляде на нее были равнодушие и насмешка, и она, как и перед другими людьми, сжималась перед ним и выставляла только свою боевую сторону жизни; теперь, напротив, она чувствовала, что он как будто докапывался до самых задушевных сторон ее жизни; и она сначала с недоверием, а потом с благодарностью выказывала ему затаенные добрые стороны своего характера.
Самый хитрый человек не мог бы искуснее вкрасться в доверие княжны, вызывая ее воспоминания лучшего времени молодости и выказывая к ним сочувствие. А между тем вся хитрость Пьера состояла только в том, что он искал своего удовольствия, вызывая в озлобленной, cyхой и по своему гордой княжне человеческие чувства.
– Да, он очень, очень добрый человек, когда находится под влиянием не дурных людей, а таких людей, как я, – говорила себе княжна.
Перемена, происшедшая в Пьере, была замечена по своему и его слугами – Терентием и Васькой. Они находили, что он много попростел. Терентий часто, раздев барина, с сапогами и платьем в руке, пожелав покойной ночи, медлил уходить, ожидая, не вступит ли барин в разговор. И большею частью Пьер останавливал Терентия, замечая, что ему хочется поговорить.
– Ну, так скажи мне… да как же вы доставали себе еду? – спрашивал он. И Терентий начинал рассказ о московском разорении, о покойном графе и долго стоял с платьем, рассказывая, а иногда слушая рассказы Пьера, и, с приятным сознанием близости к себе барина и дружелюбия к нему, уходил в переднюю.
Доктор, лечивший Пьера и навещавший его каждый день, несмотря на то, что, по обязанности докторов, считал своим долгом иметь вид человека, каждая минута которого драгоценна для страждущего человечества, засиживался часами у Пьера, рассказывая свои любимые истории и наблюдения над нравами больных вообще и в особенности дам.
– Да, вот с таким человеком поговорить приятно, не то, что у нас, в провинции, – говорил он.
В Орле жило несколько пленных французских офицеров, и доктор привел одного из них, молодого итальянского офицера.
Офицер этот стал ходить к Пьеру, и княжна смеялась над теми нежными чувствами, которые выражал итальянец к Пьеру.
Итальянец, видимо, был счастлив только тогда, когда он мог приходить к Пьеру и разговаривать и рассказывать ему про свое прошедшее, про свою домашнюю жизнь, про свою любовь и изливать ему свое негодование на французов, и в особенности на Наполеона.
– Ежели все русские хотя немного похожи на вас, – говорил он Пьеру, – c'est un sacrilege que de faire la guerre a un peuple comme le votre. [Это кощунство – воевать с таким народом, как вы.] Вы, пострадавшие столько от французов, вы даже злобы не имеете против них.
И страстную любовь итальянца Пьер теперь заслужил только тем, что он вызывал в нем лучшие стороны его души и любовался ими.
Последнее время пребывания Пьера в Орле к нему приехал его старый знакомый масон – граф Вилларский, – тот самый, который вводил его в ложу в 1807 году. Вилларский был женат на богатой русской, имевшей большие имения в Орловской губернии, и занимал в городе временное место по продовольственной части.
Узнав, что Безухов в Орле, Вилларский, хотя и никогда не был коротко знаком с ним, приехал к нему с теми заявлениями дружбы и близости, которые выражают обыкновенно друг другу люди, встречаясь в пустыне. Вилларский скучал в Орле и был счастлив, встретив человека одного с собой круга и с одинаковыми, как он полагал, интересами.
Но, к удивлению своему, Вилларский заметил скоро, что Пьер очень отстал от настоящей жизни и впал, как он сам с собою определял Пьера, в апатию и эгоизм.
– Vous vous encroutez, mon cher, [Вы запускаетесь, мой милый.] – говорил он ему. Несмотря на то, Вилларскому было теперь приятнее с Пьером, чем прежде, и он каждый день бывал у него. Пьеру же, глядя на Вилларского и слушая его теперь, странно и невероятно было думать, что он сам очень недавно был такой же.
Вилларский был женат, семейный человек, занятый и делами имения жены, и службой, и семьей. Он считал, что все эти занятия суть помеха в жизни и что все они презренны, потому что имеют целью личное благо его и семьи. Военные, административные, политические, масонские соображения постоянно поглощали его внимание. И Пьер, не стараясь изменить его взгляд, не осуждая его, с своей теперь постоянно тихой, радостной насмешкой, любовался на это странное, столь знакомое ему явление.
В отношениях своих с Вилларским, с княжною, с доктором, со всеми людьми, с которыми он встречался теперь, в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей: это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею жизнью и между собою, радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку.
В практических делах Пьер неожиданно теперь почувствовал, что у него был центр тяжести, которого не было прежде. Прежде каждый денежный вопрос, в особенности просьбы о деньгах, которым он, как очень богатый человек, подвергался очень часто, приводили его в безвыходные волнения и недоуменья. «Дать или не дать?» – спрашивал он себя. «У меня есть, а ему нужно. Но другому еще нужнее. Кому нужнее? А может быть, оба обманщики?» И из всех этих предположений он прежде не находил никакого выхода и давал всем, пока было что давать. Точно в таком же недоуменье он находился прежде при каждом вопросе, касающемся его состояния, когда один говорил, что надо поступить так, а другой – иначе.
Теперь, к удивлению своему, он нашел, что во всех этих вопросах не было более сомнений и недоумений. В нем теперь явился судья, по каким то неизвестным ему самому законам решавший, что было нужно и чего не нужно делать.
Он был так же, как прежде, равнодушен к денежным делам; но теперь он несомненно знал, что должно сделать и чего не должно. Первым приложением этого нового судьи была для него просьба пленного французского полковника, пришедшего к нему, много рассказывавшего о своих подвигах и под конец заявившего почти требование о том, чтобы Пьер дал ему четыре тысячи франков для отсылки жене и детям. Пьер без малейшего труда и напряжения отказал ему, удивляясь впоследствии, как было просто и легко то, что прежде казалось неразрешимо трудным. Вместе с тем тут же, отказывая полковнику, он решил, что необходимо употребить хитрость для того, чтобы, уезжая из Орла, заставить итальянского офицера взять денег, в которых он, видимо, нуждался. Новым доказательством для Пьера его утвердившегося взгляда на практические дела было его решение вопроса о долгах жены и о возобновлении или невозобновлении московских домов и дач.
В Орел приезжал к нему его главный управляющий, и с ним Пьер сделал общий счет своих изменявшихся доходов. Пожар Москвы стоил Пьеру, по учету главно управляющего, около двух миллионов.
Главноуправляющий, в утешение этих потерь, представил Пьеру расчет о том, что, несмотря на эти потери, доходы его не только не уменьшатся, но увеличатся, если он откажется от уплаты долгов, оставшихся после графини, к чему он не может быть обязан, и если он не будет возобновлять московских домов и подмосковной, которые стоили ежегодно восемьдесят тысяч и ничего не приносили.
– Да, да, это правда, – сказал Пьер, весело улыбаясь. – Да, да, мне ничего этого не нужно. Я от разоренья стал гораздо богаче.
Но в январе приехал Савельич из Москвы, рассказал про положение Москвы, про смету, которую ему сделал архитектор для возобновления дома и подмосковной, говоря про это, как про дело решенное. В это же время Пьер получил письмо от князя Василия и других знакомых из Петербурга. В письмах говорилось о долгах жены. И Пьер решил, что столь понравившийся ему план управляющего был неверен и что ему надо ехать в Петербург покончить дела жены и строиться в Москве. Зачем было это надо, он не знал; но он знал несомненно, что это надо. Доходы его вследствие этого решения уменьшались на три четверти. Но это было надо; он это чувствовал.
Вилларский ехал в Москву, и они условились ехать вместе.
Пьер испытывал во все время своего выздоровления в Орле чувство радости, свободы, жизни; но когда он, во время своего путешествия, очутился на вольном свете, увидал сотни новых лиц, чувство это еще более усилилось. Он все время путешествия испытывал радость школьника на вакации. Все лица: ямщик, смотритель, мужики на дороге или в деревне – все имели для него новый смысл. Присутствие и замечания Вилларского, постоянно жаловавшегося на бедность, отсталость от Европы, невежество России, только возвышали радость Пьера. Там, где Вилларский видел мертвенность, Пьер видел необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая в снегу, на этом пространстве, поддерживала жизнь этого целого, особенного и единого народа. Он не противоречил Вилларскому и, как будто соглашаясь с ним (так как притворное согласие было кратчайшее средство обойти рассуждения, из которых ничего не могло выйти), радостно улыбался, слушая его.
Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку – для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, – так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же, как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего то неразрушимого, невещественного, составляющего всю силу кочки, – так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какою она была в августе. Все было разрушено, кроме чего то невещественного, но могущественного и неразрушимого.
Побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные, и в первое время большей частью – дикие, животные. Одно только побуждение было общее всем – это стремление туда, в то место, которое прежде называлось Москвой, для приложения там своей деятельности.
Через неделю в Москве уже было пятнадцать тысяч жителей, через две было двадцать пять тысяч и т. д. Все возвышаясь и возвышаясь, число это к осени 1813 года дошло до цифры, превосходящей население 12 го года.
Первые русские люди, которые вступили в Москву, были казаки отряда Винцингероде, мужики из соседних деревень и бежавшие из Москвы и скрывавшиеся в ее окрестностях жители. Вступившие в разоренную Москву русские, застав ее разграбленною, стали тоже грабить. Они продолжали то, что делали французы. Обозы мужиков приезжали в Москву с тем, чтобы увозить по деревням все, что было брошено по разоренным московским домам и улицам. Казаки увозили, что могли, в свои ставки; хозяева домов забирали все то, что они находили и других домах, и переносили к себе под предлогом, что это была их собственность.
Но за первыми грабителями приезжали другие, третьи, и грабеж с каждым днем, по мере увеличения грабителей, становился труднее и труднее и принимал более определенные формы.
Французы застали Москву хотя и пустою, но со всеми формами органически правильно жившего города, с его различными отправлениями торговли, ремесел, роскоши, государственного управления, религии. Формы эти были безжизненны, но они еще существовали. Были ряды, лавки, магазины, лабазы, базары – большинство с товарами; были фабрики, ремесленные заведения; были дворцы, богатые дома, наполненные предметами роскоши; были больницы, остроги, присутственные места, церкви, соборы. Чем долее оставались французы, тем более уничтожались эти формы городской жизни, и под конец все слилось в одно нераздельное, безжизненное поле грабежа.
Грабеж французов, чем больше он продолжался, тем больше разрушал богатства Москвы и силы грабителей. Грабеж русских, с которого началось занятие русскими столицы, чем дольше он продолжался, чем больше было в нем участников, тем быстрее восстановлял он богатство Москвы и правильную жизнь города.
Кроме грабителей, народ самый разнообразный, влекомый – кто любопытством, кто долгом службы, кто расчетом, – домовладельцы, духовенство, высшие и низшие чиновники, торговцы, ремесленники, мужики – с разных сторон, как кровь к сердцу, – приливали к Москве.
Через неделю уже мужики, приезжавшие с пустыми подводами, для того чтоб увозить вещи, были останавливаемы начальством и принуждаемы к тому, чтобы вывозить мертвые тела из города. Другие мужики, прослышав про неудачу товарищей, приезжали в город с хлебом, овсом, сеном, сбивая цену друг другу до цены ниже прежней. Артели плотников, надеясь на дорогие заработки, каждый день входили в Москву, и со всех сторон рубились новые, чинились погорелые дома. Купцы в балаганах открывали торговлю. Харчевни, постоялые дворы устраивались в обгорелых домах. Духовенство возобновило службу во многих не погоревших церквах. Жертвователи приносили разграбленные церковные вещи. Чиновники прилаживали свои столы с сукном и шкафы с бумагами в маленьких комнатах. Высшее начальство и полиция распоряжались раздачею оставшегося после французов добра. Хозяева тех домов, в которых было много оставлено свезенных из других домов вещей, жаловались на несправедливость своза всех вещей в Грановитую палату; другие настаивали на том, что французы из разных домов свезли вещи в одно место, и оттого несправедливо отдавать хозяину дома те вещи, которые у него найдены. Бранили полицию; подкупали ее; писали вдесятеро сметы на погоревшие казенные вещи; требовали вспомоществований. Граф Растопчин писал свои прокламации.
В конце января Пьер приехал в Москву и поселился в уцелевшем флигеле. Он съездил к графу Растопчину, к некоторым знакомым, вернувшимся в Москву, и собирался на третий день ехать в Петербург. Все торжествовали победу; все кипело жизнью в разоренной и оживающей столице. Пьеру все были рады; все желали видеть его, и все расспрашивали его про то, что он видел. Пьер чувствовал себя особенно дружелюбно расположенным ко всем людям, которых он встречал; но невольно теперь он держал себя со всеми людьми настороже, так, чтобы не связать себя чем нибудь. Он на все вопросы, которые ему делали, – важные или самые ничтожные, – отвечал одинаково неопределенно; спрашивали ли у него: где он будет жить? будет ли он строиться? когда он едет в Петербург и возьмется ли свезти ящичек? – он отвечал: да, может быть, я думаю, и т. д.
О Ростовых он слышал, что они в Костроме, и мысль о Наташе редко приходила ему. Ежели она и приходила, то только как приятное воспоминание давно прошедшего. Он чувствовал себя не только свободным от житейских условий, но и от этого чувства, которое он, как ему казалось, умышленно напустил на себя.
На третий день своего приезда в Москву он узнал от Друбецких, что княжна Марья в Москве. Смерть, страдания, последние дни князя Андрея часто занимали Пьера и теперь с новой живостью пришли ему в голову. Узнав за обедом, что княжна Марья в Москве и живет в своем не сгоревшем доме на Вздвиженке, он в тот же вечер поехал к ней.
Дорогой к княжне Марье Пьер не переставая думал о князе Андрее, о своей дружбе с ним, о различных с ним встречах и в особенности о последней в Бородине.
«Неужели он умер в том злобном настроении, в котором он был тогда? Неужели не открылось ему перед смертью объяснение жизни?» – думал Пьер. Он вспомнил о Каратаеве, о его смерти и невольно стал сравнивать этих двух людей, столь различных и вместе с тем столь похожих по любви, которую он имел к обоим, и потому, что оба жили и оба умерли.
В самом серьезном расположении духа Пьер подъехал к дому старого князя. Дом этот уцелел. В нем видны были следы разрушения, но характер дома был тот же. Встретивший Пьера старый официант с строгим лицом, как будто желая дать почувствовать гостю, что отсутствие князя не нарушает порядка дома, сказал, что княжна изволили пройти в свои комнаты и принимают по воскресеньям.
– Доложи; может быть, примут, – сказал Пьер.
– Слушаю с, – отвечал официант, – пожалуйте в портретную.
Через несколько минут к Пьеру вышли официант и Десаль. Десаль от имени княжны передал Пьеру, что она очень рада видеть его и просит, если он извинит ее за бесцеремонность, войти наверх, в ее комнаты.
В невысокой комнатке, освещенной одной свечой, сидела княжна и еще кто то с нею, в черном платье. Пьер помнил, что при княжне всегда были компаньонки. Кто такие и какие они, эти компаньонки, Пьер не знал и не помнил. «Это одна из компаньонок», – подумал он, взглянув на даму в черном платье.
Княжна быстро встала ему навстречу и протянула руку.
– Да, – сказала она, всматриваясь в его изменившееся лицо, после того как он поцеловал ее руку, – вот как мы с вами встречаемся. Он и последнее время часто говорил про вас, – сказала она, переводя свои глаза с Пьера на компаньонку с застенчивостью, которая на мгновение поразила Пьера.
– Я так была рада, узнав о вашем спасенье. Это было единственное радостное известие, которое мы получили с давнего времени. – Опять еще беспокойнее княжна оглянулась на компаньонку и хотела что то сказать; но Пьер перебил ее.
– Вы можете себе представить, что я ничего не знал про него, – сказал он. – Я считал его убитым. Все, что я узнал, я узнал от других, через третьи руки. Я знаю только, что он попал к Ростовым… Какая судьба!
Пьер говорил быстро, оживленно. Он взглянул раз на лицо компаньонки, увидал внимательно ласково любопытный взгляд, устремленный на него, и, как это часто бывает во время разговора, он почему то почувствовал, что эта компаньонка в черном платье – милое, доброе, славное существо, которое не помешает его задушевному разговору с княжной Марьей.
Но когда он сказал последние слова о Ростовых, замешательство в лице княжны Марьи выразилось еще сильнее. Она опять перебежала глазами с лица Пьера на лицо дамы в черном платье и сказала:
– Вы не узнаете разве?
Пьер взглянул еще раз на бледное, тонкое, с черными глазами и странным ртом, лицо компаньонки. Что то родное, давно забытое и больше чем милое смотрело на него из этих внимательных глаз.
«Но нет, это не может быть, – подумал он. – Это строгое, худое и бледное, постаревшее лицо? Это не может быть она. Это только воспоминание того». Но в это время княжна Марья сказала: «Наташа». И лицо, с внимательными глазами, с трудом, с усилием, как отворяется заржавелая дверь, – улыбнулось, и из этой растворенной двери вдруг пахнуло и обдало Пьера тем давно забытым счастием, о котором, в особенности теперь, он не думал. Пахнуло, охватило и поглотило его всего. Когда она улыбнулась, уже не могло быть сомнений: это была Наташа, и он любил ее.
В первую же минуту Пьер невольно и ей, и княжне Марье, и, главное, самому себе сказал неизвестную ему самому тайну. Он покраснел радостно и страдальчески болезненно. Он хотел скрыть свое волнение. Но чем больше он хотел скрыть его, тем яснее – яснее, чем самыми определенными словами, – он себе, и ей, и княжне Марье говорил, что он любит ее.
«Нет, это так, от неожиданности», – подумал Пьер. Но только что он хотел продолжать начатый разговор с княжной Марьей, он опять взглянул на Наташу, и еще сильнейшая краска покрыла его лицо, и еще сильнейшее волнение радости и страха охватило его душу. Он запутался в словах и остановился на середине речи.
Пьер не заметил Наташи, потому что он никак не ожидал видеть ее тут, но он не узнал ее потому, что происшедшая в ней, с тех пор как он не видал ее, перемена была огромна. Она похудела и побледнела. Но не это делало ее неузнаваемой: ее нельзя было узнать в первую минуту, как он вошел, потому что на этом лице, в глазах которого прежде всегда светилась затаенная улыбка радости жизни, теперь, когда он вошел и в первый раз взглянул на нее, не было и тени улыбки; были одни глаза, внимательные, добрые и печально вопросительные.
Смущение Пьера не отразилось на Наташе смущением, но только удовольствием, чуть заметно осветившим все ее лицо.
– Она приехала гостить ко мне, – сказала княжна Марья. – Граф и графиня будут на днях. Графиня в ужасном положении. Но Наташе самой нужно было видеть доктора. Ее насильно отослали со мной.
– Да, есть ли семья без своего горя? – сказал Пьер, обращаясь к Наташе. – Вы знаете, что это было в тот самый день, как нас освободили. Я видел его. Какой был прелестный мальчик.
Наташа смотрела на него, и в ответ на его слова только больше открылись и засветились ее глаза.
– Что можно сказать или подумать в утешенье? – сказал Пьер. – Ничего. Зачем было умирать такому славному, полному жизни мальчику?
– Да, в наше время трудно жить бы было без веры… – сказала княжна Марья.
– Да, да. Вот это истинная правда, – поспешно перебил Пьер.
– Отчего? – спросила Наташа, внимательно глядя в глаза Пьеру.
– Как отчего? – сказала княжна Марья. – Одна мысль о том, что ждет там…
Наташа, не дослушав княжны Марьи, опять вопросительно поглядела на Пьера.
– И оттого, – продолжал Пьер, – что только тот человек, который верит в то, что есть бог, управляющий нами, может перенести такую потерю, как ее и… ваша, – сказал Пьер.
Наташа раскрыла уже рот, желая сказать что то, но вдруг остановилась. Пьер поспешил отвернуться от нее и обратился опять к княжне Марье с вопросом о последних днях жизни своего друга. Смущение Пьера теперь почти исчезло; но вместе с тем он чувствовал, что исчезла вся его прежняя свобода. Он чувствовал, что над каждым его словом, действием теперь есть судья, суд, который дороже ему суда всех людей в мире. Он говорил теперь и вместе с своими словами соображал то впечатление, которое производили его слова на Наташу. Он не говорил нарочно того, что бы могло понравиться ей; но, что бы он ни говорил, он с ее точки зрения судил себя.
Княжна Марья неохотно, как это всегда бывает, начала рассказывать про то положение, в котором она застала князя Андрея. Но вопросы Пьера, его оживленно беспокойный взгляд, его дрожащее от волнения лицо понемногу заставили ее вдаться в подробности, которые она боялась для самой себя возобновлять в воображенье.
– Да, да, так, так… – говорил Пьер, нагнувшись вперед всем телом над княжной Марьей и жадно вслушиваясь в ее рассказ. – Да, да; так он успокоился? смягчился? Он так всеми силами души всегда искал одного; быть вполне хорошим, что он не мог бояться смерти. Недостатки, которые были в нем, – если они были, – происходили не от него. Так он смягчился? – говорил Пьер. – Какое счастье, что он свиделся с вами, – сказал он Наташе, вдруг обращаясь к ней и глядя на нее полными слез глазами.
Лицо Наташи вздрогнуло. Она нахмурилась и на мгновенье опустила глаза. С минуту она колебалась: говорить или не говорить?
– Да, это было счастье, – сказала она тихим грудным голосом, – для меня наверное это было счастье. – Она помолчала. – И он… он… он говорил, что он желал этого, в ту минуту, как я пришла к нему… – Голос Наташи оборвался. Она покраснела, сжала руки на коленах и вдруг, видимо сделав усилие над собой, подняла голову и быстро начала говорить:
– Мы ничего не знали, когда ехали из Москвы. Я не смела спросить про него. И вдруг Соня сказала мне, что он с нами. Я ничего не думала, не могла представить себе, в каком он положении; мне только надо было видеть его, быть с ним, – говорила она, дрожа и задыхаясь. И, не давая перебивать себя, она рассказала то, чего она еще никогда, никому не рассказывала: все то, что она пережила в те три недели их путешествия и жизни в Ярославль.
Пьер слушал ее с раскрытым ртом и не спуская с нее своих глаз, полных слезами. Слушая ее, он не думал ни о князе Андрее, ни о смерти, ни о том, что она рассказывала. Он слушал ее и только жалел ее за то страдание, которое она испытывала теперь, рассказывая.
Княжна, сморщившись от желания удержать слезы, сидела подле Наташи и слушала в первый раз историю этих последних дней любви своего брата с Наташей.
Этот мучительный и радостный рассказ, видимо, был необходим для Наташи.
Она говорила, перемешивая ничтожнейшие подробности с задушевнейшими тайнами, и, казалось, никогда не могла кончить. Несколько раз она повторяла то же самое.
За дверью послышался голос Десаля, спрашивавшего, можно ли Николушке войти проститься.
– Да вот и все, все… – сказала Наташа. Она быстро встала, в то время как входил Николушка, и почти побежала к двери, стукнулась головой о дверь, прикрытую портьерой, и с стоном не то боли, не то печали вырвалась из комнаты.
Пьер смотрел на дверь, в которую она вышла, и не понимал, отчего он вдруг один остался во всем мире.
Княжна Марья вызвала его из рассеянности, обратив его внимание на племянника, который вошел в комнату.
Лицо Николушки, похожее на отца, в минуту душевного размягчения, в котором Пьер теперь находился, так на него подействовало, что он, поцеловав Николушку, поспешно встал и, достав платок, отошел к окну. Он хотел проститься с княжной Марьей, но она удержала его.
– Нет, мы с Наташей не спим иногда до третьего часа; пожалуйста, посидите. Я велю дать ужинать. Подите вниз; мы сейчас придем.
Прежде чем Пьер вышел, княжна сказала ему:
– Это в первый раз она так говорила о нем.
Пьера провели в освещенную большую столовую; через несколько минут послышались шаги, и княжна с Наташей вошли в комнату. Наташа была спокойна, хотя строгое, без улыбки, выражение теперь опять установилось на ее лице. Княжна Марья, Наташа и Пьер одинаково испытывали то чувство неловкости, которое следует обыкновенно за оконченным серьезным и задушевным разговором. Продолжать прежний разговор невозможно; говорить о пустяках – совестно, а молчать неприятно, потому что хочется говорить, а этим молчанием как будто притворяешься. Они молча подошли к столу. Официанты отодвинули и пододвинули стулья. Пьер развернул холодную салфетку и, решившись прервать молчание, взглянул на Наташу и княжну Марью. Обе, очевидно, в то же время решились на то же: у обеих в глазах светилось довольство жизнью и признание того, что, кроме горя, есть и радости.
– Вы пьете водку, граф? – сказала княжна Марья, и эти слова вдруг разогнали тени прошедшего.
– Расскажите же про себя, – сказала княжна Марья. – Про вас рассказывают такие невероятные чудеса.
– Да, – с своей, теперь привычной, улыбкой кроткой насмешки отвечал Пьер. – Мне самому даже рассказывают про такие чудеса, каких я и во сне не видел. Марья Абрамовна приглашала меня к себе и все рассказывала мне, что со мной случилось, или должно было случиться. Степан Степаныч тоже научил меня, как мне надо рассказывать. Вообще я заметил, что быть интересным человеком очень покойно (я теперь интересный человек); меня зовут и мне рассказывают.
Наташа улыбнулась и хотела что то сказать.
– Нам рассказывали, – перебила ее княжна Марья, – что вы в Москве потеряли два миллиона. Правда это?
– А я стал втрое богаче, – сказал Пьер. Пьер, несмотря на то, что долги жены и необходимость построек изменили его дела, продолжал рассказывать, что он стал втрое богаче.
– Что я выиграл несомненно, – сказал он, – так это свободу… – начал он было серьезно; но раздумал продолжать, заметив, что это был слишком эгоистический предмет разговора.
– А вы строитесь?
– Да, Савельич велит.
– Скажите, вы не знали еще о кончине графини, когда остались в Москве? – сказала княжна Марья и тотчас же покраснела, заметив, что, делая этот вопрос вслед за его словами о том, что он свободен, она приписывает его словам такое значение, которого они, может быть, не имели.
– Нет, – отвечал Пьер, не найдя, очевидно, неловким то толкование, которое дала княжна Марья его упоминанию о своей свободе. – Я узнал это в Орле, и вы не можете себе представить, как меня это поразило. Мы не были примерные супруги, – сказал он быстро, взглянув на Наташу и заметив в лице ее любопытство о том, как он отзовется о своей жене. – Но смерть эта меня страшно поразила. Когда два человека ссорятся – всегда оба виноваты. И своя вина делается вдруг страшно тяжела перед человеком, которого уже нет больше. И потом такая смерть… без друзей, без утешения. Мне очень, очень жаль еe, – кончил он и с удовольствием заметил радостное одобрение на лице Наташи.
– Да, вот вы опять холостяк и жених, – сказала княжна Марья.
Пьер вдруг багрово покраснел и долго старался не смотреть на Наташу. Когда он решился взглянуть на нее, лицо ее было холодно, строго и даже презрительно, как ему показалось.
– Но вы точно видели и говорили с Наполеоном, как нам рассказывали? – сказала княжна Марья.
Пьер засмеялся.
– Ни разу, никогда. Всегда всем кажется, что быть в плену – значит быть в гостях у Наполеона. Я не только не видал его, но и не слыхал о нем. Я был гораздо в худшем обществе.
Ужин кончался, и Пьер, сначала отказывавшийся от рассказа о своем плене, понемногу вовлекся в этот рассказ.
– Но ведь правда, что вы остались, чтоб убить Наполеона? – спросила его Наташа, слегка улыбаясь. – Я тогда догадалась, когда мы вас встретили у Сухаревой башни; помните?
Пьер признался, что это была правда, и с этого вопроса, понемногу руководимый вопросами княжны Марьи и в особенности Наташи, вовлекся в подробный рассказ о своих похождениях.
Сначала он рассказывал с тем насмешливым, кротким взглядом, который он имел теперь на людей и в особенности на самого себя; но потом, когда он дошел до рассказа об ужасах и страданиях, которые он видел, он, сам того не замечая, увлекся и стал говорить с сдержанным волнением человека, в воспоминании переживающего сильные впечатления.
Княжна Марья с кроткой улыбкой смотрела то на Пьера, то на Наташу. Она во всем этом рассказе видела только Пьера и его доброту. Наташа, облокотившись на руку, с постоянно изменяющимся, вместе с рассказом, выражением лица, следила, ни на минуту не отрываясь, за Пьером, видимо, переживая с ним вместе то, что он рассказывал. Не только ее взгляд, но восклицания и короткие вопросы, которые она делала, показывали Пьеру, что из того, что он рассказывал, она понимала именно то, что он хотел передать. Видно было, что она понимала не только то, что он рассказывал, но и то, что он хотел бы и не мог выразить словами. Про эпизод свой с ребенком и женщиной, за защиту которых он был взят, Пьер рассказал таким образом:
– Это было ужасное зрелище, дети брошены, некоторые в огне… При мне вытащили ребенка… женщины, с которых стаскивали вещи, вырывали серьги…
Пьер покраснел и замялся.
– Тут приехал разъезд, и всех тех, которые не грабили, всех мужчин забрали. И меня.
– Вы, верно, не все рассказываете; вы, верно, сделали что нибудь… – сказала Наташа и помолчала, – хорошее.
Пьер продолжал рассказывать дальше. Когда он рассказывал про казнь, он хотел обойти страшные подробности; но Наташа требовала, чтобы он ничего не пропускал.
Пьер начал было рассказывать про Каратаева (он уже встал из за стола и ходил, Наташа следила за ним глазами) и остановился.
– Нет, вы не можете понять, чему я научился у этого безграмотного человека – дурачка.
– Нет, нет, говорите, – сказала Наташа. – Он где же?
– Его убили почти при мне. – И Пьер стал рассказывать последнее время их отступления, болезнь Каратаева (голос его дрожал беспрестанно) и его смерть.
Пьер рассказывал свои похождения так, как он никогда их еще не рассказывал никому, как он сам с собою никогда еще не вспоминал их. Он видел теперь как будто новое значение во всем том, что он пережил. Теперь, когда он рассказывал все это Наташе, он испытывал то редкое наслаждение, которое дают женщины, слушая мужчину, – не умные женщины, которые, слушая, стараются или запомнить, что им говорят, для того чтобы обогатить свой ум и при случае пересказать то же или приладить рассказываемое к своему и сообщить поскорее свои умные речи, выработанные в своем маленьком умственном хозяйстве; а то наслажденье, которое дают настоящие женщины, одаренные способностью выбирания и всасыванья в себя всего лучшего, что только есть в проявлениях мужчины. Наташа, сама не зная этого, была вся внимание: она не упускала ни слова, ни колебания голоса, ни взгляда, ни вздрагиванья мускула лица, ни жеста Пьера. Она на лету ловила еще не высказанное слово и прямо вносила в свое раскрытое сердце, угадывая тайный смысл всей душевной работы Пьера.
Княжна Марья понимала рассказ, сочувствовала ему, но она теперь видела другое, что поглощало все ее внимание; она видела возможность любви и счастия между Наташей и Пьером. И в первый раз пришедшая ей эта мысль наполняла ее душу радостию.
Было три часа ночи. Официанты с грустными и строгими лицами приходили переменять свечи, но никто не замечал их.
Пьер кончил свой рассказ. Наташа блестящими, оживленными глазами продолжала упорно и внимательно глядеть на Пьера, как будто желая понять еще то остальное, что он не высказал, может быть. Пьер в стыдливом и счастливом смущении изредка взглядывал на нее и придумывал, что бы сказать теперь, чтобы перевести разговор на другой предмет. Княжна Марья молчала. Никому в голову не приходило, что три часа ночи и что пора спать.
– Говорят: несчастия, страдания, – сказал Пьер. – Да ежели бы сейчас, сию минуту мне сказали: хочешь оставаться, чем ты был до плена, или сначала пережить все это? Ради бога, еще раз плен и лошадиное мясо. Мы думаем, как нас выкинет из привычной дорожки, что все пропало; а тут только начинается новое, хорошее. Пока есть жизнь, есть и счастье. Впереди много, много. Это я вам говорю, – сказал он, обращаясь к Наташе.
– Да, да, – сказала она, отвечая на совсем другое, – и я ничего бы не желала, как только пережить все сначала.
Пьер внимательно посмотрел на нее.
– Да, и больше ничего, – подтвердила Наташа.
– Неправда, неправда, – закричал Пьер. – Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже.
Вдруг Наташа опустила голову на руки и заплакала.
– Что ты, Наташа? – сказала княжна Марья.
– Ничего, ничего. – Она улыбнулась сквозь слезы Пьеру. – Прощайте, пора спать.
Пьер встал и простился.
Княжна Марья и Наташа, как и всегда, сошлись в спальне. Они поговорили о том, что рассказывал Пьер. Княжна Марья не говорила своего мнения о Пьере. Наташа тоже не говорила о нем.
– Ну, прощай, Мари, – сказала Наташа. – Знаешь, я часто боюсь, что мы не говорим о нем (князе Андрее), как будто мы боимся унизить наше чувство, и забываем.
Княжна Марья тяжело вздохнула и этим вздохом признала справедливость слов Наташи; но словами она не согласилась с ней.
– Разве можно забыть? – сказала она.
– Мне так хорошо было нынче рассказать все; и тяжело, и больно, и хорошо. Очень хорошо, – сказала Наташа, – я уверена, что он точно любил его. От этого я рассказала ему… ничего, что я рассказала ему? – вдруг покраснев, спросила она.
– Пьеру? О нет! Какой он прекрасный, – сказала княжна Марья.
– Знаешь, Мари, – вдруг сказала Наташа с шаловливой улыбкой, которой давно не видала княжна Марья на ее лице. – Он сделался какой то чистый, гладкий, свежий; точно из бани, ты понимаешь? – морально из бани. Правда?
– Да, – сказала княжна Марья, – он много выиграл.
– И сюртучок коротенький, и стриженые волосы; точно, ну точно из бани… папа, бывало…
– Я понимаю, что он (князь Андрей) никого так не любил, как его, – сказала княжна Марья.
– Да, и он особенный от него. Говорят, что дружны мужчины, когда совсем особенные. Должно быть, это правда. Правда, он совсем на него не похож ничем?
– Да, и чудесный.
– Ну, прощай, – отвечала Наташа. И та же шаловливая улыбка, как бы забывшись, долго оставалась на ее лице.
Пьер долго не мог заснуть в этот день; он взад и вперед ходил по комнате, то нахмурившись, вдумываясь во что то трудное, вдруг пожимая плечами и вздрагивая, то счастливо улыбаясь.
Он думал о князе Андрее, о Наташе, об их любви, и то ревновал ее к прошедшему, то упрекал, то прощал себя за это. Было уже шесть часов утра, а он все ходил по комнате.
«Ну что ж делать. Уж если нельзя без этого! Что ж делать! Значит, так надо», – сказал он себе и, поспешно раздевшись, лег в постель, счастливый и взволнованный, но без сомнений и нерешительностей.
«Надо, как ни странно, как ни невозможно это счастье, – надо сделать все для того, чтобы быть с ней мужем и женой», – сказал он себе.
Пьер еще за несколько дней перед этим назначил в пятницу день своего отъезда в Петербург. Когда он проснулся, в четверг, Савельич пришел к нему за приказаниями об укладке вещей в дорогу.
«Как в Петербург? Что такое Петербург? Кто в Петербурге? – невольно, хотя и про себя, спросил он. – Да, что то такое давно, давно, еще прежде, чем это случилось, я зачем то собирался ехать в Петербург, – вспомнил он. – Отчего же? я и поеду, может быть. Какой он добрый, внимательный, как все помнит! – подумал он, глядя на старое лицо Савельича. – И какая улыбка приятная!» – подумал он.
– Что ж, все не хочешь на волю, Савельич? – спросил Пьер.
– Зачем мне, ваше сиятельство, воля? При покойном графе, царство небесное, жили и при вас обиды не видим.
– Ну, а дети?
– И дети проживут, ваше сиятельство: за такими господами жить можно.
– Ну, а наследники мои? – сказал Пьер. – Вдруг я женюсь… Ведь может случиться, – прибавил он с невольной улыбкой.
– И осмеливаюсь доложить: хорошее дело, ваше сиятельство.
«Как он думает это легко, – подумал Пьер. – Он не знает, как это страшно, как опасно. Слишком рано или слишком поздно… Страшно!»
– Как же изволите приказать? Завтра изволите ехать? – спросил Савельич.
– Нет; я немножко отложу. Я тогда скажу. Ты меня извини за хлопоты, – сказал Пьер и, глядя на улыбку Савельича, подумал: «Как странно, однако, что он не знает, что теперь нет никакого Петербурга и что прежде всего надо, чтоб решилось то. Впрочем, он, верно, знает, но только притворяется. Поговорить с ним? Как он думает? – подумал Пьер. – Нет, после когда нибудь».
За завтраком Пьер сообщил княжне, что он был вчера у княжны Марьи и застал там, – можете себе представить кого? – Натали Ростову.
Княжна сделала вид, что она в этом известии не видит ничего более необыкновенного, как в том, что Пьер видел Анну Семеновну.
– Вы ее знаете? – спросил Пьер.
– Я видела княжну, – отвечала она. – Я слышала, что ее сватали за молодого Ростова. Это было бы очень хорошо для Ростовых; говорят, они совсем разорились.
– Нет, Ростову вы знаете?
– Слышала тогда только про эту историю. Очень жалко.
«Нет, она не понимает или притворяется, – подумал Пьер. – Лучше тоже не говорить ей».
Княжна также приготавливала провизию на дорогу Пьеру.
«Как они добры все, – думал Пьер, – что они теперь, когда уж наверное им это не может быть более интересно, занимаются всем этим. И все для меня; вот что удивительно».
В этот же день к Пьеру приехал полицеймейстер с предложением прислать доверенного в Грановитую палату для приема вещей, раздаваемых нынче владельцам.
«Вот и этот тоже, – думал Пьер, глядя в лицо полицеймейстера, – какой славный, красивый офицер и как добр! Теперь занимается такими пустяками. А еще говорят, что он не честен и пользуется. Какой вздор! А впрочем, отчего же ему и не пользоваться? Он так и воспитан. И все так делают. А такое приятное, доброе лицо, и улыбается, глядя на меня».
Пьер поехал обедать к княжне Марье.
Проезжая по улицам между пожарищами домов, он удивлялся красоте этих развалин. Печные трубы домов, отвалившиеся стены, живописно напоминая Рейн и Колизей, тянулись, скрывая друг друга, по обгорелым кварталам. Встречавшиеся извозчики и ездоки, плотники, рубившие срубы, торговки и лавочники, все с веселыми, сияющими лицами, взглядывали на Пьера и говорили как будто: «А, вот он! Посмотрим, что выйдет из этого».
При входе в дом княжны Марьи на Пьера нашло сомнение в справедливости того, что он был здесь вчера, виделся с Наташей и говорил с ней. «Может быть, это я выдумал. Может быть, я войду и никого не увижу». Но не успел он вступить в комнату, как уже во всем существе своем, по мгновенному лишению своей свободы, он почувствовал ее присутствие. Она была в том же черном платье с мягкими складками и так же причесана, как и вчера, но она была совсем другая. Если б она была такою вчера, когда он вошел в комнату, он бы не мог ни на мгновение не узнать ее.
Она была такою же, какою он знал ее почти ребенком и потом невестой князя Андрея. Веселый вопросительный блеск светился в ее глазах; на лице было ласковое и странно шаловливое выражение.
Пьер обедал и просидел бы весь вечер; но княжна Марья ехала ко всенощной, и Пьер уехал с ними вместе.
На другой день Пьер приехал рано, обедал и просидел весь вечер. Несмотря на то, что княжна Марья и Наташа были очевидно рады гостю; несмотря на то, что весь интерес жизни Пьера сосредоточивался теперь в этом доме, к вечеру они всё переговорили, и разговор переходил беспрестанно с одного ничтожного предмета на другой и часто прерывался. Пьер засиделся в этот вечер так поздно, что княжна Марья и Наташа переглядывались между собою, очевидно ожидая, скоро ли он уйдет. Пьер видел это и не мог уйти. Ему становилось тяжело, неловко, но он все сидел, потому что не мог подняться и уйти.
Княжна Марья, не предвидя этому конца, первая встала и, жалуясь на мигрень, стала прощаться.
– Так вы завтра едете в Петербург? – сказала ока.
– Нет, я не еду, – с удивлением и как будто обидясь, поспешно сказал Пьер. – Да нет, в Петербург? Завтра; только я не прощаюсь. Я заеду за комиссиями, – сказал он, стоя перед княжной Марьей, краснея и не уходя.
Наташа подала ему руку и вышла. Княжна Марья, напротив, вместо того чтобы уйти, опустилась в кресло и своим лучистым, глубоким взглядом строго и внимательно посмотрела на Пьера. Усталость, которую она очевидно выказывала перед этим, теперь совсем прошла. Она тяжело и продолжительно вздохнула, как будто приготавливаясь к длинному разговору.
Все смущение и неловкость Пьера, при удалении Наташи, мгновенно исчезли и заменились взволнованным оживлением. Он быстро придвинул кресло совсем близко к княжне Марье.
– Да, я и хотел сказать вам, – сказал он, отвечая, как на слова, на ее взгляд. – Княжна, помогите мне. Что мне делать? Могу я надеяться? Княжна, друг мой, выслушайте меня. Я все знаю. Я знаю, что я не стою ее; я знаю, что теперь невозможно говорить об этом. Но я хочу быть братом ей. Нет, я не хочу.. я не могу…
Он остановился и потер себе лицо и глаза руками.
– Ну, вот, – продолжал он, видимо сделав усилие над собой, чтобы говорить связно. – Я не знаю, с каких пор я люблю ее. Но я одну только ее, одну любил во всю мою жизнь и люблю так, что без нее не могу себе представить жизни. Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, может быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возможность… возможность… ужасна. Скажите, могу я надеяться? Скажите, что мне делать? Милая княжна, – сказал он, помолчав немного и тронув ее за руку, так как она не отвечала.
– Я думаю о том, что вы мне сказали, – отвечала княжна Марья. – Вот что я скажу вам. Вы правы, что теперь говорить ей об любви… – Княжна остановилась. Она хотела сказать: говорить ей о любви теперь невозможно; но она остановилась, потому что она третий день видела по вдруг переменившейся Наташе, что не только Наташа не оскорбилась бы, если б ей Пьер высказал свою любовь, но что она одного только этого и желала.
– Говорить ей теперь… нельзя, – все таки сказала княжна Марья.
– Но что же мне делать?
– Поручите это мне, – сказала княжна Марья. – Я знаю…
Пьер смотрел в глаза княжне Марье.
– Ну, ну… – говорил он.
– Я знаю, что она любит… полюбит вас, – поправилась княжна Марья.
Не успела она сказать эти слова, как Пьер вскочил и с испуганным лицом схватил за руку княжну Марью.
– Отчего вы думаете? Вы думаете, что я могу надеяться? Вы думаете?!
– Да, думаю, – улыбаясь, сказала княжна Марья. – Напишите родителям. И поручите мне. Я скажу ей, когда будет можно. Я желаю этого. И сердце мое чувствует, что это будет.
– Нет, это не может быть! Как я счастлив! Но это не может быть… Как я счастлив! Нет, не может быть! – говорил Пьер, целуя руки княжны Марьи.
– Вы поезжайте в Петербург; это лучше. А я напишу вам, – сказала она.
– В Петербург? Ехать? Хорошо, да, ехать. Но завтра я могу приехать к вам?
На другой день Пьер приехал проститься. Наташа была менее оживлена, чем в прежние дни; но в этот день, иногда взглянув ей в глаза, Пьер чувствовал, что он исчезает, что ни его, ни ее нет больше, а есть одно чувство счастья. «Неужели? Нет, не может быть», – говорил он себе при каждом ее взгляде, жесте, слове, наполнявших его душу радостью.
Когда он, прощаясь с нею, взял ее тонкую, худую руку, он невольно несколько дольше удержал ее в своей.
«Неужели эта рука, это лицо, эти глаза, все это чуждое мне сокровище женской прелести, неужели это все будет вечно мое, привычное, такое же, каким я сам для себя? Нет, это невозможно!..»
– Прощайте, граф, – сказала она ему громко. – Я очень буду ждать вас, – прибавила она шепотом.
И эти простые слова, взгляд и выражение лица, сопровождавшие их, в продолжение двух месяцев составляли предмет неистощимых воспоминаний, объяснений и счастливых мечтаний Пьера. «Я очень буду ждать вас… Да, да, как она сказала? Да, я очень буду ждать вас. Ах, как я счастлив! Что ж это такое, как я счастлив!» – говорил себе Пьер.
В душе Пьера теперь не происходило ничего подобного тому, что происходило в ней в подобных же обстоятельствах во время его сватовства с Элен.
Он не повторял, как тогда, с болезненным стыдом слов, сказанных им, не говорил себе: «Ах, зачем я не сказал этого, и зачем, зачем я сказал тогда „je vous aime“?» [я люблю вас] Теперь, напротив, каждое слово ее, свое он повторял в своем воображении со всеми подробностями лица, улыбки и ничего не хотел ни убавить, ни прибавить: хотел только повторять. Сомнений в том, хорошо ли, или дурно то, что он предпринял, – теперь не было и тени. Одно только страшное сомнение иногда приходило ему в голову. Не во сне ли все это? Не ошиблась ли княжна Марья? Не слишком ли я горд и самонадеян? Я верю; а вдруг, что и должно случиться, княжна Марья скажет ей, а она улыбнется и ответит: «Как странно! Он, верно, ошибся. Разве он не знает, что он человек, просто человек, а я?.. Я совсем другое, высшее».
Только это сомнение часто приходило Пьеру. Планов он тоже не делал теперь никаких. Ему казалось так невероятно предстоящее счастье, что стоило этому совершиться, и уж дальше ничего не могло быть. Все кончалось.
Радостное, неожиданное сумасшествие, к которому Пьер считал себя неспособным, овладело им. Весь смысл жизни, не для него одного, но для всего мира, казался ему заключающимся только в его любви и в возможности ее любви к нему. Иногда все люди казались ему занятыми только одним – его будущим счастьем. Ему казалось иногда, что все они радуются так же, как и он сам, и только стараются скрыть эту радость, притворяясь занятыми другими интересами. В каждом слове и движении он видел намеки на свое счастие. Он часто удивлял людей, встречавшихся с ним, своими значительными, выражавшими тайное согласие, счастливыми взглядами и улыбками. Но когда он понимал, что люди могли не знать про его счастье, он от всей души жалел их и испытывал желание как нибудь объяснить им, что все то, чем они заняты, есть совершенный вздор и пустяки, не стоящие внимания.
Когда ему предлагали служить или когда обсуждали какие нибудь общие, государственные дела и войну, предполагая, что от такого или такого исхода такого то события зависит счастие всех людей, он слушал с кроткой соболезнующею улыбкой и удивлял говоривших с ним людей своими странными замечаниями. Но как те люди, которые казались Пьеру понимающими настоящий смысл жизни, то есть его чувство, так и те несчастные, которые, очевидно, не понимали этого, – все люди в этот период времени представлялись ему в таком ярком свете сиявшего в нем чувства, что без малейшего усилия, он сразу, встречаясь с каким бы то ни было человеком, видел в нем все, что было хорошего и достойного любви.
Рассматривая дела и бумаги своей покойной жены, он к ее памяти не испытывал никакого чувства, кроме жалости в том, что она не знала того счастья, которое он знал теперь. Князь Василий, особенно гордый теперь получением нового места и звезды, представлялся ему трогательным, добрым и жалким стариком.
Пьер часто потом вспоминал это время счастливого безумия. Все суждения, которые он составил себе о людях и обстоятельствах за этот период времени, остались для него навсегда верными. Он не только не отрекался впоследствии от этих взглядов на людей и вещи, но, напротив, в внутренних сомнениях и противуречиях прибегал к тому взгляду, который он имел в это время безумия, и взгляд этот всегда оказывался верен.
«Может быть, – думал он, – я и казался тогда странен и смешон; но я тогда не был так безумен, как казалось. Напротив, я был тогда умнее и проницательнее, чем когда либо, и понимал все, что стоит понимать в жизни, потому что… я был счастлив».
Безумие Пьера состояло в том, что он не дожидался, как прежде, личных причин, которые он называл достоинствами людей, для того чтобы любить их, а любовь переполняла его сердце, и он, беспричинно любя людей, находил несомненные причины, за которые стоило любить их.
С первого того вечера, когда Наташа, после отъезда Пьера, с радостно насмешливой улыбкой сказала княжне Марье, что он точно, ну точно из бани, и сюртучок, и стриженый, с этой минуты что то скрытое и самой ей неизвестное, но непреодолимое проснулось в душе Наташи.
Все: лицо, походка, взгляд, голос – все вдруг изменилось в ней. Неожиданные для нее самой – сила жизни, надежды на счастье всплыли наружу и требовали удовлетворения. С первого вечера Наташа как будто забыла все то, что с ней было. Она с тех пор ни разу не пожаловалась на свое положение, ни одного слова не сказала о прошедшем и не боялась уже делать веселые планы на будущее. Она мало говорила о Пьере, но когда княжна Марья упоминала о нем, давно потухший блеск зажигался в ее глазах и губы морщились странной улыбкой.
Перемена, происшедшая в Наташе, сначала удивила княжну Марью; но когда она поняла ее значение, то перемена эта огорчила ее. «Неужели она так мало любила брата, что так скоро могла забыть его», – думала княжна Марья, когда она одна обдумывала происшедшую перемену. Но когда она была с Наташей, то не сердилась на нее и не упрекала ее. Проснувшаяся сила жизни, охватившая Наташу, была, очевидно, так неудержима, так неожиданна для нее самой, что княжна Марья в присутствии Наташи чувствовала, что она не имела права упрекать ее даже в душе своей.
Наташа с такой полнотой и искренностью вся отдалась новому чувству, что и не пыталась скрывать, что ей было теперь не горестно, а радостно и весело.
Когда, после ночного объяснения с Пьером, княжна Марья вернулась в свою комнату, Наташа встретила ее на пороге.
– Он сказал? Да? Он сказал? – повторила она. И радостное и вместе жалкое, просящее прощения за свою радость, выражение остановилось на лице Наташи.
– Я хотела слушать у двери; но я знала, что ты скажешь мне.
Как ни понятен, как ни трогателен был для княжны Марьи тот взгляд, которым смотрела на нее Наташа; как ни жалко ей было видеть ее волнение; но слова Наташи в первую минуту оскорбили княжну Марью. Она вспомнила о брате, о его любви.
«Но что же делать! она не может иначе», – подумала княжна Марья; и с грустным и несколько строгим лицом передала она Наташе все, что сказал ей Пьер. Услыхав, что он собирается в Петербург, Наташа изумилась.
– В Петербург? – повторила она, как бы не понимая. Но, вглядевшись в грустное выражение лица княжны Марьи, она догадалась о причине ее грусти и вдруг заплакала. – Мари, – сказала она, – научи, что мне делать. Я боюсь быть дурной. Что ты скажешь, то я буду делать; научи меня…
– Ты любишь его?
– Да, – прошептала Наташа.
– О чем же ты плачешь? Я счастлива за тебя, – сказала княжна Марья, за эти слезы простив уже совершенно радость Наташи.
– Это будет не скоро, когда нибудь. Ты подумай, какое счастие, когда я буду его женой, а ты выйдешь за Nicolas.
– Наташа, я тебя просила не говорить об этом. Будем говорить о тебе.
Они помолчали.
– Только для чего же в Петербург! – вдруг сказала Наташа, и сама же поспешно ответила себе: – Нет, нет, это так надо… Да, Мари? Так надо…
Прошло семь лет после 12 го года. Взволнованное историческое море Европы улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; но таинственные силы, двигающие человечество (таинственные потому, что законы, определяющие их движение, неизвестны нам), продолжали свое действие.
Несмотря на то, что поверхность исторического моря казалась неподвижною, так же непрерывно, как движение времени, двигалось человечество. Слагались, разлагались различные группы людских сцеплений; подготовлялись причины образования и разложения государств, перемещений народов.
Историческое море, не как прежде, направлялось порывами от одного берега к другому: оно бурлило в глубине. Исторические лица, не как прежде, носились волнами от одного берега к другому; теперь они, казалось, кружились на одном месте. Исторические лица, прежде во главе войск отражавшие приказаниями войн, походов, сражений движение масс, теперь отражали бурлившее движение политическими и дипломатическими соображениями, законами, трактатами…
Эту деятельность исторических лиц историки называют реакцией.
Описывая деятельность этих исторических лиц, бывших, по их мнению, причиною того, что они называют реакцией, историки строго осуждают их. Все известные люди того времени, от Александра и Наполеона до m me Stael, Фотия, Шеллинга, Фихте, Шатобриана и проч., проходят перед их строгим судом и оправдываются или осуждаются, смотря по тому, содействовали ли они прогрессу или реакции.
В России, по их описанию, в этот период времени тоже происходила реакция, и главным виновником этой реакции был Александр I – тот самый Александр I, который, по их же описаниям, был главным виновником либеральных начинаний своего царствования и спасения России.
В настоящей русской литературе, от гимназиста до ученого историка, нет человека, который не бросил бы своего камушка в Александра I за неправильные поступки его в этот период царствования.
«Он должен был поступить так то и так то. В таком случае он поступил хорошо, в таком дурно. Он прекрасно вел себя в начале царствования и во время 12 го года; но он поступил дурно, дав конституцию Польше, сделав Священный Союз, дав власть Аракчееву, поощряя Голицына и мистицизм, потом поощряя Шишкова и Фотия. Он сделал дурно, занимаясь фронтовой частью армии; он поступил дурно, раскассировав Семеновский полк, и т. д.».
Надо бы исписать десять листов для того, чтобы перечислить все те упреки, которые делают ему историки на основании того знания блага человечества, которым они обладают.
Что значат эти упреки?
Те самые поступки, за которые историки одобряют Александра I, – как то: либеральные начинания царствования, борьба с Наполеоном, твердость, выказанная им в 12 м году, и поход 13 го года, не вытекают ли из одних и тех же источников – условий крови, воспитания, жизни, сделавших личность Александра тем, чем она была, – из которых вытекают и те поступки, за которые историки порицают его, как то: Священный Союз, восстановление Польши, реакция 20 х годов?
В чем же состоит сущность этих упреков?
В том, что такое историческое лицо, как Александр I, лицо, стоявшее на высшей возможной ступени человеческой власти, как бы в фокусе ослепляющего света всех сосредоточивающихся на нем исторических лучей; лицо, подлежавшее тем сильнейшим в мире влияниям интриг, обманов, лести, самообольщения, которые неразлучны с властью; лицо, чувствовавшее на себе, всякую минуту своей жизни, ответственность за все совершавшееся в Европе, и лицо не выдуманное, а живое, как и каждый человек, с своими личными привычками, страстями, стремлениями к добру, красоте, истине, – что это лицо, пятьдесят лет тому назад, не то что не было добродетельно (за это историки не упрекают), а не имело тех воззрений на благо человечества, которые имеет теперь профессор, смолоду занимающийся наукой, то есть читанном книжек, лекций и списыванием этих книжек и лекций в одну тетрадку.
Но если даже предположить, что Александр I пятьдесят лет тому назад ошибался в своем воззрении на то, что есть благо народов, невольно должно предположить, что и историк, судящий Александра, точно так же по прошествии некоторого времени окажется несправедливым, в своем воззрении на то, что есть благо человечества. Предположение это тем более естественно и необходимо, что, следя за развитием истории, мы видим, что с каждым годом, с каждым новым писателем изменяется воззрение на то, что есть благо человечества; так что то, что казалось благом, через десять лет представляется злом; и наоборот. Мало того, одновременно мы находим в истории совершенно противоположные взгляды на то, что было зло и что было благо: одни данную Польше конституцию и Священный Союз ставят в заслугу, другие в укор Александру.
Про деятельность Александра и Наполеона нельзя сказать, чтобы она была полезна или вредна, ибо мы не можем сказать, для чего она полезна и для чего вредна. Если деятельность эта кому нибудь не нравится, то она не нравится ему только вследствие несовпадения ее с ограниченным пониманием его о том, что есть благо. Представляется ли мне благом сохранение в 12 м году дома моего отца в Москве, или слава русских войск, или процветание Петербургского и других университетов, или свобода Польши, или могущество России, или равновесие Европы, или известного рода европейское просвещение – прогресс, я должен признать, что деятельность всякого исторического лица имела, кроме этих целей, ещь другие, более общие и недоступные мне цели.
Но положим, что так называемая наука имеет возможность примирить все противоречия и имеет для исторических лиц и событий неизменное мерило хорошего и дурного.
Положим, что Александр мог сделать все иначе. Положим, что он мог, по предписанию тех, которые обвиняют его, тех, которые профессируют знание конечной цели движения человечества, распорядиться по той программе народности, свободы, равенства и прогресса (другой, кажется, нет), которую бы ему дали теперешние обвинители. Положим, что эта программа была бы возможна и составлена и что Александр действовал бы по ней. Что же сталось бы тогда с деятельностью всех тех людей, которые противодействовали тогдашнему направлению правительства, – с деятельностью, которая, по мнению историков, хороша и полезна? Деятельности бы этой не было; жизни бы не было; ничего бы не было.
Если допустить, что жизнь человеческая может управляться разумом, – то уничтожится возможность жизни.
Если допустить, как то делают историки, что великие люди ведут человечество к достижению известных целей, состоящих или в величии России или Франции, или в равновесии Европы, или в разнесении идей революции, или в общем прогрессе, или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить явлений истории без понятий о случае и о гении.
Если цель европейских войн начала нынешнего столетия состояла в величии России, то эта цель могла быть достигнута без всех предшествовавших войн и без нашествия. Если цель – величие Франции, то эта цель могла быть достигнута и без революции, и без империи. Если цель – распространение идей, то книгопечатание исполнило бы это гораздо лучше, чем солдаты. Если цель – прогресс цивилизации, то весьма легко предположить, что, кроме истребления людей и их богатств, есть другие более целесообразные пути для распространения цивилизации.
Почему же это случилось так, а не иначе?
Потому что это так случилось. «Случай сделал положение; гений воспользовался им», – говорит история.
Но что такое случай? Что такое гений?
Слова случай и гений не обозначают ничего действительно существующего и потому не могут быть определены. Слова эти только обозначают известную степень понимания явлений. Я не знаю, почему происходит такое то явление; думаю, что не могу знать; потому не хочу знать и говорю: случай. Я вижу силу, производящую несоразмерное с общечеловеческими свойствами действие; не понимаю, почему это происходит, и говорю: гений.
Для стада баранов тот баран, который каждый вечер отгоняется овчаром в особый денник к корму и становится вдвое толще других, должен казаться гением. И то обстоятельство, что каждый вечер именно этот самый баран попадает не в общую овчарню, а в особый денник к овсу, и что этот, именно этот самый баран, облитый жиром, убивается на мясо, должно представляться поразительным соединением гениальности с целым рядом необычайных случайностей.
Но баранам стоит только перестать думать, что все, что делается с ними, происходит только для достижения их бараньих целей; стоит допустить, что происходящие с ними события могут иметь и непонятные для них цели, – и они тотчас же увидят единство, последовательность в том, что происходит с откармливаемым бараном. Ежели они и не будут знать, для какой цели он откармливался, то, по крайней мере, они будут знать, что все случившееся с бараном случилось не нечаянно, и им уже не будет нужды в понятии ни о случае, ни о гении.
Только отрешившись от знаний близкой, понятной цели и признав, что конечная цель нам недоступна, мы увидим последовательность и целесообразность в жизни исторических лиц; нам откроется причина того несоразмерного с общечеловеческими свойствами действия, которое они производят, и не нужны будут нам слова случай и гений.
Стоит только признать, что цель волнений европейских народов нам неизвестна, а известны только факты, состоящие в убийствах, сначала во Франции, потом в Италии, в Африке, в Пруссии, в Австрии, в Испании, в России, и что движения с запада на восток и с востока на запад составляют сущность и цель этих событий, и нам не только не нужно будет видеть исключительность и гениальность в характерах Наполеона и Александра, но нельзя будет представить себе эти лица иначе, как такими же людьми, как и все остальные; и не только не нужно будет объяснять случайностию тех мелких событий, которые сделали этих людей тем, чем они были, но будет ясно, что все эти мелкие события были необходимы.
Отрешившись от знания конечной цели, мы ясно поймем, что точно так же, как ни к одному растению нельзя придумать других, более соответственных ему, цвета и семени, чем те, которые оно производит, точно так же невозможно придумать других двух людей, со всем их прошедшим, которое соответствовало бы до такой степени, до таких мельчайших подробностей тому назначению, которое им предлежало исполнить.
Основной, существенный смысл европейских событий начала нынешнего столетия есть воинственное движение масс европейских народов с запада на восток и потом с востока на запад. Первым зачинщиком этого движения было движение с запада на восток. Для того чтобы народы запада могли совершить то воинственное движение до Москвы, которое они совершили, необходимо было: 1) чтобы они сложились в воинственную группу такой величины, которая была бы в состоянии вынести столкновение с воинственной группой востока; 2) чтобы они отрешились от всех установившихся преданий и привычек и 3) чтобы, совершая свое воинственное движение, они имели во главе своей человека, который, и для себя и для них, мог бы оправдывать имеющие совершиться обманы, грабежи и убийства, которые сопутствовали этому движению.
И начиная с французской революции разрушается старая, недостаточно великая группа; уничтожаются старые привычки и предания; вырабатываются, шаг за шагом, группа новых размеров, новые привычки и предания, и приготовляется тот человек, который должен стоять во главе будущего движения и нести на себе всю ответственность имеющего совершиться.
Человек без убеждений, без привычек, без преданий, без имени, даже не француз, самыми, кажется, странными случайностями продвигается между всеми волнующими Францию партиями и, не приставая ни к одной из них, выносится на заметное место.
Невежество сотоварищей, слабость и ничтожество противников, искренность лжи и блестящая и самоуверенная ограниченность этого человека выдвигают его во главу армии. Блестящий состав солдат итальянской армии, нежелание драться противников, ребяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему военную славу. Бесчисленное количество так называемых случайностей сопутствует ему везде. Немилость, в которую он впадает у правителей Франции, служит ему в пользу. Попытки его изменить предназначенный ему путь не удаются: его не принимают на службу в Россию, и не удается ему определение в Турцию. Во время войн в Италии он несколько раз находится на краю гибели и всякий раз спасается неожиданным образом. Русские войска, те самые, которые могут разрушить его славу, по разным дипломатическим соображениям, не вступают в Европу до тех пор, пока он там.
По возвращении из Италии он находит правительство в Париже в том процессе разложения, в котором люди, попадающие в это правительство, неизбежно стираются и уничтожаются. И сам собой для него является выход из этого опасного положения, состоящий в бессмысленной, беспричинной экспедиции в Африку. Опять те же так называемые случайности сопутствуют ему. Неприступная Мальта сдается без выстрела; самые неосторожные распоряжения увенчиваются успехом. Неприятельский флот, который не пропустит после ни одной лодки, пропускает целую армию. В Африке над безоружными почти жителями совершается целый ряд злодеяний. И люди, совершающие злодеяния эти, и в особенности их руководитель, уверяют себя, что это прекрасно, что это слава, что это похоже на Кесаря и Александра Македонского и что это хорошо.
Тот идеал славы и величия, состоящий в том, чтобы не только ничего не считать для себя дурным, но гордиться всяким своим преступлением, приписывая ему непонятное сверхъестественное значение, – этот идеал, долженствующий руководить этим человеком и связанными с ним людьми, на просторе вырабатывается в Африке. Все, что он ни делает, удается ему. Чума не пристает к нему. Жестокость убийства пленных не ставится ему в вину. Ребячески неосторожный, беспричинный и неблагородный отъезд его из Африки, от товарищей в беде, ставится ему в заслугу, и опять неприятельский флот два раза упускает его. В то время как он, уже совершенно одурманенный совершенными им счастливыми преступлениями, готовый для своей роли, без всякой цели приезжает в Париж, то разложение республиканского правительства, которое могло погубить его год тому назад, теперь дошло до крайней степени, и присутствие его, свежего от партий человека, теперь только может возвысить его.
Он не имеет никакого плана; он всего боится; но партии ухватываются за него и требуют его участия.
Он один, с своим выработанным в Италии и Египте идеалом славы и величия, с своим безумием самообожания, с своею дерзостью преступлений, с своею искренностью лжи, – он один может оправдать то, что имеет совершиться.
Он нужен для того места, которое ожидает его, и потому, почти независимо от его воли и несмотря на его нерешительность, на отсутствие плана, на все ошибки, которые он делает, он втягивается в заговор, имеющий целью овладение властью, и заговор увенчивается успехом.
Его вталкивают в заседание правителей. Испуганный, он хочет бежать, считая себя погибшим; притворяется, что падает в обморок; говорит бессмысленные вещи, которые должны бы погубить его. Но правители Франции, прежде сметливые и гордые, теперь, чувствуя, что роль их сыграна, смущены еще более, чем он, говорят не те слова, которые им нужно бы было говорить, для того чтоб удержать власть и погубить его.
Случайность, миллионы случайностей дают ему власть, и все люди, как бы сговорившись, содействуют утверждению этой власти. Случайности делают характеры тогдашних правителей Франции, подчиняющимися ему; случайности делают характер Павла I, признающего его власть; случайность делает против него заговор, не только не вредящий ему, но утверждающий его власть. Случайность посылает ему в руки Энгиенского и нечаянно заставляет его убить, тем самым, сильнее всех других средств, убеждая толпу, что он имеет право, так как он имеет силу. Случайность делает то, что он напрягает все силы на экспедицию в Англию, которая, очевидно, погубила бы его, и никогда не исполняет этого намерения, а нечаянно нападает на Мака с австрийцами, которые сдаются без сражения. Случайность и гениальность дают ему победу под Аустерлицем, и случайно все люди, не только французы, но и вся Европа, за исключением Англии, которая и не примет участия в имеющих совершиться событиях, все люди, несмотря на прежний ужас и отвращение к его преступлениям, теперь признают за ним его власть, название, которое он себе дал, и его идеал величия и славы, который кажется всем чем то прекрасным и разумным.
Как бы примериваясь и приготовляясь к предстоящему движению, силы запада несколько раз в 1805 м, 6 м, 7 м, 9 м году стремятся на восток, крепчая и нарастая. В 1811 м году группа людей, сложившаяся во Франции, сливается в одну огромную группу с серединными народами. Вместе с увеличивающейся группой людей дальше развивается сила оправдания человека, стоящего во главе движения. В десятилетний приготовительный период времени, предшествующий большому движению, человек этот сводится со всеми коронованными лицами Европы. Разоблаченные владыки мира не могут противопоставить наполеоновскому идеалу славы и величия, не имеющего смысла, никакого разумного идеала. Один перед другим, они стремятся показать ему свое ничтожество. Король прусский посылает свою жену заискивать милости великого человека; император Австрии считает за милость то, что человек этот принимает в свое ложе дочь кесарей; папа, блюститель святыни народов, служит своей религией возвышению великого человека. Не столько сам Наполеон приготовляет себя для исполнения своей роли, сколько все окружающее готовит его к принятию на себя всей ответственности того, что совершается и имеет совершиться. Нет поступка, нет злодеяния или мелочного обмана, который бы он совершил и который тотчас же в устах его окружающих не отразился бы в форме великого деяния. Лучший праздник, который могут придумать для него германцы, – это празднование Иены и Ауерштета. Не только он велик, но велики его предки, его братья, его пасынки, зятья. Все совершается для того, чтобы лишить его последней силы разума и приготовить к его страшной роли. И когда он готов, готовы и силы.
Нашествие стремится на восток, достигает конечной цели – Москвы. Столица взята; русское войско более уничтожено, чем когда нибудь были уничтожены неприятельские войска в прежних войнах от Аустерлица до Ваграма. Но вдруг вместо тех случайностей и гениальности, которые так последовательно вели его до сих пор непрерывным рядом успехов к предназначенной цели, является бесчисленное количество обратных случайностей, от насморка в Бородине до морозов и искры, зажегшей Москву; и вместо гениальности являются глупость и подлость, не имеющие примеров.
Нашествие бежит, возвращается назад, опять бежит, и все случайности постоянно теперь уже не за, а против него.
Совершается противодвижение с востока на запад с замечательным сходством с предшествовавшим движением с запада на восток. Те же попытки движения с востока на запад в 1805 – 1807 – 1809 годах предшествуют большому движению; то же сцепление и группу огромных размеров; то же приставание серединных народов к движению; то же колебание в середине пути и та же быстрота по мере приближения к цели.
Париж – крайняя цель достигнута. Наполеоновское правительство и войска разрушены. Сам Наполеон не имеет больше смысла; все действия его очевидно жалки и гадки; но опять совершается необъяснимая случайность: союзники ненавидят Наполеона, в котором они видят причину своих бедствий; лишенный силы и власти, изобличенный в злодействах и коварствах, он бы должен был представляться им таким, каким он представлялся им десять лет тому назад и год после, – разбойником вне закона. Но по какой то странной случайности никто не видит этого. Роль его еще не кончена. Человека, которого десять лет тому назад и год после считали разбойником вне закона, посылают в два дня переезда от Франции на остров, отдаваемый ему во владение с гвардией и миллионами, которые платят ему за что то.
Движение народов начинает укладываться в свои берега. Волны большого движения отхлынули, и на затихшем море образуются круги, по которым носятся дипломаты, воображая, что именно они производят затишье движения.
Но затихшее море вдруг поднимается. Дипломатам кажется, что они, их несогласия, причиной этого нового напора сил; они ждут войны между своими государями; положение им кажется неразрешимым. Но волна, подъем которой они чувствуют, несется не оттуда, откуда они ждут ее. Поднимается та же волна, с той же исходной точки движения – Парижа. Совершается последний отплеск движения с запада; отплеск, который должен разрешить кажущиеся неразрешимыми дипломатические затруднения и положить конец воинственному движению этого периода.
Человек, опустошивший Францию, один, без заговора, без солдат, приходит во Францию. Каждый сторож может взять его; но, по странной случайности, никто не только не берет, но все с восторгом встречают того человека, которого проклинали день тому назад и будут проклинать через месяц.
Человек этот нужен еще для оправдания последнего совокупного действия.
Действие совершено. Последняя роль сыграна. Актеру велено раздеться и смыть сурьму и румяны: он больше не понадобится.
И проходят несколько лет в том, что этот человек, в одиночестве на своем острове, играет сам перед собой жалкую комедию, мелочно интригует и лжет, оправдывая свои деяния, когда оправдание это уже не нужно, и показывает всему миру, что такое было то, что люди принимали за силу, когда невидимая рука водила им.
Распорядитель, окончив драму и раздев актера, показал его нам.
– Смотрите, чему вы верили! Вот он! Видите ли вы теперь, что не он, а Я двигал вас?
Но, ослепленные силой движения, люди долго не понимали этого.
Еще большую последовательность и необходимость представляет жизнь Александра I, того лица, которое стояло во главе противодвижения с востока на запад.
Что нужно для того человека, который бы, заслоняя других, стоял во главе этого движения с востока на запад?
Нужно чувство справедливости, участие к делам Европы, но отдаленное, не затемненное мелочными интересами; нужно преобладание высоты нравственной над сотоварищами – государями того времени; нужна кроткая и привлекательная личность; нужно личное оскорбление против Наполеона. И все это есть в Александре I; все это подготовлено бесчисленными так называемыми случайностями всей его прошедшей жизни: и воспитанием, и либеральными начинаниями, и окружающими советниками, и Аустерлицем, и Тильзитом, и Эрфуртом.
Во время народной войны лицо это бездействует, так как оно не нужно. Но как скоро является необходимость общей европейской войны, лицо это в данный момент является на свое место и, соединяя европейские народы, ведет их к цели.
Цель достигнута. После последней войны 1815 года Александр находится на вершине возможной человеческой власти. Как же он употребляет ее?
Александр I, умиротворитель Европы, человек, с молодых лет стремившийся только к благу своих народов, первый зачинщик либеральных нововведений в своем отечестве, теперь, когда, кажется, он владеет наибольшей властью и потому возможностью сделать благо своих народов, в то время как Наполеон в изгнании делает детские и лживые планы о том, как бы он осчастливил человечество, если бы имел власть, Александр I, исполнив свое призвание и почуяв на себе руку божию, вдруг признает ничтожность этой мнимой власти, отворачивается от нее, передает ее в руки презираемых им и презренных людей и говорит только:
– «Не нам, не нам, а имени твоему!» Я человек тоже, как и вы; оставьте меня жить, как человека, и думать о своей душе и о боге.
Как солнце и каждый атом эфира есть шар, законченный в самом себе и вместе с тем только атом недоступного человеку по огромности целого, – так и каждая личность носит в самой себе свои цели и между тем носит их для того, чтобы служить недоступным человеку целям общим.
Пчела, сидевшая на цветке, ужалила ребенка. И ребенок боится пчел и говорит, что цель пчелы состоит в том, чтобы жалить людей. Поэт любуется пчелой, впивающейся в чашечку цветка, и говорит, цель пчелы состоит во впивании в себя аромата цветов. Пчеловод, замечая, что пчела собирает цветочную пыль к приносит ее в улей, говорит, что цель пчелы состоит в собирании меда. Другой пчеловод, ближе изучив жизнь роя, говорит, что пчела собирает пыль для выкармливанья молодых пчел и выведения матки, что цель ее состоит в продолжении рода. Ботаник замечает, что, перелетая с пылью двудомного цветка на пестик, пчела оплодотворяет его, и ботаник в этом видит цель пчелы. Другой, наблюдая переселение растений, видит, что пчела содействует этому переселению, и этот новый наблюдатель может сказать, что в этом состоит цель пчелы. Но конечная цель пчелы не исчерпывается ни тою, ни другой, ни третьей целью, которые в состоянии открыть ум человеческий. Чем выше поднимается ум человеческий в открытии этих целей, тем очевиднее для него недоступность конечной цели.
Человеку доступно только наблюдение над соответственностью жизни пчелы с другими явлениями жизни. То же с целями исторических лиц и народов.
Свадьба Наташи, вышедшей в 13 м году за Безухова, было последнее радостное событие в старой семье Ростовых. В тот же год граф Илья Андреевич умер, и, как это всегда бывает, со смертью его распалась старая семья.
События последнего года: пожар Москвы и бегство из нее, смерть князя Андрея и отчаяние Наташи, смерть Пети, горе графини – все это, как удар за ударом, падало на голову старого графа. Он, казалось, не понимал и чувствовал себя не в силах понять значение всех этих событий и, нравственно согнув свою старую голову, как будто ожидал и просил новых ударов, которые бы его покончили. Он казался то испуганным и растерянным, то неестественно оживленным и предприимчивым.
Свадьба Наташи на время заняла его своей внешней стороной. Он заказывал обеды, ужины и, видимо, хотел казаться веселым; но веселье его не сообщалось, как прежде, а, напротив, возбуждало сострадание в людях, знавших и любивших его.
После отъезда Пьера с женой он затих и стал жаловаться на тоску. Через несколько дней он заболел и слег в постель. С первых дней его болезни, несмотря на утешения докторов, он понял, что ему не вставать. Графиня, не раздеваясь, две недели провела в кресле у его изголовья. Всякий раз, как она давала ему лекарство, он, всхлипывая, молча целовал ее руку. В последний день он, рыдая, просил прощения у жены и заочно у сына за разорение именья – главную вину, которую он за собой чувствовал. Причастившись и особоровавшись, он тихо умер, и на другой день толпа знакомых, приехавших отдать последний долг покойнику, наполняла наемную квартиру Ростовых. Все эти знакомые, столько раз обедавшие и танцевавшие у него, столько раз смеявшиеся над ним, теперь все с одинаковым чувством внутреннего упрека и умиления, как бы оправдываясь перед кем то, говорили: «Да, там как бы то ни было, а прекрасжейший был человек. Таких людей нынче уж не встретишь… А у кого ж нет своих слабостей?..»
Именно в то время, когда дела графа так запутались, что нельзя было себе представить, чем это все кончится, если продолжится еще год, он неожиданно умер.
Николай был с русскими войсками в Париже, когда к нему пришло известие о смерти отца. Он тотчас же подал в отставку и, не дожидаясь ее, взял отпуск и приехал в Москву. Положение денежных дел через месяц после смерти графа совершенно обозначилось, удивив всех громадностию суммы разных мелких долгов, существования которых никто и не подозревал. Долгов было вдвое больше, чем имения.
Родные и друзья советовали Николаю отказаться от наследства. Но Николай в отказе от наследства видел выражение укора священной для него памяти отца и потому не хотел слышать об отказе и принял наследство с обязательством уплаты долгов.
- Персоналии по алфавиту
- Кинорежиссёры по алфавиту
- Кинорежиссёры США
- Родившиеся в Техасе
- Умершие в Хьюстоне
- Говард Хьюз
- Авиапромышленники
- Лётчики США
- Пионеры авиации
- Авиаконструкторы США
- Миллиардеры США
- Награждённые Золотой медалью Конгресса
- Предприниматели США
- Trans World Airlines
- Члены Республиканской партии США
- Антикоммунисты США