Период Эдо
 История Японии |
|---|
|
Пери́од Э́до (яп. 江戸時代 эдо-дзидай) — исторический период (1603—1868) Японии, время правления клана Токугава. Начался с назначения Токугава Иэясу сёгуном в 1603 году. Завершён снятием с себя полномочий сёгуном Токугава Ёсинобу в 1868 году. Характеризуется как время установления диктатуры Токугава, одновременно с этим и как переход от средневековых междоусобиц даймё к полностью контролируемой стране.
В период Эдо произошло становление японского духа, появление национальной японской идеи, развитие экономики и чиновничьего аппарата. Период Эдо — золотой век литературы и японской поэзии, Мацуо Басё является наиболее ярким представителем поэзии как периода Эдо, так и японской поэзии в целом. В результате политики самоизоляции сакоку практически весь период Эдо страна находилась за железным занавесом, не ведя торговли и не сообщаясь с другими странами (редкое исключение — Китай и Голландия). Католическое христианство жестоко подавлялось (восстание на Кюсю).
Благодаря установлению внутреннего мира в Японии активно шёл процесс развития товарно-денежных отношений, обусловивший переход исторического процесса от средневековья к новому времени. Была создана централизованная унифицированная денежная система, получившая название денежная система Токугава. Постепенно происходило изменение расстановки сил — экономическое и политическое влияние переходило от воинских домов (самурайское сословие) к торговым (купеческое сословие), что способствовало размыванию экономического и идеологического фундамента сёгуната Токугава.
В то же время, быстрый рост численности населения и увеличение социального неравенства приводили к ухудшению положения простого народа и накоплению нестабильности внутри страны, к чему добавлялась сложившаяся вокруг неё международная напряжённость. В результате со временем у части господствующего класса начало складываться понимание невозможности выхода из сложившейся ситуации в рамках сохранения текущей хозяйственной системы и продолжения политики самоизоляции. К середине XIX века страна оказалась готова к совершению капиталистических преобразований, что и обусловило падение сёгуната, главную роль в котором сыграли политические и экономические, а не военные причины.
Содержание
- 1 Первая половина периода Эдо
- 2 Вторая половина периода Эдо
- 3 См. также
- 4 Примечания
- 5 Источники и литература
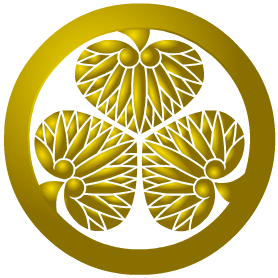 Первая половина периода Эдо
Первая половина периода Эдо
Образование сёгуната Токугава
Токугава Иэясу и сёгунат в Эдо
После смерти Тоётоми Хидэёси место общеяпонского лидера занял его вассал Токугава Иэясу. Его земли находились в регионе Канто с центром в замке Эдо. В 1600 году (5 год Кэйтё), заручившись поддержкой многих самурайских землевладельцев, Токугава разбил в битве при Сэкигахаре оппозицию из западнояпонских даймё во главе с Исидой Мицунари.
В 1603 году Иэясу получил от императора пост большого сёгуна — покорителя варваров и основал новый сёгунат с центром в своей резиденции. В 1615 году он ликвидировал бывший род своего сюзерена Тоётоми и окончательно утвердил власть своего самурайского правительства. Время его существования называют периодом Эдо (1603—1867).
Мощь сёгуната держалась на его вассалах — хатамото и гокэнинах, а также непосредственно на подконтрольных владениях, которые составляли одну четвертую всех земель Японии. Самурайское правительство обладало монопольным правом во внешней политике и чеканке монеты. При правлении 3-го сёгуна Токугавы Иэмицу сформировался административный аппарат сёгуната.
Отношения сёгуната и даймё
Самурайские властители, которые имели земли с доходом свыше 10 тысяч коку, назывались даймё и находились в сюзерен-вассальных отношениях с сёгуном. Между даймё, которых в Японии насчитывалось 300 человек, была установлена иерархия по степени близости к дому сёгуна — родственники Токугавы (симпан), древние вассалы (фудай) и новые вассалы (тодзама).
Для всех самурайских землевладельцев правительство издало «Закон о военных домах», согласно которому даймё не имели права без разрешения центра строить замки в своих землях и заключать друг с другом политические браки. Даймё, которые не придерживались этих запретов, лишались своих владений или переводились в менее прибыльные районы страны. Для контроля и поддержания финансового истощения самурайских феодалов сёгунат создал систему поочередных командировок, когда даймё должны были через каждый год прибывать в ставку в Эдо и жить там в течение года. Кроме этого, по распоряжению правительства, самурайские землевладельцы должны были исполнять строительную и военную повинность в пользу центра. Однако, несмотря на такой политический и финансовый груз, даймё имели полную свободу в управлении своими владениями. Эти владения, а также организация управления ими во главе с даймё назывались княжествами или ханами.
Кроме строгого контроля за регионами, сёгунат ограничил права императорского двора, превратив его в зависимую от самурайского правительства управленческую систему. Согласно «Законам об Императорском дворе и кугэ» правительство Эдо обязывалось финансово поддерживать двор, но в то же время ликвидировало его земельные владения в стране.
Внутренняя и внешняя политика сёгуната
Заграничная торговля
Токугава Иэясу всячески поощрял торговлю. В 1604 году (9 год Кэйтё) по его приказу корабли западных даймё и купцов городов Сакаи и Нагасаки, которые торговали за границей, должны были получать официальные лицензии — грамоты с красными печатями сюин (яп. 朱印), чтобы за морем их судна не путали с пиратскими. Лицензированные корабли назывались сюинсэн и активно торговали на Тайване, Макао и разных регионах Юго-Восточной Азии.
Немало японцев, которые отправлялись за границу, поселялись там, образуя первые японские торговые колонии, ниппон-мати (яп. 日本町 «японские города»). На начало XVII века количество заморских японцев составляло около 10 000 человек. Наиболее известным среди них был Ямада Нагамаса, который получил от Сиамского короля высокий чиновничий титул.
Ограничение торговли и запрещение христианства
На первых порах сёгунат способствовал торговым отношениям с зарубежными странами и приветливо относился к христианству. Благодаря этому казна правительства пополнялась, а количество японских христиан росло. Однако противостояние европейских стран на японском рынке, а именно необоснованные доносы и обвинения протестантских Англии и Голландии в адрес португальских и испанских купцов в попытках завоевать Японию через распространение христианства, заставили самурайское правительство пересмотреть свой внешнеполитический курс. В 1617 году (17 год Кэйтё) сёгунат издал запрет на исповедование христианства и прибытие испанских судов в Японию. Постепенно были наложены ограничения на выезд японских торговых лодок из страны. В 1635 году центральное правительство вообще запретило японцам покидать Японию или возвращаться в страну в случае пребывания за границей.
Восстание в Симабаре и политика сакоку
В 1637 году (14 год Канъэй) на острове Кюсю, полуострове Симабара, вспыхнуло восстание местных крестьян-христиан из-за жестоких гонений на веру и непомерных поборов властей. Лидером выступления стал 15-летний самурай Амакуса Токисада. Напуганный размахом и успехами повстанцев, сёгунат выслал против них 120-тысячную армию и смог истребить их в следующем году. События на Симабаре подтолкнули правительство ускорить реализацию своего антихристианского курса. Была установлена система закрепления населения за местными буддистскими храмами, по которой все японцы в принудительном порядке должны регистрироваться в «журналах обновления веры» (сюмон аратамэ-тё) при региональных храмах, а во время командировок или переезда получать от них справки о своей принадлежности к буддийской общине.
В 1639 году (16 год Канъэй) сёгунат запретил португальским судам прибывать в Японию. Из всех европейских стран лишь Голландия, флот которой помог в подавлении христиан в Симабаре, получила разрешение самурайского правительства на торговлю. Японские власти переместила голландскую факторию из Хирадо в искусственный остров-резервацию Дэдзима в Нагасаки.
Такая политика сёгуната, направленная на ограничение торговли, контактов с Западом и отъезда японцев заграницу, получила название сакоку — политика «закрытой страны». Её главной целью была стабилизация власти самурайского правительства в результате искоренения христианства в Японии. Частично изолировав страну, сёгунат продолжал торговлю с азиатскими странами и Голландией, но под своим пристальным монопольным контролем.
Международные отношения во времена «изоляции»
Торговля в Дэдзиме
Дэдзима в Нагасаки служила центром торговли с Голландией. Её корабли привозили в Японию шелковые нитки, ткани и книги из Китая, а также часы и учебники из Европы. Японцы экспортировали сначала сырье — медь и серебро, а впоследствии начали вывозить керамику имарияки. Сёгунат обязал главу голландской фактории составлять «Описание обычаев Голландии», благодаря которым узнавал о событиях за рубежом. Хотя голландцы монополизировали торговлю Японии с Европой и Китаем, купцы последнего иногда прибывали в Дэдзиму.
Отношения с Кореей, Рюкю и айнами
При жизни Иэясу были восстановлены отношения с Кореей, которые прервались из-за вторжения армий Хидэёси в эту страну. Японию стали регулярно посещать корейские посольства, которые знакомили островитян с достижениями корейской культуры. Центром торговли между обеими странами стал японский остров Цусима, владение рода Со. По разрешению корейского правительства около 500 купцов этого острова имели свою факторию в южнокорейском городе Пусан. В начале XVII века самурайский род Симадзу из владений княжества Сацума завоевал королевство Рюкю, заставив тамошний монарший род Сё стать вассалом сёгунов Токугава. Японцы сохранили древний, но формальный вассалитет Рюкю от китайской империи Цин, используя королевство в качестве посредника в японо-китайской торговле. Центром отношений между Японией и Рюкю стала провинция Сацума.
Торговлей и обменом с айнскими «Землями Эдзо» ведали власти владений княжества Мацумаэ на юге Хоккайдо. Основными товарами экспорта айнов были морепродукты и кожи животных. Поскольку айны торговали также на северо-востоке Китая, через них в руки японцев попадалось немало китайских товаров, особенно ткани и одежда, которая получила название «айнской парчи». Японцы не всегда торговали честно, что было причиной ряда айнских восстаний. Самым мощным из них было выступление под руководством Сякусяина.
Общество периода Эдо
Сословная система
Японское общество XVII—XVIII веков было разделено на сословия по профессиональному признаку. Традиционная историография выделяет четыре основных сословия — военных, крестьян, ремесленников и торговцев (士農工商, Си-но-ко-сё), а новейшая несколько больше — самураи, крестьяне, мещане (ремесленники и торговцы), аристократы кугэ, священнослужители храмов и святилищ. Обществом управляли самураи-военные, которые отвечали за защиту страны и исполнение гражданских и административных функций. Привилегией военного положения было разрешение иметь фамилию и два самурайских меча. В свою очередь, содержание власти военных возлагалось на плечи крестьян и мещан, производителей продукции и стимуляторов товарооборота, в виде налогов. Сословная система позволяла поддерживать стабильность японского социума, в котором отдельные профессиональные группы дополняли друг друга. Она не имела наследственного характера и жестких границ, позволяя крестьянам и горожанам за выслуги становиться самураями, а самураям принимать в свои семьи детей из сельских или купеческих семей. Вне сословной системы находилась группа париев, так называемых «неприкасаемых» или «нелюдей», профессиональными занятиями которых были утилизация отходов, выделка кож и уборка. Эта группа была объектом презрения представителей различных сословий.
Сёла
Японская экономика периода Эдо была полунатуральной и зависела от поставок дани рисом. Её сбор проводили в селах местные чиновники — сельские головы нануси (яп. 名主) или сёя (яп. 庄屋), главы пятёрок и крестьянские делегаты, которые контролировали общинные пахотные земли, воды и горы, а также выполняли различные управленческие функции на селе. Большинство решений принимались коллегиально. Жители каждого села делились на пятёрки, члены которых находились в круговой поруке, совместно платя дань и предотвращая преступления. Между пятёрками одного села существовал обычай взаимопомощи.
Для стабилизации поставок дани рисом, сёгунат запрещал продажу земли и ограничивал крестьян, сосредоточивая их только на полевых работах и различных повинностях. Большинство сёл платили налоги вовремя, считая это государственным долгом. Однако иногда из-за непомерных поборов крестьяне жаловались даймё или непосредственно сёгунату, или, в крайнем случае, поднимали крестьянские бунты.
Города
В результате внедрения сословной системы и отрыва вассалов от земельных участков в провинции, самураи были переселены в призамковые города своих сюзеренов. Для обеспечения жизнедеятельности таких самурайских поселений к ним стали перемещаться ремесленники и купцы, которых стали называть мещанами. Власть накладывала на них денежные налоги на производство и перевозку. Самые богатые или известные горожане могли вступать в городскую управу и исполнять административную работу в городе.
Развитие экономики
Сельское хозяйство
С наступлением мирной жизни японцы начали активно развивать своё хозяйство. По приказам властей началось расширение старых и создание новых заливных полей, путём освоения целинных земель и проведения масштабных ирригационных работ у берегов рек и морей. За первые 100 лет существования самурайского правительства площадь всех пахотных земель возросла вдвое. Вместе с тем, увеличилась производительность труда благодаря появлению новых орудий — мотыги и тысячезубой молотилки, а также использованию удобрений — сушеных сардин и рапсового масла. Широкий размах получило выращивание торговых культур — конопли, хлопка, чая, рапса, красителей индиго и сафлора.
Промышленность и транспорт
Подъём сельского хозяйства способствовал развитию промышленности и увеличению населения. В результате разрастания призамковых поселений повысился спрос на древесину для строительства жилья, что дало толчок лесничеству и деревообработке. Также зародилось производственное рыболовство — в провинциях Ава и Симоса (современная префектура Тиба) вылавливали сардину, в Тоса (современная префектура Коти) — пеламид и китов, в «землях Эдзо» — херингу и морскую капусту Комбу. Наряду с этим, на побережье провинций Внутреннего Японского моря получило развитие солеварение. Возрос спрос на изделия мастеров-лакировщиков уруси, гончаров и литейщиков.
Японские горняки открыли новые рудники золота на острове Садо (современная префектура Ниигата), серебра в районе Икуно провинции Сэтцу (современная префектура Хёго) и меди в местности Асио провинции Симоцукэ (современная префектура Тотиги). Из этих металлов чеканились монеты, которые были в обращении по всей Японии.
Сёгунат уделял должное внимание развитию транспортной инфраструктуры. В Японии были построены пять дорог, главной из которых была Токайдо — путь из Эдо в Киото. На этих дорогах равномерно были сооружены гостиные дворы для отдыха путешественников. Также была создана эффективная почтовая система с гонцами хикяку. Кроме наземных путей приобрели большое значение водные, благодаря активной морской торговле между регионами.
Расцвет «трёх городов»
В период Эдо города Эдо, Осака и Киото приобрели значение общеяпонских центров. Первый был резиденцией сёгуна и административно-политическим центром страны. Он считался главным городом самурайского правительства. На начало XVIII века Эдо, которое насчитывало миллион жителей, превратилось в крупнейший городской центр тогдашнего мира.
Осака была городом купцов. Туда прибывали разнообразные товары со всей Японии. Благодаря этому город часто называли «кухней Поднебесной». Все ханы имели в Осаке свои склады-усадьбы кураясики, откуда продавали местным купцам рис и особые товары из своих владений. Разнообразная продукция, которая стекалась в этот город, перевозилась впоследствии в Эдо на кораблях.
Киото был столицей Японии и культурным центром страны. Он оставался центром монархии и императорского двора. Город славился ремёслами, которые нуждались в высокой художественной подготовке мастеров — декоративной росписью, оружейным делом, лакировкой уруси.
Кроме этих трёх городов особенно развились такие города, как Нагасаки, Кагосима , Хиросима, Мацуяма, Нагоя, Канадзава, Мито, Сендай и другие. Также возникали новые поселения вокруг гостиных дворов и храмов.
Эпоха Цунаёси и культура Гэнроку
«Гражданское правление» Цунаёси
На середину XVII века правление сёгуната в Японии стабилизировалось. 5 сёгун Токугава Цунаёси издал «Закон о сострадании живым существам», который запрещал выгонять нежелательных младенцев и стариков из дома, а также убивать любых животных — от собак до насекомых. Возведя храм Юсимасэйдо в честь Конфуция, он заботился о распространении конфуцианства в стране. Поскольку Цунаёси ценил науки, а не боевые искусства, его правление называют «гражданским».
Однако времена Цунаёси не были популярными в народе. За убийство собаки людей наказывали ссылкой на дальние острова, а любовь сёгуна к религии истощила казну из-за постоянного строительства храмов и святилищ. После смерти Цунаёси, в течение правления 6 и 7 сёгунов, их советник Араи Хакусэки отменил «закон о сострадании» и наладил финансовую систему страны.
Культура Гэнроку
Со второй половины XVII — начала XVII века, в период Гэнроку, зародилась новая городская культура с центром в Киото и Осаке. Её называют культурой Гэнроку. В эти времена начали выходить иллюстрированные рассказы укиё-дзоси, которые описывали повседневную жизнь жителей городов. Самым популярным издателем книг стал Ихара Сакусай. Японское кабуки превратилось из танца в театральное искусство. Кукольный театр нингё дзёрури был реформирован драматургом Тикамацу Мондзаэмоном, который создал для него немало лирических пьес. Вместе с этим новое развитие получила поэзия в лице Мацуо Басё, который превознёс хайку до уровня искусства.

|
| <center>Ширма «Бог ветра, бог грома» (известная реплика работы Таварая Сотацу, выполнена Огатой Корином) |
</center>
В изобразительном искусстве художник Огата Корин объединил традиционные приемы Таварая Сотацу с новыми веяниями. Его знаменитым шедевром является панно «ширма ласточкиных цветов». В то же время появился новый популярный жанр гравюр укиё-э, основными темами которого стали обычаи и повседневность японского города. На этом поприще снискал славу художник Хисикава Моронобу.
Развитие наук
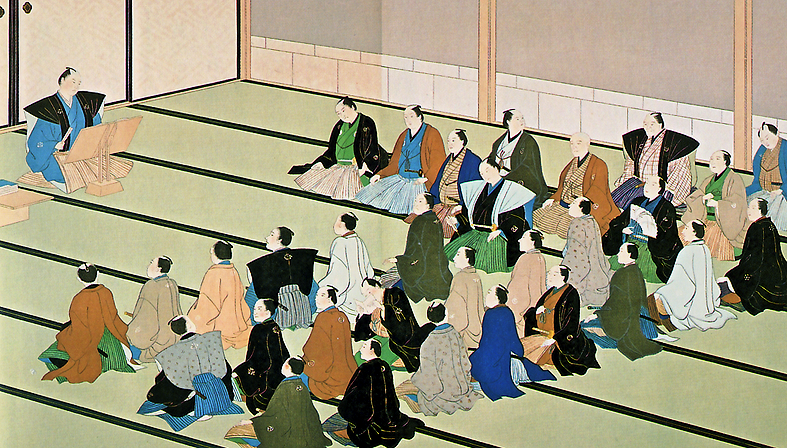 Во времена правления сёгуната науки перестали быть достоянием элиты общества. Всё чаще к ним привлекались представители мещан и крестьян. Главным учением в среде самураев стало конфуцианство, а точнее его течение — чжусианство, которое призывало подданных к верному служению и повиновению власти, а власть — к честному и преданному правлению. Начиная со времён Токугавы Иэясу, который способствовал деятельности ученого Хаяси Радзана, чжусианство стало играть роль государственной идеологии. Под её влиянием оформился кодекс самурайской чести бусидо. Кроме чжусианского течения конфуцианства, в Японии было представлено янминское течение в работах Накаэ Тюдзю и других.
Во времена правления сёгуната науки перестали быть достоянием элиты общества. Всё чаще к ним привлекались представители мещан и крестьян. Главным учением в среде самураев стало конфуцианство, а точнее его течение — чжусианство, которое призывало подданных к верному служению и повиновению власти, а власть — к честному и преданному правлению. Начиная со времён Токугавы Иэясу, который способствовал деятельности ученого Хаяси Радзана, чжусианство стало играть роль государственной идеологии. Под её влиянием оформился кодекс самурайской чести бусидо. Кроме чжусианского течения конфуцианства, в Японии было представлено янминское течение в работах Накаэ Тюдзю и других.
В естественных науках особенно отличились Миядзаки Ясусада, который издал первую в Японии систематизированную работу по агрономии «Сборник произведений по сельскому хозяйству» и Сэки Такакадзу, который самостоятельно изобрёл способ решения уравнений и вычислил число пи. В целом, на конец XVII века уровень японских наук не уступал западным.
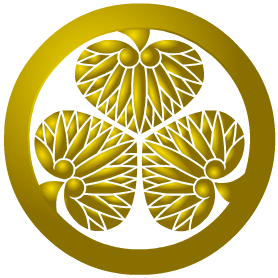 Вторая половина периода Эдо
Вторая половина периода Эдо
Реформы Кёхо и политика Танумы
Реформы Кёхо
С наступлением XVIII века возросло производство риса и появился спрос на товары первой необходимости в городах. Денежная экономика проникла в японскую деревню. Покупка инструментов и удобрений, разведение технических и садовых культур стали нормой. Из-за этого цены на рис упали, что породило хронический дефицит бюджета сёгуната и княжеств, финансы которых зависели от поставок натуральной дани. В 1716 году (1 год Кёхо) 8 сёгунат Токугава Ёсимунэ начал ряд преобразований, направленных на пополнение казны сёгуната. Они получили название «реформы Кёхо». Для уменьшения расходов Ёсимунэ составил «Законы о сбережениях» расходов вассалов, а для увеличения прибыли установил дополнительный налог на рис для княжеств на пользу центрального правительства. Также сёгун стимулировал освоение целинных земель и поднял налоги.
Кроме этого, Ёсимунэ издал «Утверждения положениях о судопроизводстве», в которых установил стандарты для рассмотрения судебных дел и позволил простолюдинам жаловаться на администрацию. В это же время были созданы первые городские пожарные службы в городе Эдо.
«Эпоха Танумы»
После сёгуна Ёсимунэ, который восстановил финансы правительства путём сосредоточения на натуральной экономике, его дело продолжил Танума Окицугу, высший чиновник сёгунатской администрации. Он пытался пополнить казну не рисом, а деньгами, способствуя торговле и развитию промышленности. Танума официально признал монопольные права японских картелей кабунакама в обмен на уплату ими высоких налогов, а также инвестировал в освоение земель Хоккайдо. Несмотря на первоначальный успех его курса, Танума был впоследствии вынужден уйти в отставку. Вмешательство состоятельных купцов в политику повлекло распространение взяточничества в администрациях всех уровней и вызвало массовые протесты населения. В дополнение, мощное извержение вулкана Асаномаяма в 1783 году (3 году Тэммэй), которое принесло засуху и голод, стало причиной многочисленных крестьянских восстаний. Времена правления Танумы Окицугу называют «эпохой Танумы».
Реформы Кансэй и Тэмпо
Реформы Кансэй и эпоха Огосё
В 1787 году (7 году Тэммэй) на должность Танумы был назначен Мацудайра Саданобу. Он отрицал курс своего предшественника «обогащение через торговлю» и ставил в пример политику Ёсимунэ — «обогащение через сбережение». Мацудайра начал ряд преобразований, направленных на реформирование японской деревни. Его курс получил название «реформы Кансэй». Мацудайра силой возвращал крестьян на их родину из городов и ограничивал выращивание сельскохозяйственной продукции на продажу. Вместе с тем он стимулировал выращивание риса и возвёл в селах амбары для хранения на случай голода. Ради спасения вассалов сёгуната от ростовщической кабалы, Мацудайра отменил все их долговые обязательства, но вынудил самураев жить «экономно». В целом, реформы не решали проблем общества, а замораживали их, вызывая недовольство населения. После Мацудайры, делами правительства начал заниматься 11 сёгун Токугава Иэнари. Он отменил политику сбережения и поддержки села, поведя курс на содействие торговле и развитию городов. Даже после своей прижизненной отставки с должности сёгуна он продолжал удерживать все реальные властные рычаги в своих руках. Его правление часто называют «эпохой Огосё», по названию его отставной резиденции и титула.
Голод и реформы Тэмпо
В первой половине XIX века Японию постигла череда бедствий — продолжавшиеся несколько лет неурожаи и массовый голод. Сёгунат не принял мер по спасению населения страны, а наоборот, приказал своим купцам скупать зерно и рис в провинциях для отправки в свою резиденцию в Эдо. Подобная позиция правительства вызвала протест не только среди простого люда, а даже военных-чиновников высокого ранга. Так, в 1837 году (8 год Тэмпо) в Осаке вспыхнуло восстание Осио Хэйхатиро, чиновника местной управы, которое, хотя и было подавлено за один день, свидетельствовало, что сёгунат теряет поддержку среди тех, на ком он держится — самураев.
В 1841 году (12 год Тэмпо) правительство под руководством высокопоставленного чиновника Мидзуно Тадакуни попыталось исправить ситуацию. Был взят курс на восстановление села и подавление коммерции. Крестьянам приказали вернуться из городов домой и выращивать рис, торговать которым запрещалось. В свою очередь, акционерные общества купцов были распущены для сбития высоких цен на продукты питания. Чтобы сосредоточить население на производстве и сельском хозяйстве, были изданы «законы о сбережениях» и запреты на массовые гуляния, в том числе театр кабуки. Курс Мидзуно получил название «реформ Тэмпо», который продлился лишь 2 года ввиду своей непопулярности и неэффективности.
Одновременно преобразования продолжались и в княжествах. В частности западнояпонские княжества Сацума (современная префектура Кагосима) и Тёсю (современная префектура Ямагути) смогли выйти из финансового кризиса путём привлечения к управлению талантливых самураев из низов и развитию торговли. Получив богатство и создав новый управленческий аппарат, оба княжества стали самыми влиятельными во всей Японии и получили возможность противостоять центральному правительству.
Вмешательство иностранных государств
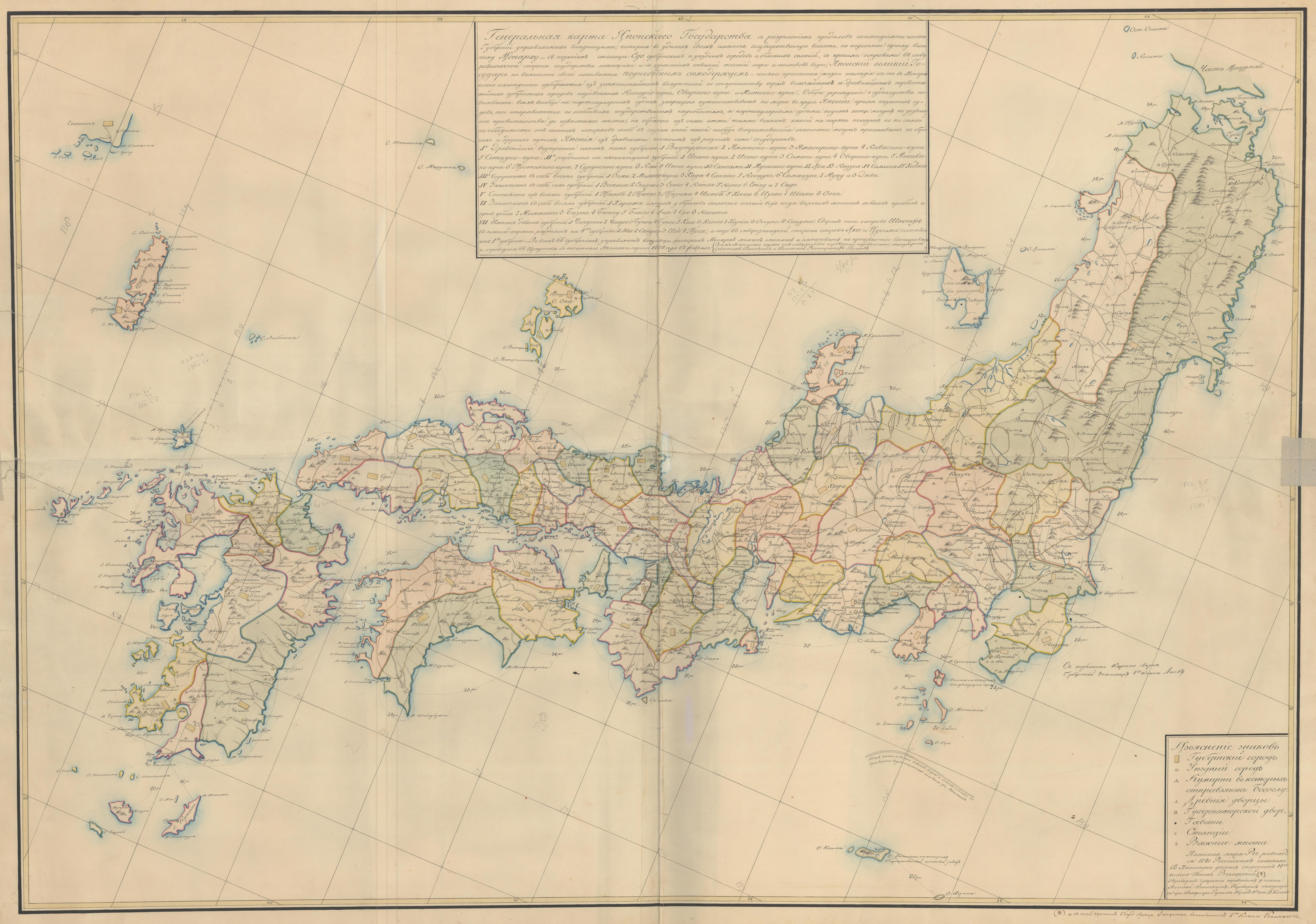 С конца XVIII века у японских берегов начали часто появляться корабли иностранных государств, колониальных империй Запада. Японское правительство придерживалось изоляционной политики «закрытой страны», отказываясь вступать в сношения с Европой или Америкой, с недоверием относясь к ним.
С конца XVIII века у японских берегов начали часто появляться корабли иностранных государств, колониальных империй Запада. Японское правительство придерживалось изоляционной политики «закрытой страны», отказываясь вступать в сношения с Европой или Америкой, с недоверием относясь к ним.
В 1792 году (4 год Кансэй) посольство Российской империи во главе с Лаксманом предложило японцам заключить торговый договор, но сёгунат отказался. Из страха перед иностранным вторжением с севера самурайское правительство поставило под свой непосредственный контроль остров Хоккайдо, который к тому времени находился во владении Мацуэ-хана.
Кроме России в Японию начали прибывать корабли Великобритании, которая начала погоню за колониями в Азии. В 1808 году (5 году Бунка) британский корабль «Фентон» атаковал голландскую факторию в Нагасаки, требуя её передачи и тем самым втягивая японское нейтральное правительство в конфликты далёкой Европы. Также японцев часто беспокоили судна США, которые требовали воды и топлива.
В ответ на агрессию и попрание японских законов сёгунат издал в 1825 году (8 году Бунсэй) «Закон об отражении иностранных кораблей», направленный на усиление береговой обороны и соблюдение курса изоляции. Против такой политики выступили ряд японских ученых-западников, такие как Такано Тёэй и Ватанабэ Кадзан, которым был известен настоящий военный потенциал иностранных государств и возможные последствия для Японии в случае войны с ними. Однако центральное правительство подавило эту оппозицию.
Культура Касэй
В середине XVIII века город Эдо стал крупнейшим японским культурным центром страны, обогнав традиционные Киото и Осаку. Культура этого периода, которая сформировалась на основе городских обычаев Эдо, называют «культурой Касэй».
В литературе того времени приобрели популярность сатирические стихи сэнрю и кёка. Жители Эдо зачитывались комедийными рассказами «На своих двоих по Токайдосскому тракту» Дзиппэнся Икку и «Современными банями» Сикитэя Самбы, которые высмеивали жизнь японских простолюдинов. Также, получило признание развлекательное историко-фантастическое произведение Кёкутэя Бакина «Легенда о восьми псах-воинах клана Сатоми». В поэзии прославились Ёса Бусон и Кобаяси Исса, которые также были художниками.
Театр кабуки, кукольный театр нингё дзёрури, комедийные рассказы ракуго были на пике своей популярности. Дома куртизанок пользовались повышенным спросом. Практически каждый день проходили праздники, посвященные сотням храмов и святилищ города Эдо. Среди простого люда также распространился обычай паломничества к синтоистскому святилищу Исэ и буддистским храмам Сикоку.
Конец XVIII — первая половина XIX века стали «золотым веком» цветных гравюр укиё-э. В эти времена прославились портретисты Китагава Утамаро и Тосюсай Сяраку и пейзажисты Кацусика Хокусай и Утагава Хиросигэ. Их работы оказали значительное влияние на европейскую школу импрессионистов 2-й половины XIX века.

|

|
(укиё-э Кацусики Хокусая) |
(укиё-э Китагавы Утамаро) |
В противовес мещанским разноцветным гравюрам, среди самураев оставалась популярной традиционная монохромная живопись. Её традиции продолжали Икэ-но Тайга и Урагами Гёкудо.
Новые науки и идеи
С XVIII века в Японии начальное образование стало доступным для простолюдинов. Наряду с государственными и ханскими школами для самураев, существовали общественные школы тэракоя, куда принимали всех без сословных ограничений. Главными предметами были чтение, письмо и арифметика. В самурайских школах преподавали отдельно основы конфуцианства. В целом, уровень образованности и грамотности в Японии был одним из самых высоких в мире.
Среди новых наук — «страноведение» кокугаку и «голландские науки» рангаку. Первая занималась изучение японской уникальности и духа через японскую классику, а вторая — освоением достижений европейских точных и естественных наук.
Основы кокугаку были заложены Мотоори Норинага, который, исследуя «Кодзики», выдвинул теорию «несменяемости императорской династии Японии» (яп. 万世一系), обосновывая древность, уникальность и соответственно, верховенство японской монархии в мире. Идеи кокугаку оказали значительное влияние на городское и сельское население страны, будучи частично инкорпорированными в японское националистическое мировоззрение.
Толчком для развития рангаку стало разрешение 8 сёгуна Ёсимунэ завозить и изучать любые европейские книги, кроме религиозно-философской литературы. На их основе учёные Сугита Гэмпаку и Маэно Рётаку перевели и издали «Новый учебник анатомии», а исследователь Хирага Гэннай самостоятельно изобрёл электрогенератор. Центром рангаку был город Нагасаки, где находилась голландская фактория. Именно там немецкий врач и энциклопедист Франц Зибольд воспитал многих японских анатомов и врачей.
Кроме этого, особое развитие получила география. Так, исследователь Ино Тадатака, на основе своих наблюдений и знаний в области отечественной и заморской картографии составил первую точную карту Японского архипелага.
Начиная с конца XVIII века в связи с постепенным приближением государств Запада к Японии, в стране вспыхнула дискуссия о том, как защищать «божественные острова» от агрессивных иностранцев. Хаяси Хэй в «Беседах о войсках морских державах» советовал правительству придерживаться политики изоляции и укрепить город Эдо, поскольку хорошо оснащённые флоты иностранцев могли легко захватить его. Ему вторил, Аидзава Сэйсисай, который настаивал на изгнании «варваров» и почитании монархии. С другой стороны, историк Рай Санъё в своей популярной «Неофициальной истории Японии» ставил под сомнение способность самурайского правительства противостоять Западу и намекал на необходимость восстановления в стране прямого императорского правления.
«Открытие» Японии
Визит Перри
В июне 1853 года (6 год Каэй) небольшая флотилия США из 4 военных кораблей с 100 пушками на борту под командованием командора Мэттью Перри прибыла в Японию, в бухту Урагава (современная префектура Канагава), рядом с заливом Эдо. Перри передал японской стороне ультимативное письмо президента США с требованием открыть японские порты. Сообщив сёгунату, что прибудет в следующем году за ответом, командор вернулся на родину.
Самурайское правительство оказалось в смятении. Реальной вооруженной силы противостоять США оно не имело, но старалось придерживаться курса «закрытой страны». Главный ответственный за правительственные дела Абэ Масахиро провел общее собрание всех даймё Японии для выработки плана дальнейших действий, однако эффективного решения найдено не было. Сами же сборы вызвали падение авторитета сёгуната, прибавив веры местным самураям в том, что важные политические вопросы следует принимать коллегиально, а не единоличным решением чиновников Эдо.
Японско-американский «договор дружбы»
В январе 1854 года Мэтью Перри снова прибыл со своей флотилией в Японию. В результате переговоров сёгунат согласился на требования США и в марте того же года подписал Японско-американский договор мира и дружбы. С курсом изоляции было покончено, Япония «открывала» себя Западу. По этому договору самурайское правительство предоставляло разрешение судам США входить в порты Симода (современная префектура Сидзуока) и Хакодате (современная префектура Хоккайдо), обязывался предоставлять им провизию и топливо, и позволял строительство консульства США в Симоде.
В 1856 году новоназначенный генеральный консул США в Японии, Таунзенд Харрис, начал требовать от японских властей подписания торгового договора между обеими странами[1]. Чиновники сёгуната очередной раз не смогли проявить политическую волю, расколовшись на сторонников и оппонентов заключения очередной сделки с иностранцами. В результате, обе группы обратились за арбитражем в этом деле к императорскому двору в Киото. Это был неслыханный шаг за всю 250-летнюю историю самурайского правительства, которому двор в своё время делегировал всю полноту власти. Такие действия сёгуната ещё больше подорвали его престиж в глазах населения, которое отныне видело киотского монарха единственным возможным спасителем Японии от «варварского порабощения».
Антиправительственная оппозиция
Заключение неравноправных договоров
В 1858 году (5 год Ансэй) сёгунат, не дождавшись разрешения императорского двора, самовольно заключил Японско-американский договор о дружбе и торговле, по которому открыл для судов США ещё 5 портов — Хакодате, Йокогаму, Ниигату, Кобе и Нагасаки. Впоследствии подобные договоры были подписаны с Нидерландами, Россией, Великобританией и Францией. Эти договоры были неравноправными, поскольку японская сторона не могла судить иностранцев по своим законам, а также не имела права устанавливать пошлины на ввоз товаров из-за границы.
«Да здравствует Император, долой варваров!»
После подписания договоров среди японского населения, прежде всего самурайства, поднялся шквал критики сёгуната, который пренебрег мнением императора и капитулировал перед иностранными государствами. Сторонники политического курса за передачу полноты власти императору и поборники изгнания иностранцев объединились в одно движение «Да здравствует Император, долой варваров!». За резкие антиправительственные заявления около сотни лидеров движения были арестованы и казнены по приказу главного чиновника сёгуната, Ии Наосукэ, который был ответственен за заключение договоров. Среди наказанных были известные на всю Японию мыслители — глава княжества Мито Токугава Нариаки и учёный из княжества Тёсю Ёсида Сёин. Эти действия получили название «репрессии Ансэй».
Однако в 1860 году (1 году Манъэн) случился инцидент у ворот Сакурада, в котором Ии Наосукэ был убит по дороге к замку Эдо. Это убийство нанесло сильный удар по престижу сёгуната, а антиправительственная оппозиция получила новый приток сил. Её центром постепенно становилось западнояпонское княжекство Тёсю. Его управленцы Такасуги Синсаку и Кидо Такаёси, которые были учениками казненного Ёсиды Сёина, наладили отношения с киотскими аристократами и склонили многих аристократов императорского двора к оппозиционному движению.
Вооруженные конфликты с иностранными государствами
 Вместе с княжеством Тёсю влиятельной антиправительственной силой стало владение Сацума. В 1862 году тамошние самураи зарубили британца, который нарушил местный обычай, пытаясь пробиться верхом на лошади через колонну японских воинов. Из-за этого инцидента вспыхнула сацумско-британская война, в которой столица Сацумы была разрушена, а Великобритания получила большую контрибуцию.
Вместе с княжеством Тёсю влиятельной антиправительственной силой стало владение Сацума. В 1862 году тамошние самураи зарубили британца, который нарушил местный обычай, пытаясь пробиться верхом на лошади через колонну японских воинов. Из-за этого инцидента вспыхнула сацумско-британская война, в которой столица Сацумы была разрушена, а Великобритания получила большую контрибуцию.
В связи с настойчивыми требованиями киотского двора «изгнать варваров» из Японии, в 1863 году (3 год Бункю) сёгунат отдал приказ всем ханам очистить страну от иностранцев. Пользуясь этим воины княжества Тёсю потопили иностранные торговые суда, которые зашли в порт Симоносеки, развязав тем самым новую войну. В ответ, в следующем году объединенная флотилия Британии, Франции, США и Нидерландов атаковала нападавших и захватила прибрежные районы их владений. Тёсю проиграло эту войну, а иностранные государства, как и год назад, получили новые привилегии и контрибуцию.
Самураи из Тёсю и Сацумы были единственными в Японии, кто почувствовал на себе вооруженную преимущество Запада. Осознав, что политика «изгнания варваров» ведёт к открытому вооруженному конфликту, в котором японцам не победить, они тайно перешли на позиции «открытия страны» иностранцам. Они начали закупать оружие у западных государств, продолжая традиционную критику сёгуната.
Последние дни сёгуната
Союз княжеств Сацумы и Тёсю
В конце 1863 года (3 год Бункю) для подавления антиправительственных сил во главе с Тёсю-ханом, сёгунат выгнал из императорского двора оппозиционеров и создал коалицию с ханом рода Токугава и княжества Айдзу. Правительство также сумело приобщить к этой коалиции Сацуму, тем самым изолировав политических противников. В следующем году сёгунат совершил карательный поход против княжества Тёсю и заставил его капитулировать. Однако вскоре самураи этого княжества под руководством Такасуги Синсаку и Кидо Такаёси сбросили проправительственных ставленников, и Тёсю вернулся на позиции лидера всеяпонской оппозиции.
Между тем, политикой Сацумы начали управлять Сайго Такамори и Окубо Тосимити, которые начали перевооружение своих сил, учитывая горький опыт сацумско-английской войны. Они покинули правящую коалицию и перешли на позиции критики сёгуната.
В 1866 году (2 год Кэйо), при посредничестве самурая из княжества Тоса, Сакамото Рёмы, был заключен тайный союз ханов Сацума и Тёсю. Целью союза стало свержение сёгуната и создание единой, унитарной, сильной Японии.
Ликвидация сёгуната
В 1866 году обстоятельства сложились в пользу антиправительственных сил. Новым сёгуном стал малоопытный Токугава Ёсинобу, а вместо симпатика сёгуната, покойного императора Комэя, на трон взошёл 14-летний император Мэйдзи.
Ёсинобу считал, что поддерживать жизнеспособность управленческой системы Японии в форме сёгуната невозможно. Он планировал создать новое коллегиальное правительство из всех японских даймё во главе с императором, в котором род Токугава продолжал бы удерживать реальную власть в качестве премьер-министра. Исходя из этих идей, в октябре 1867 года Ёсинобу вернул должность сёгуна и полноту политической власти японскому Императору.
Оппозиционеры только этого и ждали. Сайго Такамори, Окубо Тосимити и Кидо Такаёси, вместе с лидером дворцовых аристократов Ивакурой Томоми, предложили императору выслать Ёсинобу и конфисковать все земли рода Токугава. В результате этого, в конце 1867 года был издан «Указ о реставрации Императорского правления», который провозглашал создание нового правительства во главе с императором, а идеалом государства определялась древняя унитарная и централизованная Япония VIII—X веков. Сёгунат Токугава ликвидировался, а семья Токугавы отстранялась от управления страной. Вместе с уничтожением сёгуната завершилась 260-летняя эпоха Эдо и эпоха доминирования самураев в японской политической жизни. Для Японии наступали новые времена модернизации и империализма — период Мэйдзи.
См. также
Напишите отзыв о статье "Период Эдо"
Примечания
- ↑ [news.leit.ru/archives/2297 Посвящается человеку, помогшему открыть Японию миру]
Источники и литература
- [www.japantoday.ru/entsiklopediya-yaponii-ot-a-do-ya/edo-period.html Эдо (период)] // Япония от А до Я. Популярная иллюстрированная энциклопедия. (CD-ROM). — М.: Directmedia Publishing, «Япония сегодня», 2008. — ISBN 978-5-94865-190-3.
- Икута Митико [cyberleninka.ru/article/n/obraz-yaponii-v-rossii-v-period-edo-xvii-xix-vv Образ Японии в России в период Эдо (XVII-XIX вв.)] // Известия Восточного института Дальневосточного государственного университета : журнал. — 2005. — № 9. — С. 107—127.
- (яп.) [100.yahoo.co.jp/detail/江戸時代/ Период Эдо] // Энциклопедия Ниппоника. — 2-е. — Токио: Сёгакукан, 1994—1997. [archive.is/NRHYF копия]
- 『国史大辞典』15巻、17冊 (Большой словарь истории Японии).東京、吉川弘文館、1972-1997. 第2巻、P.330-339. (яп.)
- 北島正元『江戸幕府の権力構造』 (Китадзима Масамото. Структура сласти сёгуната Эдо).東京、岩波書店、1964. (яп.)
- 『徳川幕府事典』 (Словарь сёгуната Токугава).東京、東京堂出版、2003. (яп.)
- 『詳説・日本史』 ((Подробная история Японии. Учебник для высшей школы). 東京、山川出版社、1997. P.149 — 236. (яп.)
Отрывок, характеризующий Период Эдо
Андрей молчал: ему и приятно и неприятно было, что отец понял его. Старик встал и подал письмо сыну.– Слушай, – сказал он, – о жене не заботься: что возможно сделать, то будет сделано. Теперь слушай: письмо Михайлу Иларионовичу отдай. Я пишу, чтоб он тебя в хорошие места употреблял и долго адъютантом не держал: скверная должность! Скажи ты ему, что я его помню и люблю. Да напиши, как он тебя примет. Коли хорош будет, служи. Николая Андреича Болконского сын из милости служить ни у кого не будет. Ну, теперь поди сюда.
Он говорил такою скороговоркой, что не доканчивал половины слов, но сын привык понимать его. Он подвел сына к бюро, откинул крышку, выдвинул ящик и вынул исписанную его крупным, длинным и сжатым почерком тетрадь.
– Должно быть, мне прежде тебя умереть. Знай, тут мои записки, их государю передать после моей смерти. Теперь здесь – вот ломбардный билет и письмо: это премия тому, кто напишет историю суворовских войн. Переслать в академию. Здесь мои ремарки, после меня читай для себя, найдешь пользу.
Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно.
– Всё исполню, батюшка, – сказал он.
– Ну, теперь прощай! – Он дал поцеловать сыну свою руку и обнял его. – Помни одно, князь Андрей: коли тебя убьют, мне старику больно будет… – Он неожиданно замолчал и вдруг крикливым голосом продолжал: – а коли узнаю, что ты повел себя не как сын Николая Болконского, мне будет… стыдно! – взвизгнул он.
– Этого вы могли бы не говорить мне, батюшка, – улыбаясь, сказал сын.
Старик замолчал.
– Еще я хотел просить вас, – продолжал князь Андрей, – ежели меня убьют и ежели у меня будет сын, не отпускайте его от себя, как я вам вчера говорил, чтоб он вырос у вас… пожалуйста.
– Жене не отдавать? – сказал старик и засмеялся.
Они молча стояли друг против друга. Быстрые глаза старика прямо были устремлены в глаза сына. Что то дрогнуло в нижней части лица старого князя.
– Простились… ступай! – вдруг сказал он. – Ступай! – закричал он сердитым и громким голосом, отворяя дверь кабинета.
– Что такое, что? – спрашивали княгиня и княжна, увидев князя Андрея и на минуту высунувшуюся фигуру кричавшего сердитым голосом старика в белом халате, без парика и в стариковских очках.
Князь Андрей вздохнул и ничего не ответил.
– Ну, – сказал он, обратившись к жене.
И это «ну» звучало холодною насмешкой, как будто он говорил: «теперь проделывайте вы ваши штуки».
– Andre, deja! [Андрей, уже!] – сказала маленькая княгиня, бледнея и со страхом глядя на мужа.
Он обнял ее. Она вскрикнула и без чувств упала на его плечо.
Он осторожно отвел плечо, на котором она лежала, заглянул в ее лицо и бережно посадил ее на кресло.
– Adieu, Marieie, [Прощай, Маша,] – сказал он тихо сестре, поцеловался с нею рука в руку и скорыми шагами вышел из комнаты.
Княгиня лежала в кресле, m lle Бурьен терла ей виски. Княжна Марья, поддерживая невестку, с заплаканными прекрасными глазами, всё еще смотрела в дверь, в которую вышел князь Андрей, и крестила его. Из кабинета слышны были, как выстрелы, часто повторяемые сердитые звуки стариковского сморкания. Только что князь Андрей вышел, дверь кабинета быстро отворилась и выглянула строгая фигура старика в белом халате.
– Уехал? Ну и хорошо! – сказал он, сердито посмотрев на бесчувственную маленькую княгиню, укоризненно покачал головою и захлопнул дверь.
В октябре 1805 года русские войска занимали села и города эрцгерцогства Австрийского, и еще новые полки приходили из России и, отягощая постоем жителей, располагались у крепости Браунау. В Браунау была главная квартира главнокомандующего Кутузова.
11 го октября 1805 года один из только что пришедших к Браунау пехотных полков, ожидая смотра главнокомандующего, стоял в полумиле от города. Несмотря на нерусскую местность и обстановку (фруктовые сады, каменные ограды, черепичные крыши, горы, видневшиеся вдали), на нерусский народ, c любопытством смотревший на солдат, полк имел точно такой же вид, какой имел всякий русский полк, готовившийся к смотру где нибудь в середине России.
С вечера, на последнем переходе, был получен приказ, что главнокомандующий будет смотреть полк на походе. Хотя слова приказа и показались неясны полковому командиру, и возник вопрос, как разуметь слова приказа: в походной форме или нет? в совете батальонных командиров было решено представить полк в парадной форме на том основании, что всегда лучше перекланяться, чем не докланяться. И солдаты, после тридцативерстного перехода, не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились; адъютанты и ротные рассчитывали, отчисляли; и к утру полк, вместо растянутой беспорядочной толпы, какою он был накануне на последнем переходе, представлял стройную массу 2 000 людей, из которых каждый знал свое место, свое дело и из которых на каждом каждая пуговка и ремешок были на своем месте и блестели чистотой. Не только наружное было исправно, но ежели бы угодно было главнокомандующему заглянуть под мундиры, то на каждом он увидел бы одинаково чистую рубаху и в каждом ранце нашел бы узаконенное число вещей, «шильце и мыльце», как говорят солдаты. Было только одно обстоятельство, насчет которого никто не мог быть спокоен. Это была обувь. Больше чем у половины людей сапоги были разбиты. Но недостаток этот происходил не от вины полкового командира, так как, несмотря на неоднократные требования, ему не был отпущен товар от австрийского ведомства, а полк прошел тысячу верст.
Полковой командир был пожилой, сангвинический, с седеющими бровями и бакенбардами генерал, плотный и широкий больше от груди к спине, чем от одного плеча к другому. На нем был новый, с иголочки, со слежавшимися складками мундир и густые золотые эполеты, которые как будто не книзу, а кверху поднимали его тучные плечи. Полковой командир имел вид человека, счастливо совершающего одно из самых торжественных дел жизни. Он похаживал перед фронтом и, похаживая, подрагивал на каждом шагу, слегка изгибаясь спиною. Видно, было, что полковой командир любуется своим полком, счастлив им, что все его силы душевные заняты только полком; но, несмотря на то, его подрагивающая походка как будто говорила, что, кроме военных интересов, в душе его немалое место занимают и интересы общественного быта и женский пол.
– Ну, батюшка Михайло Митрич, – обратился он к одному батальонному командиру (батальонный командир улыбаясь подался вперед; видно было, что они были счастливы), – досталось на орехи нынче ночью. Однако, кажется, ничего, полк не из дурных… А?
Батальонный командир понял веселую иронию и засмеялся.
– И на Царицыном лугу с поля бы не прогнали.
– Что? – сказал командир.
В это время по дороге из города, по которой расставлены были махальные, показались два верховые. Это были адъютант и казак, ехавший сзади.
Адъютант был прислан из главного штаба подтвердить полковому командиру то, что было сказано неясно во вчерашнем приказе, а именно то, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором oн шел – в шинелях, в чехлах и без всяких приготовлений.
К Кутузову накануне прибыл член гофкригсрата из Вены, с предложениями и требованиями итти как можно скорее на соединение с армией эрцгерцога Фердинанда и Мака, и Кутузов, не считая выгодным это соединение, в числе прочих доказательств в пользу своего мнения намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России. С этою целью он и хотел выехать навстречу полку, так что, чем хуже было бы положение полка, тем приятнее было бы это главнокомандующему. Хотя адъютант и не знал этих подробностей, однако он передал полковому командиру непременное требование главнокомандующего, чтобы люди были в шинелях и чехлах, и что в противном случае главнокомандующий будет недоволен. Выслушав эти слова, полковой командир опустил голову, молча вздернул плечами и сангвиническим жестом развел руки.
– Наделали дела! – проговорил он. – Вот я вам говорил же, Михайло Митрич, что на походе, так в шинелях, – обратился он с упреком к батальонному командиру. – Ах, мой Бог! – прибавил он и решительно выступил вперед. – Господа ротные командиры! – крикнул он голосом, привычным к команде. – Фельдфебелей!… Скоро ли пожалуют? – обратился он к приехавшему адъютанту с выражением почтительной учтивости, видимо относившейся к лицу, про которое он говорил.
– Через час, я думаю.
– Успеем переодеть?
– Не знаю, генерал…
Полковой командир, сам подойдя к рядам, распорядился переодеванием опять в шинели. Ротные командиры разбежались по ротам, фельдфебели засуетились (шинели были не совсем исправны) и в то же мгновение заколыхались, растянулись и говором загудели прежде правильные, молчаливые четвероугольники. Со всех сторон отбегали и подбегали солдаты, подкидывали сзади плечом, через голову перетаскивали ранцы, снимали шинели и, высоко поднимая руки, натягивали их в рукава.
Через полчаса всё опять пришло в прежний порядок, только четвероугольники сделались серыми из черных. Полковой командир, опять подрагивающею походкой, вышел вперед полка и издалека оглядел его.
– Это что еще? Это что! – прокричал он, останавливаясь. – Командира 3 й роты!..
– Командир 3 й роты к генералу! командира к генералу, 3 й роты к командиру!… – послышались голоса по рядам, и адъютант побежал отыскивать замешкавшегося офицера.
Когда звуки усердных голосов, перевирая, крича уже «генерала в 3 ю роту», дошли по назначению, требуемый офицер показался из за роты и, хотя человек уже пожилой и не имевший привычки бегать, неловко цепляясь носками, рысью направился к генералу. Лицо капитана выражало беспокойство школьника, которому велят сказать невыученный им урок. На красном (очевидно от невоздержания) носу выступали пятна, и рот не находил положения. Полковой командир с ног до головы осматривал капитана, в то время как он запыхавшись подходил, по мере приближения сдерживая шаг.
– Вы скоро людей в сарафаны нарядите! Это что? – крикнул полковой командир, выдвигая нижнюю челюсть и указывая в рядах 3 й роты на солдата в шинели цвета фабричного сукна, отличавшегося от других шинелей. – Сами где находились? Ожидается главнокомандующий, а вы отходите от своего места? А?… Я вас научу, как на смотр людей в казакины одевать!… А?…
Ротный командир, не спуская глаз с начальника, всё больше и больше прижимал свои два пальца к козырьку, как будто в одном этом прижимании он видел теперь свое спасенье.
– Ну, что ж вы молчите? Кто у вас там в венгерца наряжен? – строго шутил полковой командир.
– Ваше превосходительство…
– Ну что «ваше превосходительство»? Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! А что ваше превосходительство – никому неизвестно.
– Ваше превосходительство, это Долохов, разжалованный… – сказал тихо капитан.
– Что он в фельдмаршалы, что ли, разжалован или в солдаты? А солдат, так должен быть одет, как все, по форме.
– Ваше превосходительство, вы сами разрешили ему походом.
– Разрешил? Разрешил? Вот вы всегда так, молодые люди, – сказал полковой командир, остывая несколько. – Разрешил? Вам что нибудь скажешь, а вы и… – Полковой командир помолчал. – Вам что нибудь скажешь, а вы и… – Что? – сказал он, снова раздражаясь. – Извольте одеть людей прилично…
И полковой командир, оглядываясь на адъютанта, своею вздрагивающею походкой направился к полку. Видно было, что его раздражение ему самому понравилось, и что он, пройдясь по полку, хотел найти еще предлог своему гневу. Оборвав одного офицера за невычищенный знак, другого за неправильность ряда, он подошел к 3 й роте.
– Кааак стоишь? Где нога? Нога где? – закричал полковой командир с выражением страдания в голосе, еще человек за пять не доходя до Долохова, одетого в синеватую шинель.
Долохов медленно выпрямил согнутую ногу и прямо, своим светлым и наглым взглядом, посмотрел в лицо генерала.
– Зачем синяя шинель? Долой… Фельдфебель! Переодеть его… дря… – Он не успел договорить.
– Генерал, я обязан исполнять приказания, но не обязан переносить… – поспешно сказал Долохов.
– Во фронте не разговаривать!… Не разговаривать, не разговаривать!…
– Не обязан переносить оскорбления, – громко, звучно договорил Долохов.
Глаза генерала и солдата встретились. Генерал замолчал, сердито оттягивая книзу тугой шарф.
– Извольте переодеться, прошу вас, – сказал он, отходя.
– Едет! – закричал в это время махальный.
Полковой командир, покраснел, подбежал к лошади, дрожащими руками взялся за стремя, перекинул тело, оправился, вынул шпагу и с счастливым, решительным лицом, набок раскрыв рот, приготовился крикнуть. Полк встрепенулся, как оправляющаяся птица, и замер.
– Смир р р р на! – закричал полковой командир потрясающим душу голосом, радостным для себя, строгим в отношении к полку и приветливым в отношении к подъезжающему начальнику.
По широкой, обсаженной деревьями, большой, бесшоссейной дороге, слегка погромыхивая рессорами, шибкою рысью ехала высокая голубая венская коляска цугом. За коляской скакали свита и конвой кроатов. Подле Кутузова сидел австрийский генерал в странном, среди черных русских, белом мундире. Коляска остановилась у полка. Кутузов и австрийский генерал о чем то тихо говорили, и Кутузов слегка улыбнулся, в то время как, тяжело ступая, он опускал ногу с подножки, точно как будто и не было этих 2 000 людей, которые не дыша смотрели на него и на полкового командира.
Раздался крик команды, опять полк звеня дрогнул, сделав на караул. В мертвой тишине послышался слабый голос главнокомандующего. Полк рявкнул: «Здравья желаем, ваше го го го го ство!» И опять всё замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался; потом Кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемый свитою, стал ходить по рядам.
По тому, как полковой командир салютовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение, как подскакивал при каждом слове и движении главнокомандующего, – видно было, что он исполнял свои обязанности подчиненного еще с большим наслаждением, чем обязанности начальника. Полк, благодаря строгости и старательности полкового командира, был в прекрасном состоянии сравнительно с другими, приходившими в то же время к Браунау. Отсталых и больных было только 217 человек. И всё было исправно, кроме обуви.
Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу с таким выражением, что как бы не упрекал в этом никого, но не мог не видеть, как это плохо. Полковой командир каждый раз при этом забегал вперед, боясь упустить слово главнокомандующего касательно полка. Сзади Кутузова, в таком расстоянии, что всякое слабо произнесенное слово могло быть услышано, шло человек 20 свиты. Господа свиты разговаривали между собой и иногда смеялись. Ближе всех за главнокомандующим шел красивый адъютант. Это был князь Болконский. Рядом с ним шел его товарищ Несвицкий, высокий штаб офицер, чрезвычайно толстый, с добрым, и улыбающимся красивым лицом и влажными глазами; Несвицкий едва удерживался от смеха, возбуждаемого черноватым гусарским офицером, шедшим подле него. Гусарский офицер, не улыбаясь, не изменяя выражения остановившихся глаз, с серьезным лицом смотрел на спину полкового командира и передразнивал каждое его движение. Каждый раз, как полковой командир вздрагивал и нагибался вперед, точно так же, точь в точь так же, вздрагивал и нагибался вперед гусарский офицер. Несвицкий смеялся и толкал других, чтобы они смотрели на забавника.
Кутузов шел медленно и вяло мимо тысячей глаз, которые выкатывались из своих орбит, следя за начальником. Поровнявшись с 3 й ротой, он вдруг остановился. Свита, не предвидя этой остановки, невольно надвинулась на него.
– А, Тимохин! – сказал главнокомандующий, узнавая капитана с красным носом, пострадавшего за синюю шинель.
Казалось, нельзя было вытягиваться больше того, как вытягивался Тимохин, в то время как полковой командир делал ему замечание. Но в эту минуту обращения к нему главнокомандующего капитан вытянулся так, что, казалось, посмотри на него главнокомандующий еще несколько времени, капитан не выдержал бы; и потому Кутузов, видимо поняв его положение и желая, напротив, всякого добра капитану, поспешно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробежала чуть заметная улыбка.
– Еще измайловский товарищ, – сказал он. – Храбрый офицер! Ты доволен им? – спросил Кутузов у полкового командира.
И полковой командир, отражаясь, как в зеркале, невидимо для себя, в гусарском офицере, вздрогнул, подошел вперед и отвечал:
– Очень доволен, ваше высокопревосходительство.
– Мы все не без слабостей, – сказал Кутузов, улыбаясь и отходя от него. – У него была приверженность к Бахусу.
Полковой командир испугался, не виноват ли он в этом, и ничего не ответил. Офицер в эту минуту заметил лицо капитана с красным носом и подтянутым животом и так похоже передразнил его лицо и позу, что Несвицкий не мог удержать смеха.
Кутузов обернулся. Видно было, что офицер мог управлять своим лицом, как хотел: в ту минуту, как Кутузов обернулся, офицер успел сделать гримасу, а вслед за тем принять самое серьезное, почтительное и невинное выражение.
Третья рота была последняя, и Кутузов задумался, видимо припоминая что то. Князь Андрей выступил из свиты и по французски тихо сказал:
– Вы приказали напомнить о разжалованном Долохове в этом полку.
– Где тут Долохов? – спросил Кутузов.
Долохов, уже переодетый в солдатскую серую шинель, не дожидался, чтоб его вызвали. Стройная фигура белокурого с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта. Он подошел к главнокомандующему и сделал на караул.
– Претензия? – нахмурившись слегка, спросил Кутузов.
– Это Долохов, – сказал князь Андрей.
– A! – сказал Кутузов. – Надеюсь, что этот урок тебя исправит, служи хорошенько. Государь милостив. И я не забуду тебя, ежели ты заслужишь.
Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандующего так же дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдата.
– Об одном прошу, ваше высокопревосходительство, – сказал он своим звучным, твердым, неспешащим голосом. – Прошу дать мне случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и России.
Кутузов отвернулся. На лице его промелькнула та же улыбка глаз, как и в то время, когда он отвернулся от капитана Тимохина. Он отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что всё, что ему сказал Долохов, и всё, что он мог сказать ему, он давно, давно знает, что всё это уже прискучило ему и что всё это совсем не то, что нужно. Он отвернулся и направился к коляске.
Полк разобрался ротами и направился к назначенным квартирам невдалеке от Браунау, где надеялся обуться, одеться и отдохнуть после трудных переходов.
– Вы на меня не претендуете, Прохор Игнатьич? – сказал полковой командир, объезжая двигавшуюся к месту 3 ю роту и подъезжая к шедшему впереди ее капитану Тимохину. Лицо полкового командира выражало после счастливо отбытого смотра неудержимую радость. – Служба царская… нельзя… другой раз во фронте оборвешь… Сам извинюсь первый, вы меня знаете… Очень благодарил! – И он протянул руку ротному.
– Помилуйте, генерал, да смею ли я! – отвечал капитан, краснея носом, улыбаясь и раскрывая улыбкой недостаток двух передних зубов, выбитых прикладом под Измаилом.
– Да господину Долохову передайте, что я его не забуду, чтоб он был спокоен. Да скажите, пожалуйста, я всё хотел спросить, что он, как себя ведет? И всё…
– По службе очень исправен, ваше превосходительство… но карахтер… – сказал Тимохин.
– А что, что характер? – спросил полковой командир.
– Находит, ваше превосходительство, днями, – говорил капитан, – то и умен, и учен, и добр. А то зверь. В Польше убил было жида, изволите знать…
– Ну да, ну да, – сказал полковой командир, – всё надо пожалеть молодого человека в несчастии. Ведь большие связи… Так вы того…
– Слушаю, ваше превосходительство, – сказал Тимохин, улыбкой давая чувствовать, что он понимает желания начальника.
– Ну да, ну да.
Полковой командир отыскал в рядах Долохова и придержал лошадь.
– До первого дела – эполеты, – сказал он ему.
Долохов оглянулся, ничего не сказал и не изменил выражения своего насмешливо улыбающегося рта.
– Ну, вот и хорошо, – продолжал полковой командир. – Людям по чарке водки от меня, – прибавил он, чтобы солдаты слышали. – Благодарю всех! Слава Богу! – И он, обогнав роту, подъехал к другой.
– Что ж, он, право, хороший человек; с ним служить можно, – сказал Тимохин субалтерн офицеру, шедшему подле него.
– Одно слово, червонный!… (полкового командира прозвали червонным королем) – смеясь, сказал субалтерн офицер.
Счастливое расположение духа начальства после смотра перешло и к солдатам. Рота шла весело. Со всех сторон переговаривались солдатские голоса.
– Как же сказывали, Кутузов кривой, об одном глазу?
– А то нет! Вовсе кривой.
– Не… брат, глазастее тебя. Сапоги и подвертки – всё оглядел…
– Как он, братец ты мой, глянет на ноги мне… ну! думаю…
– А другой то австрияк, с ним был, словно мелом вымазан. Как мука, белый. Я чай, как амуницию чистят!
– Что, Федешоу!… сказывал он, что ли, когда стражения начнутся, ты ближе стоял? Говорили всё, в Брунове сам Бунапарте стоит.
– Бунапарте стоит! ишь врет, дура! Чего не знает! Теперь пруссак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. А то, говорит, в Брунове Бунапарте стоит! То то и видно, что дурак. Ты слушай больше.
– Вишь черти квартирьеры! Пятая рота, гляди, уже в деревню заворачивает, они кашу сварят, а мы еще до места не дойдем.
– Дай сухарика то, чорт.
– А табаку то вчера дал? То то, брат. Ну, на, Бог с тобой.
– Хоть бы привал сделали, а то еще верст пять пропрем не емши.
– То то любо было, как немцы нам коляски подавали. Едешь, знай: важно!
– А здесь, братец, народ вовсе оголтелый пошел. Там всё как будто поляк был, всё русской короны; а нынче, брат, сплошной немец пошел.
– Песенники вперед! – послышался крик капитана.
И перед роту с разных рядов выбежало человек двадцать. Барабанщик запевало обернулся лицом к песенникам, и, махнув рукой, затянул протяжную солдатскую песню, начинавшуюся: «Не заря ли, солнышко занималося…» и кончавшуюся словами: «То то, братцы, будет слава нам с Каменскиим отцом…» Песня эта была сложена в Турции и пелась теперь в Австрии, только с тем изменением, что на место «Каменскиим отцом» вставляли слова: «Кутузовым отцом».
Оторвав по солдатски эти последние слова и махнув руками, как будто он бросал что то на землю, барабанщик, сухой и красивый солдат лет сорока, строго оглянул солдат песенников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто осторожно приподнял обеими руками какую то невидимую, драгоценную вещь над головой, подержал ее так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее:
Ах, вы, сени мои, сени!
«Сени новые мои…», подхватили двадцать голосов, и ложечник, несмотря на тяжесть амуниции, резво выскочил вперед и пошел задом перед ротой, пошевеливая плечами и угрожая кому то ложками. Солдаты, в такт песни размахивая руками, шли просторным шагом, невольно попадая в ногу. Сзади роты послышались звуки колес, похрускиванье рессор и топот лошадей.
Кутузов со свитой возвращался в город. Главнокомандующий дал знак, чтобы люди продолжали итти вольно, и на его лице и на всех лицах его свиты выразилось удовольствие при звуках песни, при виде пляшущего солдата и весело и бойко идущих солдат роты. Во втором ряду, с правого фланга, с которого коляска обгоняла роты, невольно бросался в глаза голубоглазый солдат, Долохов, который особенно бойко и грациозно шел в такт песни и глядел на лица проезжающих с таким выражением, как будто он жалел всех, кто не шел в это время с ротой. Гусарский корнет из свиты Кутузова, передразнивавший полкового командира, отстал от коляски и подъехал к Долохову.
Гусарский корнет Жерков одно время в Петербурге принадлежал к тому буйному обществу, которым руководил Долохов. За границей Жерков встретил Долохова солдатом, но не счел нужным узнать его. Теперь, после разговора Кутузова с разжалованным, он с радостью старого друга обратился к нему:
– Друг сердечный, ты как? – сказал он при звуках песни, ровняя шаг своей лошади с шагом роты.
– Я как? – отвечал холодно Долохов, – как видишь.
Бойкая песня придавала особенное значение тону развязной веселости, с которой говорил Жерков, и умышленной холодности ответов Долохова.
– Ну, как ладишь с начальством? – спросил Жерков.
– Ничего, хорошие люди. Ты как в штаб затесался?
– Прикомандирован, дежурю.
Они помолчали.
«Выпускала сокола да из правого рукава», говорила песня, невольно возбуждая бодрое, веселое чувство. Разговор их, вероятно, был бы другой, ежели бы они говорили не при звуках песни.
– Что правда, австрийцев побили? – спросил Долохов.
– А чорт их знает, говорят.
– Я рад, – отвечал Долохов коротко и ясно, как того требовала песня.
– Что ж, приходи к нам когда вечерком, фараон заложишь, – сказал Жерков.
– Или у вас денег много завелось?
– Приходи.
– Нельзя. Зарок дал. Не пью и не играю, пока не произведут.
– Да что ж, до первого дела…
– Там видно будет.
Опять они помолчали.
– Ты заходи, коли что нужно, все в штабе помогут… – сказал Жерков.
Долохов усмехнулся.
– Ты лучше не беспокойся. Мне что нужно, я просить не стану, сам возьму.
– Да что ж, я так…
– Ну, и я так.
– Прощай.
– Будь здоров…
… и высоко, и далеко,
На родиму сторону…
Жерков тронул шпорами лошадь, которая раза три, горячась, перебила ногами, не зная, с какой начать, справилась и поскакала, обгоняя роту и догоняя коляску, тоже в такт песни.
Возвратившись со смотра, Кутузов, сопутствуемый австрийским генералом, прошел в свой кабинет и, кликнув адъютанта, приказал подать себе некоторые бумаги, относившиеся до состояния приходивших войск, и письма, полученные от эрцгерцога Фердинанда, начальствовавшего передовою армией. Князь Андрей Болконский с требуемыми бумагами вошел в кабинет главнокомандующего. Перед разложенным на столе планом сидели Кутузов и австрийский член гофкригсрата.
– А… – сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по французски начатый разговор.
– Я только говорю одно, генерал, – говорил Кутузов с приятным изяществом выражений и интонации, заставлявшим вслушиваться в каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с удовольствием слушал себя. – Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества императора Франца давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что для меня лично передать высшее начальство армией более меня сведущему и искусному генералу, какими так обильна Австрия, и сложить с себя всю эту тяжкую ответственность для меня лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал.
И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно всё равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом то всё дело».
Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же тоне отвечать Кутузову.
– Напротив, – сказал он ворчливым и сердитым тоном, так противоречившим лестному значению произносимых слов, – напротив, участие вашего превосходительства в общем деле высоко ценится его величеством; но мы полагаем, что настоящее замедление лишает славные русские войска и их главнокомандующих тех лавров, которые они привыкли пожинать в битвах, – закончил он видимо приготовленную фразу.
Кутузов поклонился, не изменяя улыбки.
– А я так убежден и, основываясь на последнем письме, которым почтил меня его высочество эрцгерцог Фердинанд, предполагаю, что австрийские войска, под начальством столь искусного помощника, каков генерал Мак, теперь уже одержали решительную победу и не нуждаются более в нашей помощи, – сказал Кутузов.
Генерал нахмурился. Хотя и не было положительных известий о поражении австрийцев, но было слишком много обстоятельств, подтверждавших общие невыгодные слухи; и потому предположение Кутузова о победе австрийцев было весьма похоже на насмешку. Но Кутузов кротко улыбался, всё с тем же выражением, которое говорило, что он имеет право предполагать это. Действительно, последнее письмо, полученное им из армии Мака, извещало его о победе и о самом выгодном стратегическом положении армии.
– Дай ка сюда это письмо, – сказал Кутузов, обращаясь к князю Андрею. – Вот изволите видеть. – И Кутузов, с насмешливою улыбкой на концах губ, прочел по немецки австрийскому генералу следующее место из письма эрцгерцога Фердинанда: «Wir haben vollkommen zusammengehaltene Krafte, nahe an 70 000 Mann, um den Feind, wenn er den Lech passirte, angreifen und schlagen zu konnen. Wir konnen, da wir Meister von Ulm sind, den Vortheil, auch von beiden Uferien der Donau Meister zu bleiben, nicht verlieren; mithin auch jeden Augenblick, wenn der Feind den Lech nicht passirte, die Donau ubersetzen, uns auf seine Communikations Linie werfen, die Donau unterhalb repassiren und dem Feinde, wenn er sich gegen unsere treue Allirte mit ganzer Macht wenden wollte, seine Absicht alabald vereitelien. Wir werden auf solche Weise den Zeitpunkt, wo die Kaiserlich Ruseische Armee ausgerustet sein wird, muthig entgegenharren, und sodann leicht gemeinschaftlich die Moglichkeit finden, dem Feinde das Schicksal zuzubereiten, so er verdient». [Мы имеем вполне сосредоточенные силы, около 70 000 человек, так что мы можем атаковать и разбить неприятеля в случае переправы его через Лех. Так как мы уже владеем Ульмом, то мы можем удерживать за собою выгоду командования обоими берегами Дуная, стало быть, ежеминутно, в случае если неприятель не перейдет через Лех, переправиться через Дунай, броситься на его коммуникационную линию, ниже перейти обратно Дунай и неприятелю, если он вздумает обратить всю свою силу на наших верных союзников, не дать исполнить его намерение. Таким образом мы будем бодро ожидать времени, когда императорская российская армия совсем изготовится, и затем вместе легко найдем возможность уготовить неприятелю участь, коей он заслуживает».]
Кутузов тяжело вздохнул, окончив этот период, и внимательно и ласково посмотрел на члена гофкригсрата.
– Но вы знаете, ваше превосходительство, мудрое правило, предписывающее предполагать худшее, – сказал австрийский генерал, видимо желая покончить с шутками и приступить к делу.
Он невольно оглянулся на адъютанта.
– Извините, генерал, – перебил его Кутузов и тоже поворотился к князю Андрею. – Вот что, мой любезный, возьми ты все донесения от наших лазутчиков у Козловского. Вот два письма от графа Ностица, вот письмо от его высочества эрцгерцога Фердинанда, вот еще, – сказал он, подавая ему несколько бумаг. – И из всего этого чистенько, на французском языке, составь mеmorandum, записочку, для видимости всех тех известий, которые мы о действиях австрийской армии имели. Ну, так то, и представь его превосходительству.
Князь Андрей наклонил голову в знак того, что понял с первых слов не только то, что было сказано, но и то, что желал бы сказать ему Кутузов. Он собрал бумаги, и, отдав общий поклон, тихо шагая по ковру, вышел в приемную.
Несмотря на то, что еще не много времени прошло с тех пор, как князь Андрей оставил Россию, он много изменился за это время. В выражении его лица, в движениях, в походке почти не было заметно прежнего притворства, усталости и лени; он имел вид человека, не имеющего времени думать о впечатлении, какое он производит на других, и занятого делом приятным и интересным. Лицо его выражало больше довольства собой и окружающими; улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее.
Кутузов, которого он догнал еще в Польше, принял его очень ласково, обещал ему не забывать его, отличал от других адъютантов, брал с собою в Вену и давал более серьезные поручения. Из Вены Кутузов писал своему старому товарищу, отцу князя Андрея:
«Ваш сын, – писал он, – надежду подает быть офицером, из ряду выходящим по своим занятиям, твердости и исполнительности. Я считаю себя счастливым, имея под рукой такого подчиненного».
В штабе Кутузова, между товарищами сослуживцами и вообще в армии князь Андрей, так же как и в петербургском обществе, имел две совершенно противоположные репутации.
Одни, меньшая часть, признавали князя Андрея чем то особенным от себя и от всех других людей, ожидали от него больших успехов, слушали его, восхищались им и подражали ему; и с этими людьми князь Андрей был прост и приятен. Другие, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутым, холодным и неприятным человеком. Но с этими людьми князь Андрей умел поставить себя так, что его уважали и даже боялись.
Выйдя в приемную из кабинета Кутузова, князь Андрей с бумагами подошел к товарищу,дежурному адъютанту Козловскому, который с книгой сидел у окна.
– Ну, что, князь? – спросил Козловский.
– Приказано составить записку, почему нейдем вперед.
– А почему?
Князь Андрей пожал плечами.
– Нет известия от Мака? – спросил Козловский.
– Нет.
– Ежели бы правда, что он разбит, так пришло бы известие.
– Вероятно, – сказал князь Андрей и направился к выходной двери; но в то же время навстречу ему, хлопнув дверью, быстро вошел в приемную высокий, очевидно приезжий, австрийский генерал в сюртуке, с повязанною черным платком головой и с орденом Марии Терезии на шее. Князь Андрей остановился.
– Генерал аншеф Кутузов? – быстро проговорил приезжий генерал с резким немецким выговором, оглядываясь на обе стороны и без остановки проходя к двери кабинета.
– Генерал аншеф занят, – сказал Козловский, торопливо подходя к неизвестному генералу и загораживая ему дорогу от двери. – Как прикажете доложить?
Неизвестный генерал презрительно оглянулся сверху вниз на невысокого ростом Козловского, как будто удивляясь, что его могут не знать.
– Генерал аншеф занят, – спокойно повторил Козловский.
Лицо генерала нахмурилось, губы его дернулись и задрожали. Он вынул записную книжку, быстро начертил что то карандашом, вырвал листок, отдал, быстрыми шагами подошел к окну, бросил свое тело на стул и оглянул бывших в комнате, как будто спрашивая: зачем они на него смотрят? Потом генерал поднял голову, вытянул шею, как будто намереваясь что то сказать, но тотчас же, как будто небрежно начиная напевать про себя, произвел странный звук, который тотчас же пресекся. Дверь кабинета отворилась, и на пороге ее показался Кутузов. Генерал с повязанною головой, как будто убегая от опасности, нагнувшись, большими, быстрыми шагами худых ног подошел к Кутузову.
– Vous voyez le malheureux Mack, [Вы видите несчастного Мака.] – проговорил он сорвавшимся голосом.
Лицо Кутузова, стоявшего в дверях кабинета, несколько мгновений оставалось совершенно неподвижно. Потом, как волна, пробежала по его лицу морщина, лоб разгладился; он почтительно наклонил голову, закрыл глаза, молча пропустил мимо себя Мака и сам за собой затворил дверь.
Слух, уже распространенный прежде, о разбитии австрийцев и о сдаче всей армии под Ульмом, оказывался справедливым. Через полчаса уже по разным направлениям были разосланы адъютанты с приказаниями, доказывавшими, что скоро и русские войска, до сих пор бывшие в бездействии, должны будут встретиться с неприятелем.
Князь Андрей был один из тех редких офицеров в штабе, который полагал свой главный интерес в общем ходе военного дела. Увидав Мака и услыхав подробности его погибели, он понял, что половина кампании проиграна, понял всю трудность положения русских войск и живо вообразил себе то, что ожидает армию, и ту роль, которую он должен будет играть в ней.
Невольно он испытывал волнующее радостное чувство при мысли о посрамлении самонадеянной Австрии и о том, что через неделю, может быть, придется ему увидеть и принять участие в столкновении русских с французами, впервые после Суворова.
Но он боялся гения Бонапарта, который мог оказаться сильнее всей храбрости русских войск, и вместе с тем не мог допустить позора для своего героя.
Взволнованный и раздраженный этими мыслями, князь Андрей пошел в свою комнату, чтобы написать отцу, которому он писал каждый день. Он сошелся в коридоре с своим сожителем Несвицким и шутником Жерковым; они, как всегда, чему то смеялись.
– Что ты так мрачен? – спросил Несвицкий, заметив бледное с блестящими глазами лицо князя Андрея.
– Веселиться нечему, – отвечал Болконский.
В то время как князь Андрей сошелся с Несвицким и Жерковым, с другой стороны коридора навстречу им шли Штраух, австрийский генерал, состоявший при штабе Кутузова для наблюдения за продовольствием русской армии, и член гофкригсрата, приехавшие накануне. По широкому коридору было достаточно места, чтобы генералы могли свободно разойтись с тремя офицерами; но Жерков, отталкивая рукой Несвицкого, запыхавшимся голосом проговорил:
– Идут!… идут!… посторонитесь, дорогу! пожалуйста дорогу!
Генералы проходили с видом желания избавиться от утруждающих почестей. На лице шутника Жеркова выразилась вдруг глупая улыбка радости, которой он как будто не мог удержать.
– Ваше превосходительство, – сказал он по немецки, выдвигаясь вперед и обращаясь к австрийскому генералу. – Имею честь поздравить.
Он наклонил голову и неловко, как дети, которые учатся танцовать, стал расшаркиваться то одной, то другой ногой.
Генерал, член гофкригсрата, строго оглянулся на него; не заметив серьезность глупой улыбки, не мог отказать в минутном внимании. Он прищурился, показывая, что слушает.
– Имею честь поздравить, генерал Мак приехал,совсем здоров,только немного тут зашибся, – прибавил он,сияя улыбкой и указывая на свою голову.
Генерал нахмурился, отвернулся и пошел дальше.
– Gott, wie naiv! [Боже мой, как он прост!] – сказал он сердито, отойдя несколько шагов.
Несвицкий с хохотом обнял князя Андрея, но Болконский, еще более побледнев, с злобным выражением в лице, оттолкнул его и обратился к Жеркову. То нервное раздражение, в которое его привели вид Мака, известие об его поражении и мысли о том, что ожидает русскую армию, нашло себе исход в озлоблении на неуместную шутку Жеркова.
– Если вы, милостивый государь, – заговорил он пронзительно с легким дрожанием нижней челюсти, – хотите быть шутом , то я вам в этом не могу воспрепятствовать; но объявляю вам, что если вы осмелитесь другой раз скоморошничать в моем присутствии, то я вас научу, как вести себя.
Несвицкий и Жерков так были удивлены этой выходкой, что молча, раскрыв глаза, смотрели на Болконского.
– Что ж, я поздравил только, – сказал Жерков.
– Я не шучу с вами, извольте молчать! – крикнул Болконский и, взяв за руку Несвицкого, пошел прочь от Жеркова, не находившего, что ответить.
– Ну, что ты, братец, – успокоивая сказал Несвицкий.
– Как что? – заговорил князь Андрей, останавливаясь от волнения. – Да ты пойми, что мы, или офицеры, которые служим своему царю и отечеству и радуемся общему успеху и печалимся об общей неудаче, или мы лакеи, которым дела нет до господского дела. Quarante milles hommes massacres et l'ario mee de nos allies detruite, et vous trouvez la le mot pour rire, – сказал он, как будто этою французскою фразой закрепляя свое мнение. – C'est bien pour un garcon de rien, comme cet individu, dont vous avez fait un ami, mais pas pour vous, pas pour vous. [Сорок тысяч человек погибло и союзная нам армия уничтожена, а вы можете при этом шутить. Это простительно ничтожному мальчишке, как вот этот господин, которого вы сделали себе другом, но не вам, не вам.] Мальчишкам только можно так забавляться, – сказал князь Андрей по русски, выговаривая это слово с французским акцентом, заметив, что Жерков мог еще слышать его.
Он подождал, не ответит ли что корнет. Но корнет повернулся и вышел из коридора.
Гусарский Павлоградский полк стоял в двух милях от Браунау. Эскадрон, в котором юнкером служил Николай Ростов, расположен был в немецкой деревне Зальценек. Эскадронному командиру, ротмистру Денисову, известному всей кавалерийской дивизии под именем Васьки Денисова, была отведена лучшая квартира в деревне. Юнкер Ростов с тех самых пор, как он догнал полк в Польше, жил вместе с эскадронным командиром.
11 октября, в тот самый день, когда в главной квартире всё было поднято на ноги известием о поражении Мака, в штабе эскадрона походная жизнь спокойно шла по старому. Денисов, проигравший всю ночь в карты, еще не приходил домой, когда Ростов, рано утром, верхом, вернулся с фуражировки. Ростов в юнкерском мундире подъехал к крыльцу, толконув лошадь, гибким, молодым жестом скинул ногу, постоял на стремени, как будто не желая расстаться с лошадью, наконец, спрыгнул и крикнул вестового.
– А, Бондаренко, друг сердечный, – проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару. – Выводи, дружок, – сказал он с тою братскою, веселою нежностию, с которою обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда они счастливы.
– Слушаю, ваше сиятельство, – отвечал хохол, встряхивая весело головой.
– Смотри же, выводи хорошенько!
Другой гусар бросился тоже к лошади, но Бондаренко уже перекинул поводья трензеля. Видно было, что юнкер давал хорошо на водку, и что услужить ему было выгодно. Ростов погладил лошадь по шее, потом по крупу и остановился на крыльце.
«Славно! Такая будет лошадь!» сказал он сам себе и, улыбаясь и придерживая саблю, взбежал на крыльцо, погромыхивая шпорами. Хозяин немец, в фуфайке и колпаке, с вилами, которыми он вычищал навоз, выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул: «Schon, gut Morgen! Schon, gut Morgen!» [Прекрасно, доброго утра!] повторял он, видимо, находя удовольствие в приветствии молодого человека.
– Schon fleissig! [Уже за работой!] – сказал Ростов всё с тою же радостною, братскою улыбкой, какая не сходила с его оживленного лица. – Hoch Oestreicher! Hoch Russen! Kaiser Alexander hoch! [Ура Австрийцы! Ура Русские! Император Александр ура!] – обратился он к немцу, повторяя слова, говоренные часто немцем хозяином.
Немец засмеялся, вышел совсем из двери коровника, сдернул


















