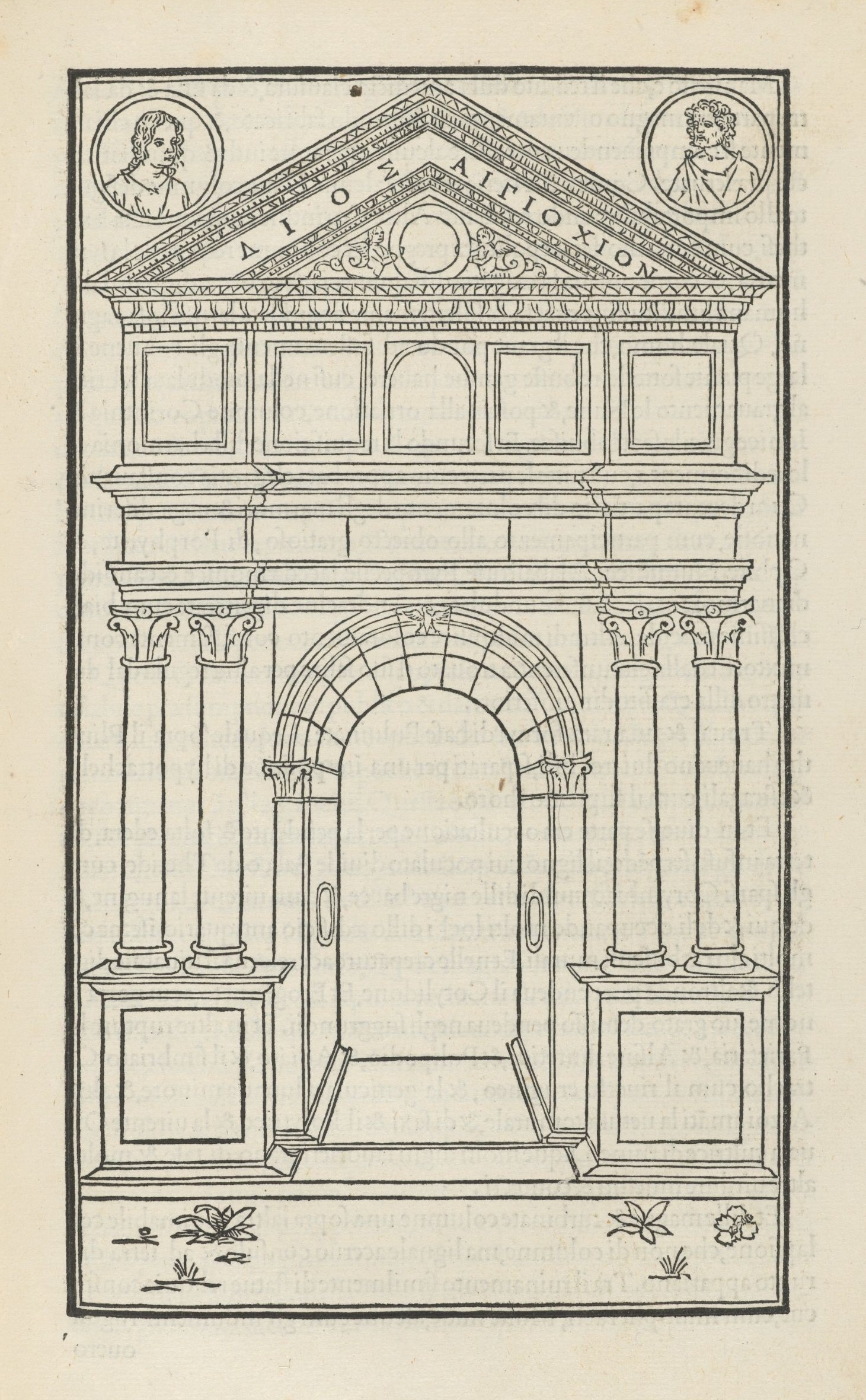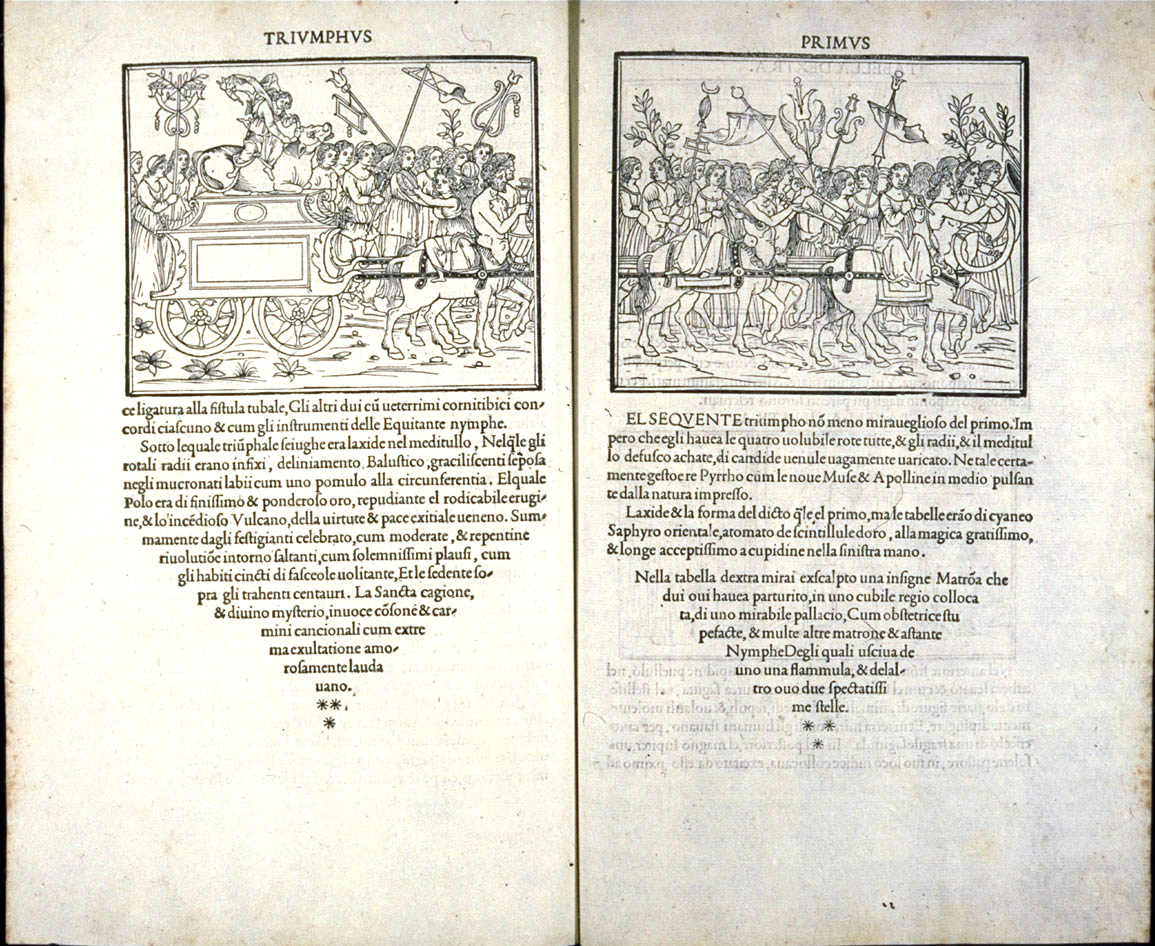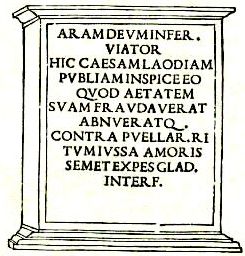Гипнэротомахия Полифила
| Гипнэротомахия Полифила | |
| Poliphili Hypnerotomachia | |
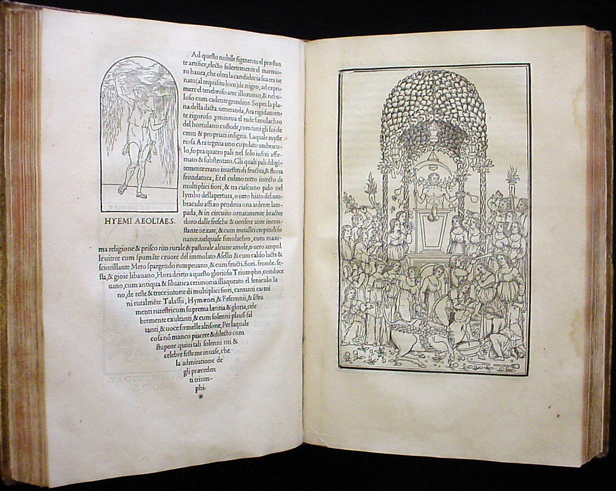 Разворот первого издания 1499 года[Прим 1] | |
| Жанр: | |
|---|---|
| Автор: |
неизвестен |
| Дата первой публикации: |
1499 |
| Издательство: | |
Гипнэротома́хия Полифи́ла (лат. Poliphili Hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet, atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat, — «Любовное борение во сне Полифила, в котором показывается, что все дела человеческие есть не что иное как сон, а также упоминаются многие другие, весьма достойные знания предметы») — герметический роман эпохи Возрождения, впервые изданный Альдом Мануцием в 1499 году, первое художественное произведение современного автора и единственное иллюстрированное издание, отпечатанное типографией Альда. Роман написан на макаронической смеси итальянского и латинского языков и требует от читателя большой эрудиции, поскольку большинство собственных имён и топонимов имеет греческое происхождение. Текст сопровождался многочисленными иллюстрациями в технике ксилографии, в издании 1499 года их было 172; в последующих изданиях XVI века число иллюстраций увеличивалось. Авторство текста и рисунков точно не установлено, оригинал вышел без его указания. Возможно, роман написал доминиканский монах Франческо Колонна, но существуют и прочие версии, в частности Леон Баттиста Альберти (в романе важна архитектурная составляющая), Лоренцо Медичи и другие. Сюжет преимущественно связан с антикварными и мистическими интересами итальянского Ренессанса. Альдинское переиздание последовало в 1545 году, в течение XVI века были опубликованы чуть сокращённый французский (1546) и неполный английский переводы (1592). Французский перевод оставался основным в течение трёх веков; новые французские переводы издавались и в XIX веке вплоть до выхода современной версии в 1883 году. Вновь роман обрёл популярность в среде исследователей ХХ века, в 1968 году вышло современное научное издание в Падуе с переводом на итальянский язык; к 500-летию выхода первого издания (1999) увидели свет комментированные переводы на английский и испанский языки; по состоянию на 2016 год роман целиком переведён на нидерландский и немецкий языки и частично на польский. Работу по русскому переводу полного текста осуществляет искусствовед Б. М. Соколов; на данный момент двухтомное издание ещё не увидело свет.
Содержание
Основной сюжет
Роман включает 38 глав, разделённых на две книги (первая: главы 1—24; вторая: главы 25—38). Композиционно сюжет задаёт мотив сна, который обеспечивает сюжетную динамику, а также оправдывает многостраничные отступления, не имеющие прямого отношения к фабуле.
Вступления
Текст романа имеет пять предисловий. Первое — письмо урбинскому герцогу Гвидобальдо Монтефельтро от Леонардо Крассо из Вероны, на средства которого, как считается, была издана книга. Далее следует стихотворение за подписью Джамбаттиста Скита — знакомого Альда Мануция; содержательно оно восхваляет заслуги Леонардо[2]. Далее следуют три анонимных уведомления читателю, одно из которых латинское, два — итальянские в стихах и прозе, все они призывают читателя к умственной работе и кратко излагают содержание романа и его разделение на две книги. Двустишие Андреса Марония из Брешии обращает читателя к содержанию:
«О, до чего же счастлива ты, из всех смертных, Полия, умершая для живых, но к лучшему. И, пока Полифил лежит, окутанный глубоким сном, он приходит к тебе через уста ученых мужей»[3].— Пер. Ю. Патронниковой
Книга первая
Полифил, страдая от разлуки с возлюбленной Полией, засыпает. Оказавшись на широкой равнине, он пускается в путь и долго блуждает по Герцинскому лесу, откуда его выводит только молитва Юпитеру. Страдая от жажды, он ищет источник, от которого его отвлекает сладостное пение, всякий раз доносящееся из другого места. Истощив силы в поисках источника музыки, Полифил вновь засыпает — в своём сне — под сенью дуба. В новом сне он созерцает ступенчатую пирамиду с обелиском, посвящённую Высшему Солнцу. В этом месте он видит различные символические фигуры — коня, бронзовых колоссов, слона с обелиском на спине, достигающего самого солнца. В основании пирамиды имеется проход; орнамент, украшающий его, доводит до конца портала, где тьма[5]. Не решившись идти туда, Полифил хотел повернуть, но обратный путь заслонил дракон. Спасение от него нашлось в тёмной чаще, за которой открывалась прекрасная обитель пяти нимф, названных именами пяти чувств человека. Нимфы проводили Полифила к прекрасной королеве Элевтерилиде (Свободная Воля). В королевском дворце герой созерцает сады, расписные палаты, трон королевы, украшения и наряды нимф, великолепие пира и убранства стола. Королева передала Полифила в руки своих прислужниц — Логистики (Разум) и Телемии (Желание), которые приводят его к золотой пирамиде. У пирамиды три портала, за которыми открываются три способа жизни — царство неба, любви и мирской славы; Полифил избирает путь любви. За порталом протагониста встречает прекрасная нимфа, в которой он узнаёт возлюбленную Полию, но окружающая обстановка и её одежды рождают сомнения в его душе — настолько она великолепна. Нимфа провела Полифила к храму Венеры, показав по пути колесницы с изображением триумфа любви; только в храме она открывается герою — это действительно его возлюбленная. После ритуалов, соединяющих влюблённых, они вкушают плоды Венеры и отплывают на остров Кифера. Далее на протяжении четырёх глав Полифил описывает остров и участвует в процессии, посвящённой Купидону. В центре Киферы — источник Венеры, у которого происходит мистическое бракосочетание влюблённых. В конце первой книги нимфа Полиормена (Почтительность) просит Полифила рассказать историю жизни Полии[6].
Книга вторая
Вторая книга открывается рассказом Полии об основании её предками города Тревизо, представляющим собой сложный миф. Далее она сообщает, что её тело поразила чума и заставила обратиться за помощью к богине Диане. За исцеление Полия обещала богине своё целомудрие и религиозную приверженность и отвергла любовь Полифила, чем сильно ранила его. Боясь, что он навредит себе, Полия бежала в чащу, где стала свидетельницей наказания Купидоном двух девиц за противление силе любви. Прислужница пояснила Полии значение этого видения и наставляла её не противиться любви. Вернувшись в храм Дианы, Полия застаёт Полифила при смерти и возвращает его к жизни поцелуем, принимая его любовь. Отныне герои служат Венере. Далее и Полифил рассказывает со своей стороны историю их встречи. После рассказа он желает скрепить свой союз с Полией поцелуем, но в то же мгновение она исчезает. Герой просыпается, когда первые лучи солнца нарушают его покой[8]. В последней, 38-й главе упоминается и единственная дата в тексте романа — «календы мая года 1467» (лат. M.CCCC.LXVII. Kalendis Maii), когда происходил сон и пробуждение главного героя[9]. Завершается роман эпитафией Полии[8].
Название. Жанровая принадлежность
Название книги, составленное из греческих слов, сложно для перевода. Первое слово — др.-греч. Ὑπνερωτομαχία — состоит из ὕπνος «сон», ἔρως «любовь» и μάχη «сражение», что чаще всего переводится как «любовное борение во сне»[2][10][Прим 2]. Имя главного героя — греч. Πολύφιλος — может быть переведено как «любящий Полию» (главную героиню романа), но одновременно и как «любящий многое»[11]. Сложное для восприятия заглавие, произведённое по аналогии с «Батрахомиомахией», уже современникам казалось самоценным и загадочным, поэтому книгу часто именовали и именуют — в том числе в русской традиции — транслитерацией «Гипнэротомахия Полифила». В последующих изданиях это название упрощалось и перетолковывалось; наиболее распространённым стал вариант французского переводчика де Левонкура «Сон Полифила» (фр. Songe de Poliphile)[12].
Жанровое определение романа также чрезвычайно сложно: в первую очередь он воспринимается как аллегорическое произведение, а не художественное. Классическую (по определению Ю. Патронниковой) характеристику романа в ХХ веке дал Бруно Нардини: «Сон Полифила» — «археологически-мифологический роман», рожденный в «лихорадке увлечения археологией и Античностью, которые в Италии, а в частности в Венеции, положили начало открытиям кодексов, надписей, скульптур и памятников архитектуры»[13]. Встречается также определение «роман-трактат» или энциклопедическое произведение[14].
Истолкование сюжета
Первые исследователи романа в XVIII веке даже рассматривали его как практическое пособие по архитектуре, основываясь на многочисленных проектах и математических расчётах, раскиданных по тексту. В этом же контексте рассматривались произведения Лодовико Ариосто и Торквато Тассо; но в 1785 году Франческо Милиция подверг такой подход острой критике и заявил, что «Гипнэротомахия» не предназначена для чтения[16]. В XIX веке чаще всего текст подвергался аллегорико-дидактическому прочтению. Так, историк и литературовед Виченцо Маркезе в 1854 году истолковал «Сон Полифила» с точки зрения моральных смыслов. Пять нимф прямо названы пятью чувствами тела, они являются слугами человеческой души, делающими доступными ей чувственные объекты. Королева Элевтерида олицетворяет свободу воли, которая управляет и телом, и чувственной страстью. Герцинский лес является символом первого вхождения человека в жизнь, а звуки музыки, отвлекшие Полифила от источника воды, проявляют его желание утолить жажду ума в источнике Истины. Эту линию продолжил в своей книге 1890 года Никколо Матера, который также истолковал сложный и затейливый сюжет как «правильные положения моральной философии в суете жизни и мирских удовольствий»[17]. Роман рассматривался в одном ряду средневековых и ренессансных произведений, которые выражали предмет морали в форме аллегории: «Маленькое сокровище» Брунетто Латини, «Триумфы» Петрарки, «Любовное видение» Боккаччо, «Фимеродия» Якопо дель Пекора и «Четвероцарствие» Федерико Фрецци (1345—1416)[18]. В ХХ веке эту точку зрения разделял Л. Бенедетто (1910), который рассматривал сюжет романа как «постепенное восхождение к некой счастливой области, которая располагается между небом и землей, к любви, в которой одновременно есть нечто от человека и божества»[19]. Арнальдо Бруски назвал путешествие Полифила «процессом инициации посредством эмоциональных и психологических изменений»[18].
Иную традицию прочтения текста «Гипнэротомахии» — дешифровку — предложил редактор французского перевода 1600 года, известный писатель и алхимик Франсуа Бероальд де Вервиль. Он объявил, что автор «Полифила», известный под именем Франческо Колонна, являлся истинным философом, то есть алхимиком, который намеренно ввёл читателей в заблуждение, ибо они никогда не смогут отыскать сущности за глубокой символической игрой образов[20]. Последовательно алхимическую и герметическую интерпретацию «Сна Полифила» предложила в 1950 году Линда Фирс-Дэвид; её монография была методично выстроена как алхимический комментарий к тексту романа и несколько раз переиздавалась. Главной задачей исследовательницы было объяснение непоследовательности сюжетной линии, усложнённой метафорическими отступлениями в рассказе героя, в условиях, когда сюжет усложнён несколькими уровнями сна. Алхимическая традиция предполагала трансформацию, «перерождение» неодушевлённой физической материи в духовную сущность. Идея субстанционального изменения и выхода на новый уровень бытия, по Фирс-Дэвид, в романе нашла отражение в двух аспектах. Во-первых, в «Гипнэротомахии» речь идёт о трансмутации духа, духовном восхождении героя. Во-вторых, фигуративность и переусложнённость языка достигла в XV веке широкой распространённости в учёной среде. С точки зрения Л. Фирс-Дэвид, в эпоху написания «Сна Полифила» занятия алхимией и астрологией и утончённые рассуждения о душе свидетельствовали, как минимум, о статусе образованного человека[21].
Бенедетто Кроче в 1952 году провёл литературоведческое исследование текста «Сна Полифила» и сравнивал его автора (которым полагал Ф. Колонну) с Леопарди. Кроче стремился показать разрыв между прозаическим изложением и поэтическим представлением, которого, по его мнению, не хватало в «Сне Полифила». Кроче рассматривал роман как «идеальную манифестацию эпохи Ренессанса, торжествующую благодаря своей эстетике», и определял его как «эпитафический гуманистический роман», слава которого неразрывно связана с публикацией в типографии Альда Мануция[22].
Проблема авторства
 Книга была издана анонимно, в предисловиях и в суждениях современников автором именуется сам Полифил, от имени которого ведётся бо́льшая часть повествования[23]. В двустишии Андреаса Мароне, предваряющем текст романа, имеются следующие строки:
Книга была издана анонимно, в предисловиях и в суждениях современников автором именуется сам Полифил, от имени которого ведётся бо́льшая часть повествования[23]. В двустишии Андреаса Мароне, предваряющем текст романа, имеются следующие строки:
|
Анонимность издания сразу же породила множество догадок и предположений в отношении авторства, определив на долгое время направления теоретического исследования романа. Серьёзным основанием для доказательства авторства считается анаграмма, которую образуют буквицы каждой главы: «POLIAM FRATER FRANCISCVS COLVMNA PERAMAVIT», что можно перевести как «Полию брат Франческо Колонна страстно любил»[25]. В итальянской традиции акростихи были известны: Боккаччо в «Любовном видении» при помощи начальных букв терцин поэмы сформировал три стиха, прославляющих его возлюбленную, Фьямметту. Однако Дж. Пазетти утверждал, что акростихи и анаграммы никогда не использовались в эпоху Ренессанса для сокрытия смыслов, а напротив, — чтобы подчеркнуть основной замысел работы[26].
В 1720-е годы распространилась версия, что драматург Апостоло Дзено обнаружил во втором издании романа 1545 года следующую надпись:
|
 Современная исследовательница Лиан Лефевр, не подвергая сомнению подлинность записи, отмечала, что её, скорее всего, открыл безвестный читатель через полтора века, и в XVII—XVIII веках это было единственное свидетельство, проливающее хоть какой-то свет на проблему авторства[28]. Версия авторства Ф. Колонна стала с середины XVIII века практически единственной, хотя с конца следующего, XIX века, появились сомнения в существовании автора, не оставившего в истории литературы других следов. К тому времени было установлено, что к 1500 году в Италии жило трое монахов-доминиканцев, носивших имя Франческо Колонна. Наиболее полный объём биографических данных о фигуре Франческо Колонны-венецианца представлен в двухтомнике «Биография и труды» Марии Терезы Казеллы и Джованни Поцци, опубликованном в 1959 году[29]. Авторитетные издания и исследования «Гипнэротомахии» также не подвергают сомнению эту версию[30].
Современная исследовательница Лиан Лефевр, не подвергая сомнению подлинность записи, отмечала, что её, скорее всего, открыл безвестный читатель через полтора века, и в XVII—XVIII веках это было единственное свидетельство, проливающее хоть какой-то свет на проблему авторства[28]. Версия авторства Ф. Колонна стала с середины XVIII века практически единственной, хотя с конца следующего, XIX века, появились сомнения в существовании автора, не оставившего в истории литературы других следов. К тому времени было установлено, что к 1500 году в Италии жило трое монахов-доминиканцев, носивших имя Франческо Колонна. Наиболее полный объём биографических данных о фигуре Франческо Колонны-венецианца представлен в двухтомнике «Биография и труды» Марии Терезы Казеллы и Джованни Поцци, опубликованном в 1959 году[29]. Авторитетные издания и исследования «Гипнэротомахии» также не подвергают сомнению эту версию[30].
Советская исследовательница А. Хоментовская[31] в своих статьях, опубликованных во Франции в 1935—1936 годах, отстаивала версию авторства веронского гуманиста, типографа и алхимика Феличе Феличано (1432—1480), причём главным аргументом были языковые особенности романа. Эта версия была опровергнута Бенедетто Кроче, который нашёл неизвестный Хоментовской сборник работ Феличано 1474 года, продемонстрировав, что его синтаксис и словарь ничем не напоминают словарь «Полифила». Кроме того, Ф. Феличано никак не был связан с домом Альда и его окружением[32].
В 1983 году Маурицио Кальвези выдвинул версию об авторстве князя Франческо Колонны из Палестрины (1453—1528), основываясь на его языческих интересах (он был членом Римской академии Помпония Леты) и явной связи между храмом Фортуны Первородной, который Ф. Колонна отреставрировал, и архитектурой дворца, появляющегося на первых страницах «Гипнэротомахии». Выдвигалась также версия об авторстве Лоренцо Медичи Великолепного[33].
Практически одновременно в 1996—1997 годах вышли работы Э. Крецулеску-Куаранта и Л. Лефевр, в которых доказывается авторство Леона Баттиста Альберти. Л. Лефевр сосредоточилась на литературных источниках «Полифила» и выявила глубину литературных интересов и исканий Альберти. В этой версии находится место и объяснению языкового своеобразия романа. Оказалось также, что латинские и греческие филологические источники для «Десяти книг о зодчестве» и «Гипнэротомахии» идентичны: оба произведения содержат ссылки на Аристотеля, Цезаря, Цицерона, Марциала и других авторов[34]. В романе много прямых отсылок к проектам Леона Баттисты Альберти. Основываясь на похожих посылках, Дж. Пазетти предложил на роль автора «Полифила» Пико делла Мирандола. По мнению Ю. Патронниковой, главным недостатком этих и подобных версий является неучастие автора в издании Альда Мануция[35]. Сложившаяся традиция именовать автором Ф. Колонна, при существующем уровне разработки проблемы и отсутствии источников, не позволяет уточнить, скрывался ли за этой фамилией венецианский монах, правитель Палестрины или какая-либо иная личность[36].
Язык и поэтика
Язык романа
Издание «Полифила» пришлось на период, когда шла интенсивная борьба между вольгаре и классической латынью, насаждаемой гуманистами. Шарль Нодье, исходя из этого, предположил, что автор романа отказался от обычного языка с целью творить на том «учёном языке, где у него не было ни образцов, ни подражателей и который рождался под его пером благодаря его учёным занятиям и знакомству со старинными книгами»[37][Прим 3]. Язык романа часто именуют в литературе «макароническим». Ещё Леонардо Крассо во вступлении к книге утверждал, что для понимания текста необходимо, как минимум, хорошо знать греческий язык, латынь и тосканский диалект:
|
По выражению Ю. Патронниковой, «по-настоящему непреодолимым язык Полифила делают греческие термины»[39], несмотря на стремление к изучению греческого языка в среде гуманистов. Грецизмы в лексиконе романа не ограничиваются именами и названиями, широко используются греческие термины для растений, одеяний и камней[39]. Текст романа содержит множество морфологических и синтаксических трудностей. Поцци и Казелла характеризовали языковую концепцию романа «антидинамической», из-за чего предложения состоят из «бессчётных наложений». Структура фраз не соответствует конструкции «существительное — глагол», множество имён не согласуются со сказуемым, которое отделено от подлежащего целыми придаточными фразами. Существительные и прилагательные не склоняются, в отличие от латинского языка, что приводит к затруднениям при чтении и переводе. Л. Донати в 1950 году утверждал, что ситуация усугубляется большим числом орфографических ошибок[40].
Любовно-романтическая линия
 Поскольку предметное поле «Любовного борения во сне…» разнородно и роман может быть прочтён самыми разными способами, исследователи предпочитают рассматривать его составляющие раздельно. Согласно Ю. Патронниковой, в название вынесена любовная драма героя, поэтому роман должен рассматриваться в контексте ренессансных произведений, посвящённых драме любви, и в первую очередь — лирики Полициано. Конфликт любви и внутренней свободы в «Полифиле» подобен конфликту фортуны и добродетели полициановых «Стансов на турнир». Образ Полифила также роднит с героем Полициано ощущение утраченной из-за любви внутренней свободы, однако в «Стансах» Полициано действие разворачивается на фоне природы, роль которой в романе «Сон Полифила» исполняют статичные архитектурные постройки и райские сады и острова, совершенство которых противостоит душевной и эмоциональной дисгармонии героев. Античный бог любви представляет при этом неконтролируемую и завистливую Фортуну, жертвой которой стали и Полифил, и сама Полия[42].
Поскольку предметное поле «Любовного борения во сне…» разнородно и роман может быть прочтён самыми разными способами, исследователи предпочитают рассматривать его составляющие раздельно. Согласно Ю. Патронниковой, в название вынесена любовная драма героя, поэтому роман должен рассматриваться в контексте ренессансных произведений, посвящённых драме любви, и в первую очередь — лирики Полициано. Конфликт любви и внутренней свободы в «Полифиле» подобен конфликту фортуны и добродетели полициановых «Стансов на турнир». Образ Полифила также роднит с героем Полициано ощущение утраченной из-за любви внутренней свободы, однако в «Стансах» Полициано действие разворачивается на фоне природы, роль которой в романе «Сон Полифила» исполняют статичные архитектурные постройки и райские сады и острова, совершенство которых противостоит душевной и эмоциональной дисгармонии героев. Античный бог любви представляет при этом неконтролируемую и завистливую Фортуну, жертвой которой стали и Полифил, и сама Полия[42].
Полия в романе обладает чертами средневековой «прекрасной дамы» (подобной Беатриче и Лауре), в романе присутствуют все стандартные для куртуазной лирики элементы — момент первой встречи и разговоры, поэтизированные речи главной героини, процесс служения возлюбленной. В рыцарских романах присутствуют описания степеней поклонения Даме, когда рыцарь должен был скрываться, вздыхать и томиться, а затем молить о благосклонности и признании себя поклонником; равным образом и Полифил проводил дни и ночи под окнами Полии, чтобы хотя бы добиться внимания возлюбленной. Однако именно в этой линии ярче всего проявлена итальянская традиция, в которой написан роман: в первой книге Полия представлена как воспоминание Полифила и как поток ассоциаций, связанных с переживанием памяти о ней[42]. Полия персонифицируется только в конце первой трети романа (11-я глава) и открывает себя Полифилу в образе нимфы, демонстрируя божественные триумфы любви в 14-й главе[43]. Образные метаморфозы направлены на невозможность для читателя провести чёткую грань между божественным и человеческим. Явление Полии неоднократно сравнивается с божественным событием, но в одном месте, подобно Симонетте Полициано, она демонстрирует свою человеческую сущность. Рассказ Полии во второй книге полностью проявляет её человеческое начало в истории «о самой прекрасной и несчастной любви в мире»[44].
Роман имеет форму одного большого мифа, что подчёркивается постоянным сравнением переживаемых героями чувств и состояний, а также личных качеств, с персонажами римской и греческой традиции («испуганная видением этих событий, которые вселяют страх больше, чем ужасный образ Клитемнестры, вооруженной змеями и пылающим огнем, в момент её убийства Орестом», «я вспомнила потом о бедной Филии, когда она (была захвачена) слепой любовью к опоздавшему Демофону…»)[9]. Объекты созерцания, наполняющие роман, откровенно иллюзорны, а мифологическая структура усиливает эффект отстранения от исторической действительности. Даже пробуждение Полифила в финале приводит к пониманию, что всё описанное было лишь плодом его воображения, разрушенном первыми солнечными лучами[9].
Философская подоплека романа: визионерство и неоплатонизм
 Ещё одним мотивом, вынесенным в заглавие романа, является сон, в котором разворачивается основное действие. Однако, в отличие от средневекового жанра, содержательное наполнение «Гипнэротомахии» принципиально иное. Сочинения в визионерском жанре наставляют своего читателя через полученное от Бога откровение, конечной целью которого является спасение души. С точки зрения пространственной структуры любое видение — вертикаль «Земля — Небо», в то время как в романе она заменяется горизонталью «Я — далёкий и широкий мир»[45]. Использование визионерства позволяет героям романа полностью раскрепостить мысль и воображение в пределах, каких не могли себе позволить профессиональные философы эпохи Ренессанса. Именно визионерство позволяло расширить до пределов философский синкретизм, когда концепции Эпикура и Лукреция свободно сочетались с идеями Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола[45].
Ещё одним мотивом, вынесенным в заглавие романа, является сон, в котором разворачивается основное действие. Однако, в отличие от средневекового жанра, содержательное наполнение «Гипнэротомахии» принципиально иное. Сочинения в визионерском жанре наставляют своего читателя через полученное от Бога откровение, конечной целью которого является спасение души. С точки зрения пространственной структуры любое видение — вертикаль «Земля — Небо», в то время как в романе она заменяется горизонталью «Я — далёкий и широкий мир»[45]. Использование визионерства позволяет героям романа полностью раскрепостить мысль и воображение в пределах, каких не могли себе позволить профессиональные философы эпохи Ренессанса. Именно визионерство позволяло расширить до пределов философский синкретизм, когда концепции Эпикура и Лукреция свободно сочетались с идеями Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола[45].
Содержательно меняется и предмет видения: например, характерные для Средневековья картины ада и страданий грешников встречаются в романе только один раз — на потолке разрушенного Храма Полиандрии. Даже указание на то, что Полии давно нет в живых, появляется в самом конце романа, тогда как на протяжении всего действия образ возлюбленной Полифила вообще лишён призрачных черт[45]. В то же время Л. Бенедетто и Д. Ньоли предложили рассматривать «Гипнэротомахию» как своего рода вторую «Божественную комедию», поскольку основным содержанием романа является своеобразное путешествие-восхождение к Богу, только последний оказывается всё порождающей Любовью — Венерой. Л. Бенедетто утверждал, что при этом можно использовать трёхчастную дантовскую модель, ибо во сне есть разделение на разные пространства, а путешествие Полифила представляет собой череду испытаний на пути посвящения Венере и грядущего воссоединения с Полией[45]. Б. Соколов также полагал, что «движущая сила сюжета в романе о Полифиле близка к поискам „любви, что движет солнце и светила“, которые составляют философскую основу „Божественной комедии“»[46].
При сущностном различии языческого по духу романа «Сон Полифила» и жанра христианских видений, между ними существует много общих моментов. Сон в романе является формой хождения в иной мир, который, правда, мыслится не как потусторонний, а иной земной мир. Вход туда, однако, совершенно в средневековом духе охраняется волком и драконом, и сам герой легко теряется на тропах через дремучие чащобы, скрывающие райские поля и острова. Важной чертой изображений потустороннего выступает их изобилие разными удовольствиями; королевства и острова, куда попадает Полифил, имеют много общего с утопией[48]. Утопия эта, однако, своеобразна, поскольку сон переносит Полифила в мифологическую древность, и объектом его видения становится детально исследуемая Античность, наполненная руинами и целыми постройками — египетскими, греческими и римскими. В романе практически нет отсылок к современным для XV века памятникам и произведениям искусства, взамен используются выписки из Плиния, которые выступают пластическими образами[46]. Самые важные из них представлены в иллюстрациях[49].
Автор романа воспринимал Античность с точки зрения Ренессанса, основанной на сумме предшествующих традиций и в особенности — средневековой христианской традиции. Храм — ступенчатая пирамида, увенчанная обелиском, которая обозначала в начале романа все странствия героя, сочетала как элементы культуры Древнего Египта (которые мало воздействовали на визуальный облик античной архитектуры), так и готическую устремлённость ввысь, которая утверждает в архитектурной вертикали резкое устремление к Богу Небесному. Л. Фирс-Дэвид утверждала, что Античность для Полифила «пропитана христианским духом парения в небесах»[50].
Б. Соколов, специально занимавшийся данной проблемой, полагал, что философской основой «Любовного борения…» является неоплатоническое учение о стремлении души к познанию идей и высшему благу. В земной жизни эти импульсы принимают форму любовных порывов, которые приводят мудреца на путь посвящения. Это роднит замысел «Гипнэротомахии» с «Золотым ослом» Апулея. В эпизоде с купальней нимф — олицетворений пяти чувств, — когда Полифил выходит из купальни, нимфы поют ему песню, воспроизводящую сюжет античного романа. После этого герой натирается мазью, от которой приходит в любострастное исступление: неосуществимое обладание приводит его к духовному возвышению [51].
Ландшафт и архитектура в романе
 Ко времени создания «Любовного борения во сне» важной тенденцией итальянской культуры XV века было открытие двух взаимосвязанных тем и вытекающего отсюда конфликта: между естественной природой — обиталищем «гения места» — и постоянно усложняющимся образом возделанного, геометрически рассчитанного сада. В античных текстах — прежде всего «Письмах» Плиния Младшего — содержались оба пейзажных образа, предпочтение которым определялось только личным выбором писателя или художника[52]. К «Письмам о делах повседневных» Петрарки восходила традиция философского восприятия природы и романтического предпочтения дикой природы искусственным сооружениям. С другой стороны, реальные сады были принадлежностью монастырей, замков и вилл и тоже создавали своё литературное отображение, как в Декамероне[53]. В «Гипнэротомахии» путь Полифила в новом мире начался в обстановке природных пейзажей, восходящих к античным буколикам. После встречи с царицей Элевтерилидой Полифил созерцает регулярные сады, спланированные в соответствии с символическим смыслом, и так далее — вплоть до острова Кифера. Ландшафтные сцены романа образуют единый ряд, соответствующий этапам посвящения героя[54].
Ко времени создания «Любовного борения во сне» важной тенденцией итальянской культуры XV века было открытие двух взаимосвязанных тем и вытекающего отсюда конфликта: между естественной природой — обиталищем «гения места» — и постоянно усложняющимся образом возделанного, геометрически рассчитанного сада. В античных текстах — прежде всего «Письмах» Плиния Младшего — содержались оба пейзажных образа, предпочтение которым определялось только личным выбором писателя или художника[52]. К «Письмам о делах повседневных» Петрарки восходила традиция философского восприятия природы и романтического предпочтения дикой природы искусственным сооружениям. С другой стороны, реальные сады были принадлежностью монастырей, замков и вилл и тоже создавали своё литературное отображение, как в Декамероне[53]. В «Гипнэротомахии» путь Полифила в новом мире начался в обстановке природных пейзажей, восходящих к античным буколикам. После встречи с царицей Элевтерилидой Полифил созерцает регулярные сады, спланированные в соответствии с символическим смыслом, и так далее — вплоть до острова Кифера. Ландшафтные сцены романа образуют единый ряд, соответствующий этапам посвящения героя[54].
Архитектурные памятники в «Гипнэротомахии» так же, как и пейзажи, выстроены в ряд, соответствующий психологической драматургии романа. Из края дикой природы герой попадает в страну руин, а далее — в гигантский храм, являющийся снаружи пирамидой, а изнутри — лабиринтом[55]. Третий этап восхождения Полифила — два Храма Любви, которые более соразмерны человеку. Четвёртым этапом путешествия Полифила по архитектурным стилям — осмотр острова Кифера, который представляет собой совершенный круг, где середины занимает открытый амфитеатр, а каменные уступы чередуются с садами. Идеалом автора, по-видимому, был сад-храм, куполом которого являлось само Небо. Конечной точкой архитектурного измерения романа является полное слияние постройки, сада и пейзажа[56].
Все произведения искусства, описанные в романе, отличаются выраженной пластичностью и совершенно явно противопоставляются символизму и иллюзорности средневековой живописи. Фасады построек украшены горельефами, фонтаны украшены статуями, скульптуры установлены на постаментах, в свою очередь украшенных рельефами, а шпили построек увенчаны вращающимися фигурами. Автор называет и основные художественные качества этих изображений «изысканным мастерством» и «точным подобием». В результате роман в некоторых фрагментах приобретает вид пособия по архитектуре с математическими расчётами и изображением механических приспособлений, причём описанных достаточно точно и конкретно[57].
Античный мир автор «Полифила» воспринимал окрашенным в интенсивные тона. Все описываемые постройки вместо штукатурки покрыты яркими и изысканными материалами — цветными камнями, кораллами, самоцветами. Полы и своды храмов украшены цветной мозаикой, цвета которой всегда яркие и контрастные[58]. Историки искусства Ренессанса находили известные параллели в описаниях из романа и реальными памятниками искусства второй половины XV века, особенно Туллио Ломбардо. В Венеции сохранился парный портрет супругов его работы, чрезвычайно напоминающий описание надгробия Полиандрия. Иными словами, в мире «Полифила» портреты являются скульптурами, даже когда в финале Венера требует изображение Полии, на гравюре оно предстаёт в виде бюста, а не плоского портрета[58]. Всё это показывает, что автор полностью уходит из сферы христианской культуры и глубоко погружается в античный языческий мир[59].
Иероглифика в романе
 По мнению Б. Соколова, при всём интересе Ренессанса к древности, античные памятники воспринимались как «родное и понятное наследие», в то время как египетские «давали пищу для догадок, расшифровок и поисков эзотерического знания»[60]. Тем не менее, в романе не воспроизводились толкования Гораполлона, Фичино или Анния. Гравюры и описания дают читателю — и самому Полифилу — длинный ряд письмен, которые он пытается прочесть. Б. Соколов выделил три основных варианта иероглифических объектов в романе[61]:
По мнению Б. Соколова, при всём интересе Ренессанса к древности, античные памятники воспринимались как «родное и понятное наследие», в то время как египетские «давали пищу для догадок, расшифровок и поисков эзотерического знания»[60]. Тем не менее, в романе не воспроизводились толкования Гораполлона, Фичино или Анния. Гравюры и описания дают читателю — и самому Полифилу — длинный ряд письмен, которые он пытается прочесть. Б. Соколов выделил три основных варианта иероглифических объектов в романе[61]:
- Ребус (когда набор изображений расшифровывается приведённой фразой);
- Аллегорическое изображение (женщина, сидящая на стуле половиной седалища, с крыльями и черепахой в руках, толкование: «Умеряй поспешность сидением, а медлительность вставанием»)
- Символическое изображение (три сфинкса, поддерживающие обелиск Триединства, имеют звериное, получеловеческое и человеческое лица в ознаменование победы человеческого начала над животным).
Очевидно, что знаки, с которыми имеют дело читатели и герои «Полифила», — это вновь изобретённый язык символов, достаточно простой для понимания комбинации предметов. Символы из книги явно рассчитаны на понимание потенциального читателя и раскрываются по мере чтения, в отличие от символизма живописи Карло Кривелли или символов Сиенского собора, где рукопожатие льва и собаки вообще не имеет убедительного истолкования[61]. Символы «Любовного борения», согласно мнению Б. Соколова, внесли большой вклад в развитие культуры аллегорического мышления и стояли у истоков систематической эмблематики, которая развилась полувеком позже[61].
Первое издание 1499 года
Обстоятельства печатания «Гипнэротомахии» Домом Альда известны довольно плохо, несмотря на то, что это издание выделяется на фоне остальной продукции типографии Мануция. Всего Альд Мануций создал за всю жизнь 153 издания, но именно «Сон Полифила» устойчиво пользовался громкой славой; исследователи могут именовать её не только «самой прекрасной» среди альдин, но и среди всех печатных книг итальянского Ренессанса вообще (последнее утверждение содержится в каталоге пармского Музея Бодони)[62]. Побудительным мотивом для необычного издания стала чумная эпидемия в Венеции 1498 года, от которой пострадала и типография Альда; печатнику пришлось обращаться в Рим к Папе Александру VI за субсидией. В процессе получения материальной поддержки Альд Мануций познакомился с богатым любителем литературы Леонардо Крассо[Прим 4], который и владел рукописью «Полифила»[63]. Причины, по которым Альд согласился на печатание сложного и нестандартного текста, неясны и, по-видимому, связаны с его финансовыми проблемами[64]. Работы велись с лихорадочной поспешностью, роман вышел в свет уже в декабре 1499 года, причём огромным по тем временам тиражом — 500—600 экземпляров[65]. Печатание было завершено в течение месяца; по словам В. Лазурского, Альд был заинтересован в выполнении заказа, поскольку этим изданием как бы подводил итоги всем достижениям типографского искусства конца XV века[66]. Соответственно, высока была стоимость готовой книги — 1 дукат[67].
Первое издание «Полифила» включало 172 иллюстрации, выполненных в технике обрезной ксилографии, и это было единственное иллюстрированное издание, выпущенное типографией Альда[68][69]. Имя художника совершенно неизвестно, его условно именуют «Мастером Полифила». Так же, как и в случае с автором, не существует сведений об интеллектуальном фоне и возможных связях художника. Выдвигались самые разнообразные версии, включая падуанского миниатюриста Бенедетто Бордони, Рафаэля (которому к тому времени было 16 лет), Андреа Мантенья, Джованни или Джентиле Беллини, и даже самого предполагаемого автора текста — Франческо Колонна (священник или правитель Палестрины)[70].
Книжный блок включал 234 листа (468 страниц) in folio форматом 299 × 194 мм (соотношение сторон 1 : 1,54). Они собраны в тетради по 8 листов, снабжённых сигнатурой. Страницы книги не пронумерованы, их обозначают, как и в рукописных книгах, буквенной сигнатурой тетради (a—y) и номером листа с обозначением лицевой или оборотной стороны[71]. Согласно Incunabula Short Title Catalogue, в государственных библиотеках и музеях по всему миру сохранилось около 200 экз. «Гипнэротомахии» разной комплектности и степени сохранности[72].
Шрифт, которым был набран текст «Сна Полифила», являлся окончательным вариантом антиквы Франческо Гриффо, разрабатывавшего шрифты для Дома Альда того времени. Это был вариант шрифта, применённого в книге Бембо «Об Этне» (1496). Ввиду того, что отливки шрифта содержали дефекты, а для объёмного романа требовался более убористый шрифт, он был разработан заново и применён в трёх книгах, предшествовавших выходу «Полифила». В дальнейшем «шрифт Полифила» стал основным в типографии Альда. Строчные литеры примерно соответствуют современному 16-пунктовому кеглю[73]. Кроме того, непосредственно перед печатанием «Гипнэротомахии» Ф. Гриффо закончил гравирование нового набора прописных букв в двух размерах. По рисунку и пропорциям он приближался к шрифтам древнеримской эпиграфики эпохи так называемого «эпиграфического ренессанса» (I—II вв.). Такими литерами был набран второй титульный лист и 38 подзаголовков, скомпонованных в подражание надписям на триумфальных арках. Те же прописные использовались и в наборе текста, гармонично сочетаясь со строчными. В первом же титуле (он заменял обложку в условиях, когда типографии продавали книги без переплёта) был применён ещё один алфавит схожего рисунка, но 14-пунктового кегля[74].
| Шрифты и оформление «Гипнэротомахии Полифила» | |||||||||
| |||||||||
Поскольку Альд Мануций не занимался иллюстрированными изданиями, в случае с «Полифилом» он выступал только как печатник, исполняющий чужой заказ; кто именно решал сложнейшие эстетические и технические задачи — совершенно неизвестно. Вся книга набрана единым 16-пунктовым кеглем, все заглавия и второй титульный лист отпечатаны прописными текстовыми шрифтами, только первый титул, колофон и список замеченных опечаток — то есть служебные элементы — набраны более мелким шрифтом. Посвящение Л. Крассо герцогу Урбинскому помещено на обороте титульного листа, текст на этой странице, как и на третьем листе, начинается с отступа в круглую, строки образуют ровные края полосы и справа, и слева. В стихотворном тексте набор флаговый, то есть сохраняется естественная длина строк, а выравнивание ведётся по левому краю полосы[75].
Заголовки всех 38 глав скомпонованы в форме блоков с втяжками в начале первой строки, некоторым из них придана форма чаши. Инициалы, с которых начинается текст каждой главы, неодинаковы по размерам и характеру украшений (обычно в альдинах нет буквиц или для них оставлено свободное место, чтобы заказчик вписал от руки требуемое). Число строк на текстовой полосе неодинаково — есть развороты, где на левой странице 37 строк, а на правой — 39, но есть и случай, когда на левой странице 39 строк, а на правой — только 34. Концевые полосы набраны в форме «косынок», кораблей и чаш; есть примеры «вазового» набора, причём неконцевой полосы. Эпитафия Полии набрана чрезвычайно своеобразно, так что В. Лазурский сравнивал её свободную композицию с экспрессивными шрифтовыми решениями Аполлинера или Маринетти. Строки здесь не следуют обычному стиховому набору «флагом», но и не «нанизаны» на центральную ось симметрии. Строки причудливо сдвинуты и создают впечатление неуравновешенности и беспокойства, выражая смятение чувств автора эпитафии — Полифила. Этот экспериментальный текст контрастирует с завершающими словами колофона — «в доме Альда Мануция с особой тщательностью» (лат. in aedibus Aldi Manutii accuratissime)[76]
Текст изобилует изображениями разнообразных предметов с начертанными на них записями еврейским, арабским, греческим и латинским алфавитами, попадаются и египетские иероглифы. Надписи, стилизованные под древность, могут быть классифицированы по двум типам:
- Надписи, грубо гравированные вместе с изображением вазы или предмета древности;
- Надписи, составленные из типографских литер и включённые в ксилографическое изображение. Подписи набирались литерами обоих кеглей[77].
Иллюстрации к «Полифилу» обычно заключены в рамки, но размеры их самые разнообразные. Имеются полностраничные (полосные) гравюры, на ¾ полосы, полуполосные и в четверть страницы, самых произвольных размеров и конфигурации. Иногда встречались сложные обрамления или картины, скомпонованные внизу страниц, как кадры фильма[77].
Переводы. Культурное влияние
До ХХ века
Первое издание книги разошлось среди небольшого круга ценителей. Второе переиздание 1545 года с теми же иллюстрациями оказалось последним в Италии вплоть до второй половины ХХ века. Сложный язык и «тёмное» содержание превращали чтение в «странствие по лабиринту разрозненных описаний, пейзажей и любовных сцен», скрывавших за собой некие сущности[23]. Франсуа Рабле, чьи описания Телемского аббатства близки к образам «Сна Полифила», так характеризовал книгу[46]:
|
Это отношение осталось господствующим в среде современников и последующих поколений читателей. В Библиотеке академии наук сохранилась запись в экземпляре второго издания, относящаяся примерно к XVII веку: «Сны аллегорические…, в коих толкуется высшее и замечательнейшее искусство философское герметической природной архимагии, понимание истинного смысла господствующих планет земных, и там толкуется и встречается множество растений и животных…»[23]. По замечанию Э. Бланта (1937), роман пострадал от того, что был слишком роскошно издан и иллюстрирован. Велеречивость описаний и монологов вызвала насмешки Бальдассаре Кастильоне, — представителя зрелой литературной культуры Италии XVI века, в трактате «О придворном»[23].
Столь же невелико значение «Гипнэротомахии» оказалось для итальянского искусства. По словам Б. Соколова, «хотя многие садовые сооружения эпохи маньеризма имеют сходство с образами „Любовного борения“, ни одного прямого заимствования историкам доказать не удалось»[79]. В 1667 году Бернини установил монумент на площади Минервы в Риме, который изображает слона, держащего на своей спине древнеегипетский обелиск. Заказ на этот памятник сделал философски образованный папа-иезуит Александр VII. У. Хекшер писал, что объектом вдохновения скульптора, возможно, была гравюра, изображавшая такой же памятник в «Гипнэротомахии», однако он же отмечал, что похожие проекты можно было почерпнуть из трудов А. Кирхера[80].
 Подлинную популярность и определённое влияние на последующее развитие культуры (включая общеевропейскую) роман приобрёл во Франции. По-видимому, свою роль сыграла чуткость к итальянской культуре гуманистического двора Франциска I. Имеются сведения, что свадебным подарком его матери — Луизы Савойской — стала рукопись «Гипнэротомахии», роскошно переписанная около 1510 года; в библиотеке короля имелся и экземпляр оригинального издания. Неудивительно, что через год после второго альдинского издания, появился французский перевод, выполненный «мальтийским кавалером» де Левонкуром; редактором издания выступил Жан Мартен. Это издание, дополненное новыми, полностью оригинальными иллюстрациями и схемами (всего их 12 и две схемы), перепечатывалось в 1554 и 1561 годах[81]. По мнению Ю. Патронниковой, французские издания XVI века по качеству превосходят оригинал: был сглажен схематизм альдинских гравюр, изображения тел персонажей стали изящнее и реалистичнее[82]. В 1600 году перевод вышел с алхимическим комментарием Бероальда де Вервиля под названием фр. Le tableau de riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses, qui sont representées dans le Songe de Poliphile, devoilées des ombres du Songe et subtilement exposées par Béroalde de Verville, — «Обозрение великолепных изобретений, покрытое вуалью любовных масок, которые представлены в „Сне Полифила“, лишённого своих теней сна и тонко разоблачённого Бероальдом де Вервилем». В собственных сочинениях Бероальд де Вервиль развивал тему символической архитектуры, и придумывал дворцы и залы, напоминающие описанные в «Сне»[83].
Подлинную популярность и определённое влияние на последующее развитие культуры (включая общеевропейскую) роман приобрёл во Франции. По-видимому, свою роль сыграла чуткость к итальянской культуре гуманистического двора Франциска I. Имеются сведения, что свадебным подарком его матери — Луизы Савойской — стала рукопись «Гипнэротомахии», роскошно переписанная около 1510 года; в библиотеке короля имелся и экземпляр оригинального издания. Неудивительно, что через год после второго альдинского издания, появился французский перевод, выполненный «мальтийским кавалером» де Левонкуром; редактором издания выступил Жан Мартен. Это издание, дополненное новыми, полностью оригинальными иллюстрациями и схемами (всего их 12 и две схемы), перепечатывалось в 1554 и 1561 годах[81]. По мнению Ю. Патронниковой, французские издания XVI века по качеству превосходят оригинал: был сглажен схематизм альдинских гравюр, изображения тел персонажей стали изящнее и реалистичнее[82]. В 1600 году перевод вышел с алхимическим комментарием Бероальда де Вервиля под названием фр. Le tableau de riches inventions couvertes du voile des feintes amoureuses, qui sont representées dans le Songe de Poliphile, devoilées des ombres du Songe et subtilement exposées par Béroalde de Verville, — «Обозрение великолепных изобретений, покрытое вуалью любовных масок, которые представлены в „Сне Полифила“, лишённого своих теней сна и тонко разоблачённого Бероальдом де Вервилем». В собственных сочинениях Бероальд де Вервиль развивал тему символической архитектуры, и придумывал дворцы и залы, напоминающие описанные в «Сне»[83].
По мнению Б. Соколова, многие образы и идеи романа опередили своё время, поэтому его мотивы стали проявляться во французском искусстве уже в XVII—XVIII веках. В 1630—1640-е годы Эсташ Лесюэр создал три картины на сюжеты «Сна Полифила», включая приключение в купальне нимф. Жан Лафонтен написал куртуазный путеводитель по Во-ле-Виконту, назвав его, в подражание роману, «Сон в Во». Архитектура колоннады в Версале, по-видимому, создавалась под впечатлением от концентрических стен и пергол острова Киферы. В XVIII веке путешествие на остров Киферу стало привычным сюжетом французской живописи и литературы, и было реализовано в живописи Ватто, а в литературе — в романе Поля Тальмана и его русской адаптации — «Езде в остров Любви» В. К. Тредиаковского[79]. Уже в начале XIX века Клод-Николя Леду прямо избрал «Сон Полифила» образцом для своей работы, и многие чертежи в трактате «Архитектура, рассмотренная в отношении к искусству, нравам и законодательству» (1804) варьировали формы романа, прежде всего различные части Храма Солнца[84]. Новые французские переводы романа выходили в 1804 и 1883 годах, не считая переизданий.
Английский перевод романа был опубликован в 1592 году в Лондоне типографией Саймона Уотерсона под названием «The Strife of Love in a Dream»; переводчик скрывался под инициалами «R. D.», предположительно, это был Роберт Даллингтон[en]. Перевод был посвящён сэру Филипу Сидни — одному из ведущих поэтов елизаветинской эпохи, — что показывало и высокое качество перевода. Однако на английский язык было переведено около трети оригинального текста (16 глав), невысоким было и качество иллюстраций[82]. Он также остался единственным вплоть до конца ХХ века.
Переводы второй половины XX — начала XXI века
В 1968 году в Падуе вышло первое научное издание романа под редакцией Джованни Поцци и Лучии Чаппони, переизданное с дополнениями в 1980 году. Авторы не стали факсимильно воспроизводить текст 1499 года, подготовив его наборный вариант с расстановкой страниц и исправленной орфографией и пунктуацией, комментарии составили дополнительный том. Большим достоинством данного издания специалисты называют исследование литературных источников «Гипнэротомахии»: Дж. Поцци и Л. Чаппони выявили 21 пассаж из Горация, 27 — из Катулла, 35 — из Марциала, 48 — из Гомера, 52 — из Цицерона, более 500 — из «Естественной истории» Плиния, 19 ссылок на Данте и 86 — на Боккаччо. В 1998 году ему на смену было осуществлено издание Марко Ариани и Мино Габриэле, опубликованное в Милане. Издания 1968, 1980 и 1998 годов резко оживили интерес к роману в Италии и во всём мире, а исследовательский аппарат и сопутствующие публикации вывели исследования на новый философский и историко-культурный уровень[85].
К 500-летию романа в 1999 году был подготовлен научный английский перевод, осуществлённый специалистом по мистическим учениям Возрождения, профессором кафедры музыки в Университете Колгейт Джослином Годвином; данное издание преимущественно было основано на комментарии и тексте Поцци и Чаппони. В том же году вышел испанский перевод, осуществлённый Пилар Педраса[86]. В 2006—2014 годах вышли переводы романа на нидерландский[87] и немецкий языки[88]. Также в 2015 году было опубликовано исследование Анны Климкевич — профессора Ягеллонского университета, в котором был помещён перевод глав 1—4 на польский язык[89].
Полный русский перевод романа начал в 1997 году Борис Соколов[Прим 5]. В 2013—2014 годах в журнале «Искусство» вышли его переводы стихотворного и прозаического предисловий романа, а также архитектурных описаний из глав 6 и 8 (с приключением Полифила в купальне). На сайте «Сады и время» размещён перевод описания путешествия Полифила на остров Киферу. Полный перевод предполагалось осуществить в двух томах, причём первый должен был включать вёрстку текста и иллюстрации в форме, максимально приближённой к изданию 1499 года; второй том должен был содержать исследование и комментарий. Издание планировалось осуществить в 2016 году[91][92]; по состоянию на июль книга в свет ещё не вышла.
В архитектуре, дизайне и популярной культуре
В 1958—1978 годах миланский архитектор Томмазо Буцци[de] реализовал в долине Скарцуола[it] близ Ассизи проект «архитектурной антологии», построенной в стиле неоманьеризма, напрямую навеянном «Любовным борением во сне Полифила». Это дворцово-парковый ансабль с замком, театром, павильонами и галереями, обширным садом и «купальней Венеры», перестроенный из заброшенного монастыря, по преданию, основанного ещё Франциском Ассизским[84][93].
Канадский архитектор мексиканского происхождения Альберто Перес-Гомес в 1992 году реализовал визуальный проект «Гипнэротомахия Полифила как эротическая эпифания архитектуры», который представлял собой современную интерпретацию ренессансного романа, в предисловии анализировались архитектурные проекты автора «Полифила»[94][95]. Интерес к роману выразился и в творчестве испанского архитектора и дизайнера Эстебана Алехандро Круса, который с 1996 года начал проект на стыке архитектуры, реставрации и пропаганды культурного наследия, осуществляемый, преимущественно университетами Италии[96]. Его интерес к «Гипнэротомахии» выразился в изданных в 2006[97] и 2012 годах альбомах, в которых содержатся визуальные реконструкции построек и композиций, представленных в романе; в последнем из них около 160 иллюстраций[98].
В 2001 году американцы Иэн Колдуэлл[en] и Дастин Томасон создали роман «Правило четырёх[en]», сюжет которого основан на разгадке тайны авторства и назначения «Гипнэротомахии». В романе описано противостояние флорентийского гуманиста Франческо Колонны и Джироламо Савонаролы и детективная линия с участием современных студентов — исследователей «Любовного борения». После нескольких лет рассмотрения в издательствах, роман вышел в свет в 2004 году и стал бестселлером, выдержав 11 допечаток общим тиражом 325 тысяч экземпляров. Критики отмечали, что роман относится к тому же жанру, что и «Код да Винчи»[99][100]. «Правило четырёх» выходило и на русском языке[101].
Напишите отзыв о статье "Гипнэротомахия Полифила"
Комментарии
- ↑ На левой иллюстрации — аллегория Зимы в образе Юпитера Подателя Дождя, на правой иллюстрации — поклонение Приапу[1].
- ↑ Во втором издании 1545 года заглавие было на итальянском языке: итал. Hypnerotomachia Poliphili. Cioe pugna d'amore in sogno. Dov' egli mostra che tutte le cose humane non sono altro che sogno, — «Гипнэротомахия Полифила, сиречь любовная битва во сне. Где он показывает, что все дела человеческие есть ни что иное как сон».
- ↑ В «Библиографии безумцев» Нодье приводится ещё более резкая характеристика:
Со всем простодушием, на которое он был способен, поклонник Полии сообщает на неслыханном языке, который поставил бы в тупик самого Эдипа, что первоначально намеревался избрать наречие естественное и удобопонятное…, но затем отказался от этого намерения в угоду своей возлюбленной, которая умолила его скрыть тайну их любви от непосвящённых. Это ему в высшей степени удалось: смысла «Гипнэротомахии Полифила» (так называется книга) не разгадал даже великий Фоссиус, тёмен он и для нас. Написана «Гипнэротомахия» на испорченном итальянском языке, пересыпанном древнееврейскими, халдейскими, сирийскими, латинскими и греческими словами, а также никому не ведомыми архаизмами, диалектизмами и идиомами, которые приводили в недоумение даже такого бесконечно проницательного учёного мужа как Тирабоски[it]. Франциск Колумна может считаться прародителем всяческого наукообразия и словотворчества; созданная его горячечным воображением Вавилонская башня может обернуться кладезем премудрости для тех филологов, которые сумеют проникнуть в тайны его стиля и языка, закрыв глаза на путаные мысли[38].
- ↑ В литературе он именуется иногда «Грасси».
- ↑ Борис Михайлович Соколов. Доктор искусствоведения, профессор. Координатор семинара РГГУ «История культурного ландшафта», член правления Общества изучения русской усадьбы, автор и координатор образовательного проекта «Сады и время»[90]
Примечания
- ↑ Appell, 1889, p. 9.
- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 4.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 4—5.
- ↑ 1 2 3 Appell, 1889, p. 8.
- ↑ Патронникова, 2015, с. 2.
- ↑ Патронникова, 2015, с. 3.
- ↑ Appell, 1889, p. 12.
- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 8.
- ↑ 1 2 3 Патронникова, 2013, с. 247.
- ↑ Соколов, 2013, с. 199.
- ↑ Патронникова2, 2014, с. 206.
- ↑ Соколов, 2013, с. 199, 222.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 65.
- ↑ Патронникова2, 2014, с. 238.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 60—61.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 47.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 47—48.
- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 48.
- ↑ Benedetto L. F. [archive.org/stream/giornalestoricod56toriuoft#page/120/mode/2up Altre fonti dell' «Adone» di G.B. Marino] : [итал.] // Giornale storico della letteratura italiana. — 1910. — Vol. LVI. — P. 123.</span>
- ↑ Патронникова, 2013, с. 239.
- ↑ Fierz-David, 1950, p. 25.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 64—65.
- ↑ 1 2 3 4 Соколов, 2013, с. 200.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 27.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 27—28.
- ↑ Pasetti G. [xoomer.virgilio.it/gpasett/h2.htm Il libro come Labirinto infinito: questioni fondamentali dell’Hypnerotomachia]. Il Sogno di Pico. Enigmi dell'Hypnerotomachia. Il Bottone (2011). Проверено 5 июля 2016.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 28.
- ↑ Lefaivre, 1997, p. 92.
- ↑ Casella M.T., Pozzi G. Francesco Colonna. Biografia e opere. Vol.I: Biografia [M.T. Casella]; Vol.II: Opere [G. Pozzi]. — Padova: Editrice Antenore, 1959.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 34.
- ↑ [bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/947-khomentovskaya.html Хоментовская Анна Ильинична (1881—1942)]. Сетевой биографический словарь историков Санкт-Петербургского университета XVIII—XX вв.. Биографика СПбГУ. Поддерживается УСИТ СПбГУ (2016). Проверено 5 июля 2016.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 36—37.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 37—38.
- ↑ Lefaivre, 1997, p. 112.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 42.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 43.
- ↑ Нодье Ш. Франциск Колумна // Читайте старые книги. Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении / Пер. В. Мильчиной. — М. : Книга, 1989. — Кн. 1. — С. 72. — 271 с.</span>
- ↑ Нодье Ш. Библиография безумцев. О некоторых эксцентрических книгах // Читайте старые книги. Новеллы, статьи, эссе о книгах, книжниках, чтении / Пер. В. Мильчиной. — М. : Книга, 1989. — Кн. 2. — С. 126—127. — 320 с.</span>
- ↑ 1 2 3 Патронникова1, 2014, с. 74.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 75.
- ↑ Appell, 1889, p. 8—9.
- ↑ 1 2 Патронникова, 2013, с. 245.
- ↑ Патронникова, 2013, с. 245—246.
- ↑ Патронникова, 2013, с. 246.
- ↑ 1 2 3 4 Патронникова2, 2014, с. 196.
- ↑ 1 2 3 Соколов, 2013, с. 203.
- ↑ 1 2 Appell, 1889, p. 7.
- ↑ Патронникова2, 2014, с. 197, 203.
- ↑ Патронникова2, 2014, с. 197.
- ↑ Fierz-David, 1950, p. 49.
- ↑ Соколов, 2013, с. 204.
- ↑ Соколов, 2013, с. 206—207.
- ↑ Соколов, 2013, с. 207.
- ↑ Соколов, 2013, с. 207—208.
- ↑ Соколов, 2013, с. 211—212.
- ↑ Соколов, 2013, с. 212—213.
- ↑ Соколов, 2013, с. 214.
- ↑ 1 2 Соколов, 2013, с. 215.
- ↑ Соколов, 2013, с. 216.
- ↑ Соколов, 2013, с. 218.
- ↑ 1 2 3 Соколов, 2013, с. 221.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 98.
- ↑ Brown, 2012, p. 58—59.
- ↑ Brown, 2012, p. 60.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 102.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 109.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 100.
- ↑ Книговедение: Энциклопедический словарь / Гл. ред. Н. М. Сикорский. — М. : Советская энциклопедия, 1982. — С. 19. — 664 с.</span>
- ↑ Brown, 2012, p. 64.
- ↑ Brown, 2012, p. 65.
- ↑ [www.codex99.com/typography/82.html The Hypnerotomachia Poliphili] (англ.). Codex 99 (4 Jan 2011). Проверено 6 июля 2016.
- ↑ [istc.bl.uk/search/search.html?operation=record&rsid=517933&q=0 Record Details]. Incunabula Short Title Catalogue. Проверено 6 июля 2016.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 101.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 101—102.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 103—104.
- ↑ Лазурский, 1977, с. 105, 109.
- ↑ 1 2 Лазурский, 1977, с. 105.
- ↑ Рабле Ф. Гаргантюа и Пантрагрюэль / Пер. Н. М. Любимова. — М. : Правда, 1991. — С. 44. — 768 с. — (Библиотека «Огонёк»).</span>
- ↑ 1 2 Соколов, 2014, с. 174.
- ↑ Heckscher W. S. [www.collegeart.org/pdf/BerniniPDF3r.pdf Bernini’s Elephant and Obelisk] // The Art Bulletin. — 1947. — Vol. 29, no. 3. — P. 155–182.</span>
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 24.
- ↑ 1 2 Патронникова1, 2014, с. 25.
- ↑ Соколов, 2014, с. 176.
- ↑ 1 2 Соколов, 2014, с. 177.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 25—26.
- ↑ Патронникова1, 2014, с. 26.
- ↑ Francesco Colonna. De droom van Poliphilus (Hypnerotomachia Poliphili) : [нид.] / Vertaling, inleiding, noten en register door Ike Cialona. — Amsterdam : Atheneum-Polak en Van Gennep, 2006. — 472 + 174 p. — 150 (bibliofiele editie) экз. — ISBN 978-9-025-30668-7.</span>
- ↑ Francesco Colonna. Hypnerotomachia Poliphili : [нем.] / Auflage der Interlinearkommentarfassung, übersetzt und kommentiert von Thomas Reiser; herausgegeben von Uta Schedler. — Breitenbrunn : Theon Lykos, 2014. — 708 S. — ISBN 978-1-49-9206111.</span>
- ↑ [www.wuj.pl/page,produkt,prodid,2573,strona,_i_Hypnerotomachia_Poliphili__i_Francesca_Colonny,katid,37.html Anna Klimkiewicz. Hypnerotomachia Poliphili Francesca Colonny] (польск.). Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Проверено 7 июля 2016.
- ↑ [fii.rsuh.ru/section.html?id=3595 Соколов Борис Михайлович — профессор, доктор искусствоведения]. Российский государственный гуманитарный университет. Проверено 7 июля 2016.
- ↑ Соколов Борис Михайлович, Доктор искусствоведения. [grant.rfh.ru/sys/a/?colfilter=0&context=_anonymous~&pgoffset=0&ro_filter=_main.enrfh_tasks.syrecordidw%20%3D%203WAkG00J91RK0E00eY2aLb00~&table=main.enrfh_tasks&target=show_template&template=prg_card.htm Ренессансный роман-трактат «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499): комплексное исследование и комментированный перевод]. Карточка проекта, поддержанного Российским Гуманитарным Научным Фондом. РГНФ (2013). Проверено 7 июля 2016.
- ↑ [medieval.hse.ru/announcements/143858288.html «Роман Франческо Колонны „Любовное борение во сне Полифила“ (1499) и становление ренессансного символизма»: Борис Соколов в «Символическом Средневековье»]. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (26 февраля 2015). Проверено 7 июля 2016.
- ↑ [www.lascarzuola.com/la_scarzuola_30_03_2016_003.htm La Scarzuola] (англ.). La Scarzuola Official Web Site. Проверено 7 июля 2016.
- ↑ Alberto Pérez-Gómez. [www.polyphilo.com/ Text and images from the novel Polyphilo or the Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture]. Проверено 15 июля 2016.
- ↑ Pérez-Gómez, 1992.
- ↑ Esteban Alejandro Cruz. [hp1499.com/ Hypnerotomachia Poliphili: An Architectural Vision from the First Renaissance] (2012). Проверено 15 июля 2016.
- ↑ Cruz, 2006.
- ↑ Meerdink, 2015, p. 78.
- ↑ Dinitia Smith. [www.nytimes.com/2004/05/26/us/from-renaissance-enigma-a-modern-best-seller.html?_r=1 From Renaissance Enigma, a Modern Best Seller]. The New York Times (May 26, 2004). Проверено 15 июля 2016.
- ↑ Janet Maslin. [www.nytimes.com/2004/05/06/movies/books-of-the-times-deciphering-a-mysterious-text-and-puzzles-of-the-soul.html BOOKS OF THE TIMES; Deciphering a Mysterious Text and Puzzles of the Soul]. The New York Times (May 6, 2004). Проверено 15 июля 2016.
- ↑ [www.fantlab.ru/work489039 Информация о романе Дастина Томасона, Йена Колдуэлла «Правило четырех»: аннотация, издания, оценки]. «Лаборатория Фантастики». Проверено 20 июля 2016.
</ol>
Литература
- Лазурский В. В. Альд и альдины / Под ред. Ю. Герчука. — М. : Книга, 1977. — С. 98—109. — 142 с. — 3000 экз.</span>
- Патронникова Ю. С. [istina.msu.ru/media/dissertations/dissertation/1db/15e/7900485/Patronnikova_Ju._S._thesis.pdf Роман Ф. Колонны «Гипнеротомахия Полифила» (1499) в контексте ренессансной культуры рубежа XV—XVI вв]. — Дис. канд. философ. наук. — М., 2014. — 226 с.</span>
- Патронникова Ю. [sias.ru/upload/art/2013_3-4_236-260-patronnikova.pdf О природе женского образа в романе Ф. Колонны «Гипнэротомахия Полифила» (1499). Опыт культурно-философского анализа] // Искусствознание. — 2013. — Вып. 3-4. — С. 236—360.</span>
- Патронникова Ю. [sias.ru/upload/isk/193-210_Patronnikova%20top.pdf Ренессансное видение мира в романе Франческо Колонны «Гипнэротомахия Полифила». Мифологема сна] // Искусствознание. — 2014. — Вып. 1-2. — С. 193—210.</span>
- Патронникова Ю. [iph.ras.ru/uplfile/histsc/seminar/2015/Hypnerotomachia_Poliphili.pdf Мифологема сна в романе Франческо Колонны «Гипнеротомахия Полифила» (1499): Науч. доклад] // Институт философии РАН. — 2015. — 4 с.</span>
- Соколов Б. М. [sias.ru/upload/art/2013_3-4_199-235-sokolov.pdf Духовный путь героя и автора в романе Франческо Колонны «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499). Часть I] // Искусствознание. — 2013. — Вып. 3-4. — С. 199—223.</span>
- Соколов Б. М. [sias.ru/upload/isk/149-192_Sokolov%20top.pdf Духовный путь героя и автора в романе Франческо Колонны «Любовное борение во сне Полифила» (Венеция, 1499). Часть II] // Искусствознание. — 2014. — Вып. 1-2. — С. 151—179.</span>
- Appell J .W. [archive.org/details/cu31924030677326 The dream of Poliphilus. Facsimiles of one hundred and sixty eight woodcuts in the «Hypnerotomachia Poliphili», Venice, 1499. With an introduction notice, and descriptions by J. W. Appell]. — L. : Reproduced for the Department of Science and Art in Photo-lithography by W. Griggs, 1889. — 80 pl., 12 p.</span>
- Brown M. The Typography of Hypnerotomachia Poliphili: A Powerful Reflection of Renaissance Humanism : A Thesis of the Requirements for the Degree Master of Arts in Humanities. — California State University, Dominguez Hills, 2012. — 82 p.</span>
- Cruz E. A. Hypnerotomachia Poliphili: Re-discovering Antiquity Through the Dreams of Poliphilus. — Victoria : Trafford Publishing, 2006. — 256 p. — ISBN 978-1412053242.</span>
- Fierz-David L. The Dream of Poliphilo: The Soul in Love. — N. Y. : Spring Publications, 1950. — 243 p. — (Bollingen Series (Vol. 25); Jungian classics series, 8).</span>
- Lefaivre L. Leon Battista Alberti’s Hypnerotomachia Poliphili : Re-cognizing the architectural body in the early Italian Renaissance. — Cambridge : MIT Press, 1997. — 297 p. — ISBN 0-262-12204-9.</span>
- March L. Leon Battista Alberti as Author of Hypnerotomachia Poliphili // Nexus Network Journal. — 2015. — No. 17. — P. 697–721. — DOI:10.1007/s00004-015-0262-8.</span>
- Meerdink B. [books.google.ru/books?id=FL2mCQAAQBAJ&dq=Poliphili+Hypnerotomachia+caldwell&source=gbs_navlinks_s The Esoteric Codex: Incunabula]. — Lulu.com, 2015. — 132 p. — ISBN 9781312990036.</span>
- Pérez-Gómez A. Polyphilo or The Dark Forest Revisited: An Erotic Epiphany of Architecture. — Cambridge : MIT Press, 1992. — 352 p. — ISBN 978-0262161299.</span>
- Schmeiser L. Das Werk des Druckers. Untersuchungen zum Buch Hypnerotomachia Poliphili. — Maria Enzersdorf, Edition Rösner, 2003. — 176 s. — ISBN 978-3902300102.</span>
Ссылки
Электронные копии издания 1499 года
- [diglib.hab.de/wdb.php?dir=inkunabeln/13-1-eth-2f&distype=thumbs Hypnerotomachia Poliphili, Vbi Hvmana Omnia Non Nisi Somnivm Esse Docet. Atqve Obiter Plvrima Scitv Saneqvam Digna Commemorat]. Wolfenbütteler Digitale Bibliothek. Проверено 4 июля 2016.
- [www.rarebookroom.org/Control/colhyp/index.html Hypnerotomachia Poliphili]. Library of Congress, Rare Book and Special Coll. Div. «Rare Book Room» site. Проверено 4 июля 2016.
- [archive.org/details/hypnerotomachiap00colo Hypnerotomachia Poliphili : ubi humana omnia non nisisomnium esse docet atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat]. Boston Public Library (Rare Books Department) copy. archive.org. Проверено 4 июля 2016.
- [www.liberliber.it/mediateca/libri/c/colonna/hypnerotomachia_poliphili_etc/pdf/hypner_p.pdf Hypnerotomachia Poliphili, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet. Atque obiter plurima scitu sane quam digna commemorat] (итал.). Progetto Manuzio (2002). Проверено 4 июля 2016. (На основе издания Поцци и Чаппони 1980).
Иллюстрации из французского издания 1546 года
- [warburg-archive.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/subcats.php?cat_1=8&cat_2=16&cat_3=1670&cat_4=2245&cat_5=5364 Hypnerotomachia Poliphili. Paris, 1546]. Warburg Institute Iconographic Database. Проверено 4 июля 2016.
- [gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2200005d Illustrations de Le Songe de Poliphile] (фр.). Gallica: Bibliothèque nationale de France. Проверено 4 июля 2016.
Английский перевод 1592 года
- [archive.org/details/hypnerot00colluoft Hypnerotomachia. London, 1592] (англ.). Da Capo Press (1969). Проверено 4 июля 2016.
Французский перевод 1600 года
- [www.bvh.univ-tours.fr/Consult/consult.asp?numtable=B372615206_4023&numfiche=54&mode=3&offset=0 Le tableau des riches inventions... qui sont représentées dans le songe de Poliphile] (фр.). A Paris. Chez Matthieu Guillemot, au Palais en la gallerie des prisonniers. Avec privilege du Roy. Bibliothèques Virtuelles Humanistes (1600). Проверено 4 июля 2016.
Французский перевод 1811 года
- [books.google.fr/books?id=ULA_AAAAcAAJ&pg=PP7#v=onepage&q&f=false Songe de Poliphile]. traduction par J. G. Legrand. Google books. Проверено 4 июля 2016.
Материалы и переводы
- [www.mun.ca/alciato/hypbib.html#editions Hypnerotomachia Poliphili. A Bibliography] (англ.) (2000). Проверено 7 июля 2016.
- [special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/feb2004.html Hypnerotomachia Poliphili] (англ.). Book of the Month. GLASGOW UNIVERSITY LIBRARY SPECIAL COLLECTIONS DEPARTMENT (2004). Проверено 4 июля 2016.
- [architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/Colonna.asp?param= Hypnerotomachia Poliphili] (фр.). LES LIVRES D’ARCHITECTURE. Проверено 4 июля 2016.
- [www.philobiblon.org/lotto/hypnerotomachia-poliphili Hypnerotomachia Poliphili. Venezia: Aldo Manuzio, dicembre 1499]. Philobiblon. Проверено 6 июля 2016.
- [www.codex99.com/typography/82.html The Hypnerotomachia Poliphili] (англ.). Codex 99 (4 Jan 2011). Проверено 6 июля 2016.
- Liane Lefaivre. [mitpress2.mit.edu/e-books/HP/index.htm Hypnerotomachia Poliphili]. Delft University of Technology and MIT Press (1997). Проверено 4 июля 2016.
- Сергей Егоров. [www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=418 Замечания о шрифте и формате книги «Любовное борение во сне Полифила» (1499)]. Сады и время. Проверено 6 июля 2016.
- Б. М. Соколов. [www.gardenhistory.ru/page.php?pageid=65 «Любовное борение во сне Полифила»]. Сайт «Сады и время». Проверено 4 июля 2016.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| ||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Гипнэротомахия Полифила
Он с сожалением взглянул на Балашева, и только что Балашев хотел заметить что то, как он опять поспешно перебил его.– Чего он мог желать и искать такого, чего бы он не нашел в моей дружбе?.. – сказал Наполеон, с недоумением пожимая плечами. – Нет, он нашел лучшим окружить себя моими врагами, и кем же? – продолжал он. – Он призвал к себе Штейнов, Армфельдов, Винцингероде, Бенигсенов, Штейн – прогнанный из своего отечества изменник, Армфельд – развратник и интриган, Винцингероде – беглый подданный Франции, Бенигсен несколько более военный, чем другие, но все таки неспособный, который ничего не умел сделать в 1807 году и который бы должен возбуждать в императоре Александре ужасные воспоминания… Положим, ежели бы они были способны, можно бы их употреблять, – продолжал Наполеон, едва успевая словом поспевать за беспрестанно возникающими соображениями, показывающими ему его правоту или силу (что в его понятии было одно и то же), – но и того нет: они не годятся ни для войны, ни для мира. Барклай, говорят, дельнее их всех; но я этого не скажу, судя по его первым движениям. А они что делают? Что делают все эти придворные! Пфуль предлагает, Армфельд спорит, Бенигсен рассматривает, а Барклай, призванный действовать, не знает, на что решиться, и время проходит. Один Багратион – военный человек. Он глуп, но у него есть опытность, глазомер и решительность… И что за роль играет ваш молодой государь в этой безобразной толпе. Они его компрометируют и на него сваливают ответственность всего совершающегося. Un souverain ne doit etre a l'armee que quand il est general, [Государь должен находиться при армии только тогда, когда он полководец,] – сказал он, очевидно, посылая эти слова прямо как вызов в лицо государя. Наполеон знал, как желал император Александр быть полководцем.
– Уже неделя, как началась кампания, и вы не сумели защитить Вильну. Вы разрезаны надвое и прогнаны из польских провинций. Ваша армия ропщет…
– Напротив, ваше величество, – сказал Балашев, едва успевавший запоминать то, что говорилось ему, и с трудом следивший за этим фейерверком слов, – войска горят желанием…
– Я все знаю, – перебил его Наполеон, – я все знаю, и знаю число ваших батальонов так же верно, как и моих. У вас нет двухсот тысяч войска, а у меня втрое столько. Даю вам честное слово, – сказал Наполеон, забывая, что это его честное слово никак не могло иметь значения, – даю вам ma parole d'honneur que j'ai cinq cent trente mille hommes de ce cote de la Vistule. [честное слово, что у меня пятьсот тридцать тысяч человек по сю сторону Вислы.] Турки вам не помощь: они никуда не годятся и доказали это, замирившись с вами. Шведы – их предопределение быть управляемыми сумасшедшими королями. Их король был безумный; они переменили его и взяли другого – Бернадота, который тотчас сошел с ума, потому что сумасшедший только, будучи шведом, может заключать союзы с Россией. – Наполеон злобно усмехнулся и опять поднес к носу табакерку.
На каждую из фраз Наполеона Балашев хотел и имел что возразить; беспрестанно он делал движение человека, желавшего сказать что то, но Наполеон перебивал его. Например, о безумии шведов Балашев хотел сказать, что Швеция есть остров, когда Россия за нее; но Наполеон сердито вскрикнул, чтобы заглушить его голос. Наполеон находился в том состоянии раздражения, в котором нужно говорить, говорить и говорить, только для того, чтобы самому себе доказать свою справедливость. Балашеву становилось тяжело: он, как посол, боялся уронить достоинство свое и чувствовал необходимость возражать; но, как человек, он сжимался нравственно перед забытьем беспричинного гнева, в котором, очевидно, находился Наполеон. Он знал, что все слова, сказанные теперь Наполеоном, не имеют значения, что он сам, когда опомнится, устыдится их. Балашев стоял, опустив глаза, глядя на движущиеся толстые ноги Наполеона, и старался избегать его взгляда.
– Да что мне эти ваши союзники? – говорил Наполеон. – У меня союзники – это поляки: их восемьдесят тысяч, они дерутся, как львы. И их будет двести тысяч.
И, вероятно, еще более возмутившись тем, что, сказав это, он сказал очевидную неправду и что Балашев в той же покорной своей судьбе позе молча стоял перед ним, он круто повернулся назад, подошел к самому лицу Балашева и, делая энергические и быстрые жесты своими белыми руками, закричал почти:
– Знайте, что ежели вы поколеблете Пруссию против меня, знайте, что я сотру ее с карты Европы, – сказал он с бледным, искаженным злобой лицом, энергическим жестом одной маленькой руки ударяя по другой. – Да, я заброшу вас за Двину, за Днепр и восстановлю против вас ту преграду, которую Европа была преступна и слепа, что позволила разрушить. Да, вот что с вами будет, вот что вы выиграли, удалившись от меня, – сказал он и молча прошел несколько раз по комнате, вздрагивая своими толстыми плечами. Он положил в жилетный карман табакерку, опять вынул ее, несколько раз приставлял ее к носу и остановился против Балашева. Он помолчал, поглядел насмешливо прямо в глаза Балашеву и сказал тихим голосом: – Et cependant quel beau regne aurait pu avoir votre maitre! [A между тем какое прекрасное царствование мог бы иметь ваш государь!]
Балашев, чувствуя необходимость возражать, сказал, что со стороны России дела не представляются в таком мрачном виде. Наполеон молчал, продолжая насмешливо глядеть на него и, очевидно, его не слушая. Балашев сказал, что в России ожидают от войны всего хорошего. Наполеон снисходительно кивнул головой, как бы говоря: «Знаю, так говорить ваша обязанность, но вы сами в это не верите, вы убеждены мною».
В конце речи Балашева Наполеон вынул опять табакерку, понюхал из нее и, как сигнал, стукнул два раза ногой по полу. Дверь отворилась; почтительно изгибающийся камергер подал императору шляпу и перчатки, другой подал носовои платок. Наполеон, ne глядя на них, обратился к Балашеву.
– Уверьте от моего имени императора Александра, – сказал оц, взяв шляпу, – что я ему предан по прежнему: я анаю его совершенно и весьма высоко ценю высокие его качества. Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre a l'Empereur. [Не удерживаю вас более, генерал, вы получите мое письмо к государю.] – И Наполеон пошел быстро к двери. Из приемной все бросилось вперед и вниз по лестнице.
После всего того, что сказал ему Наполеон, после этих взрывов гнева и после последних сухо сказанных слов:
«Je ne vous retiens plus, general, vous recevrez ma lettre», Балашев был уверен, что Наполеон уже не только не пожелает его видеть, но постарается не видать его – оскорбленного посла и, главное, свидетеля его непристойной горячности. Но, к удивлению своему, Балашев через Дюрока получил в этот день приглашение к столу императора.
На обеде были Бессьер, Коленкур и Бертье. Наполеон встретил Балашева с веселым и ласковым видом. Не только не было в нем выражения застенчивости или упрека себе за утреннюю вспышку, но он, напротив, старался ободрить Балашева. Видно было, что уже давно для Наполеона в его убеждении не существовало возможности ошибок и что в его понятии все то, что он делал, было хорошо не потому, что оно сходилось с представлением того, что хорошо и дурно, но потому, что он делал это.
Император был очень весел после своей верховой прогулки по Вильне, в которой толпы народа с восторгом встречали и провожали его. Во всех окнах улиц, по которым он проезжал, были выставлены ковры, знамена, вензеля его, и польские дамы, приветствуя его, махали ему платками.
За обедом, посадив подле себя Балашева, он обращался с ним не только ласково, но обращался так, как будто он и Балашева считал в числе своих придворных, в числе тех людей, которые сочувствовали его планам и должны были радоваться его успехам. Между прочим разговором он заговорил о Москве и стал спрашивать Балашева о русской столице, не только как спрашивает любознательный путешественник о новом месте, которое он намеревается посетить, но как бы с убеждением, что Балашев, как русский, должен быть польщен этой любознательностью.
– Сколько жителей в Москве, сколько домов? Правда ли, что Moscou называют Moscou la sainte? [святая?] Сколько церквей в Moscou? – спрашивал он.
И на ответ, что церквей более двухсот, он сказал:
– К чему такая бездна церквей?
– Русские очень набожны, – отвечал Балашев.
– Впрочем, большое количество монастырей и церквей есть всегда признак отсталости народа, – сказал Наполеон, оглядываясь на Коленкура за оценкой этого суждения.
Балашев почтительно позволил себе не согласиться с мнением французского императора.
– У каждой страны свои нравы, – сказал он.
– Но уже нигде в Европе нет ничего подобного, – сказал Наполеон.
– Прошу извинения у вашего величества, – сказал Балашев, – кроме России, есть еще Испания, где также много церквей и монастырей.
Этот ответ Балашева, намекавший на недавнее поражение французов в Испании, был высоко оценен впоследствии, по рассказам Балашева, при дворе императора Александра и очень мало был оценен теперь, за обедом Наполеона, и прошел незаметно.
По равнодушным и недоумевающим лицам господ маршалов видно было, что они недоумевали, в чем тут состояла острота, на которую намекала интонация Балашева. «Ежели и была она, то мы не поняли ее или она вовсе не остроумна», – говорили выражения лиц маршалов. Так мало был оценен этот ответ, что Наполеон даже решительно не заметил его и наивно спросил Балашева о том, на какие города идет отсюда прямая дорога к Москве. Балашев, бывший все время обеда настороже, отвечал, что comme tout chemin mene a Rome, tout chemin mene a Moscou, [как всякая дорога, по пословице, ведет в Рим, так и все дороги ведут в Москву,] что есть много дорог, и что в числе этих разных путей есть дорога на Полтаву, которую избрал Карл XII, сказал Балашев, невольно вспыхнув от удовольствия в удаче этого ответа. Не успел Балашев досказать последних слов: «Poltawa», как уже Коленкур заговорил о неудобствах дороги из Петербурга в Москву и о своих петербургских воспоминаниях.
После обеда перешли пить кофе в кабинет Наполеона, четыре дня тому назад бывший кабинетом императора Александра. Наполеон сел, потрогивая кофе в севрской чашке, и указал на стул подло себя Балашеву.
Есть в человеке известное послеобеденное расположение духа, которое сильнее всяких разумных причин заставляет человека быть довольным собой и считать всех своими друзьями. Наполеон находился в этом расположении. Ему казалось, что он окружен людьми, обожающими его. Он был убежден, что и Балашев после его обеда был его другом и обожателем. Наполеон обратился к нему с приятной и слегка насмешливой улыбкой.
– Это та же комната, как мне говорили, в которой жил император Александр. Странно, не правда ли, генерал? – сказал он, очевидно, не сомневаясь в том, что это обращение не могло не быть приятно его собеседнику, так как оно доказывало превосходство его, Наполеона, над Александром.
Балашев ничего не мог отвечать на это и молча наклонил голову.
– Да, в этой комнате, четыре дня тому назад, совещались Винцингероде и Штейн, – с той же насмешливой, уверенной улыбкой продолжал Наполеон. – Чего я не могу понять, – сказал он, – это того, что император Александр приблизил к себе всех личных моих неприятелей. Я этого не… понимаю. Он не подумал о том, что я могу сделать то же? – с вопросом обратился он к Балашеву, и, очевидно, это воспоминание втолкнуло его опять в тот след утреннего гнева, который еще был свеж в нем.
– И пусть он знает, что я это сделаю, – сказал Наполеон, вставая и отталкивая рукой свою чашку. – Я выгоню из Германии всех его родных, Виртембергских, Баденских, Веймарских… да, я выгоню их. Пусть он готовит для них убежище в России!
Балашев наклонил голову, видом своим показывая, что он желал бы откланяться и слушает только потому, что он не может не слушать того, что ему говорят. Наполеон не замечал этого выражения; он обращался к Балашеву не как к послу своего врага, а как к человеку, который теперь вполне предан ему и должен радоваться унижению своего бывшего господина.
– И зачем император Александр принял начальство над войсками? К чему это? Война мое ремесло, а его дело царствовать, а не командовать войсками. Зачем он взял на себя такую ответственность?
Наполеон опять взял табакерку, молча прошелся несколько раз по комнате и вдруг неожиданно подошел к Балашеву и с легкой улыбкой так уверенно, быстро, просто, как будто он делал какое нибудь не только важное, но и приятное для Балашева дело, поднял руку к лицу сорокалетнего русского генерала и, взяв его за ухо, слегка дернул, улыбнувшись одними губами.
– Avoir l'oreille tiree par l'Empereur [Быть выдранным за ухо императором] считалось величайшей честью и милостью при французском дворе.
– Eh bien, vous ne dites rien, admirateur et courtisan de l'Empereur Alexandre? [Ну у, что ж вы ничего не говорите, обожатель и придворный императора Александра?] – сказал он, как будто смешно было быть в его присутствии чьим нибудь courtisan и admirateur [придворным и обожателем], кроме его, Наполеона.
– Готовы ли лошади для генерала? – прибавил он, слегка наклоняя голову в ответ на поклон Балашева.
– Дайте ему моих, ему далеко ехать…
Письмо, привезенное Балашевым, было последнее письмо Наполеона к Александру. Все подробности разговора были переданы русскому императору, и война началась.
После своего свидания в Москве с Пьером князь Андреи уехал в Петербург по делам, как он сказал своим родным, но, в сущности, для того, чтобы встретить там князя Анатоля Курагина, которого он считал необходимым встретить. Курагина, о котором он осведомился, приехав в Петербург, уже там не было. Пьер дал знать своему шурину, что князь Андрей едет за ним. Анатоль Курагин тотчас получил назначение от военного министра и уехал в Молдавскую армию. В это же время в Петербурге князь Андрей встретил Кутузова, своего прежнего, всегда расположенного к нему, генерала, и Кутузов предложил ему ехать с ним вместе в Молдавскую армию, куда старый генерал назначался главнокомандующим. Князь Андрей, получив назначение состоять при штабе главной квартиры, уехал в Турцию.
Князь Андрей считал неудобным писать к Курагину и вызывать его. Не подав нового повода к дуэли, князь Андрей считал вызов с своей стороны компрометирующим графиню Ростову, и потому он искал личной встречи с Курагиным, в которой он намерен был найти новый повод к дуэли. Но в Турецкой армии ему также не удалось встретить Курагина, который вскоре после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. В новой стране и в новых условиях жизни князю Андрею стало жить легче. После измены своей невесты, которая тем сильнее поразила его, чем старательнее он скрывал ото всех произведенное на него действие, для него были тяжелы те условия жизни, в которых он был счастлив, и еще тяжелее были свобода и независимость, которыми он так дорожил прежде. Он не только не думал тех прежних мыслей, которые в первый раз пришли ему, глядя на небо на Аустерлицком поле, которые он любил развивать с Пьером и которые наполняли его уединение в Богучарове, а потом в Швейцарии и Риме; но он даже боялся вспоминать об этих мыслях, раскрывавших бесконечные и светлые горизонты. Его интересовали теперь только самые ближайшие, не связанные с прежними, практические интересы, за которые он ухватывался с тем большей жадностью, чем закрытое были от него прежние. Как будто тот бесконечный удаляющийся свод неба, стоявший прежде над ним, вдруг превратился в низкий, определенный, давивший его свод, в котором все было ясно, но ничего не было вечного и таинственного.
Из представлявшихся ему деятельностей военная служба была самая простая и знакомая ему. Состоя в должности дежурного генерала при штабе Кутузова, он упорно и усердно занимался делами, удивляя Кутузова своей охотой к работе и аккуратностью. Не найдя Курагина в Турции, князь Андрей не считал необходимым скакать за ним опять в Россию; но при всем том он знал, что, сколько бы ни прошло времени, он не мог, встретив Курагина, несмотря на все презрение, которое он имел к нему, несмотря на все доказательства, которые он делал себе, что ему не стоит унижаться до столкновения с ним, он знал, что, встретив его, он не мог не вызвать его, как не мог голодный человек не броситься на пищу. И это сознание того, что оскорбление еще не вымещено, что злоба не излита, а лежит на сердце, отравляло то искусственное спокойствие, которое в виде озабоченно хлопотливой и несколько честолюбивой и тщеславной деятельности устроил себе князь Андрей в Турции.
В 12 м году, когда до Букарешта (где два месяца жил Кутузов, проводя дни и ночи у своей валашки) дошла весть о войне с Наполеоном, князь Андрей попросил у Кутузова перевода в Западную армию. Кутузов, которому уже надоел Болконский своей деятельностью, служившей ему упреком в праздности, Кутузов весьма охотно отпустил его и дал ему поручение к Барклаю де Толли.
Прежде чем ехать в армию, находившуюся в мае в Дрисском лагере, князь Андрей заехал в Лысые Горы, которые были на самой его дороге, находясь в трех верстах от Смоленского большака. Последние три года и жизни князя Андрея было так много переворотов, так много он передумал, перечувствовал, перевидел (он объехал и запад и восток), что его странно и неожиданно поразило при въезде в Лысые Горы все точно то же, до малейших подробностей, – точно то же течение жизни. Он, как в заколдованный, заснувший замок, въехал в аллею и в каменные ворота лысогорского дома. Та же степенность, та же чистота, та же тишина были в этом доме, те же мебели, те же стены, те же звуки, тот же запах и те же робкие лица, только несколько постаревшие. Княжна Марья была все та же робкая, некрасивая, стареющаяся девушка, в страхе и вечных нравственных страданиях, без пользы и радости проживающая лучшие годы своей жизни. Bourienne была та же радостно пользующаяся каждой минутой своей жизни и исполненная самых для себя радостных надежд, довольная собой, кокетливая девушка. Она только стала увереннее, как показалось князю Андрею. Привезенный им из Швейцарии воспитатель Десаль был одет в сюртук русского покроя, коверкая язык, говорил по русски со слугами, но был все тот же ограниченно умный, образованный, добродетельный и педантический воспитатель. Старый князь переменился физически только тем, что с боку рта у него стал заметен недостаток одного зуба; нравственно он был все такой же, как и прежде, только с еще большим озлоблением и недоверием к действительности того, что происходило в мире. Один только Николушка вырос, переменился, разрумянился, оброс курчавыми темными волосами и, сам не зная того, смеясь и веселясь, поднимал верхнюю губку хорошенького ротика точно так же, как ее поднимала покойница маленькая княгиня. Он один не слушался закона неизменности в этом заколдованном, спящем замке. Но хотя по внешности все оставалось по старому, внутренние отношения всех этих лиц изменились, с тех пор как князь Андрей не видал их. Члены семейства были разделены на два лагеря, чуждые и враждебные между собой, которые сходились теперь только при нем, – для него изменяя свой обычный образ жизни. К одному принадлежали старый князь, m lle Bourienne и архитектор, к другому – княжна Марья, Десаль, Николушка и все няньки и мамки.
Во время его пребывания в Лысых Горах все домашние обедали вместе, но всем было неловко, и князь Андрей чувствовал, что он гость, для которого делают исключение, что он стесняет всех своим присутствием. Во время обеда первого дня князь Андрей, невольно чувствуя это, был молчалив, и старый князь, заметив неестественность его состояния, тоже угрюмо замолчал и сейчас после обеда ушел к себе. Когда ввечеру князь Андрей пришел к нему и, стараясь расшевелить его, стал рассказывать ему о кампании молодого графа Каменского, старый князь неожиданно начал с ним разговор о княжне Марье, осуждая ее за ее суеверие, за ее нелюбовь к m lle Bourienne, которая, по его словам, была одна истинно предана ему.
Старый князь говорил, что ежели он болен, то только от княжны Марьи; что она нарочно мучает и раздражает его; что она баловством и глупыми речами портит маленького князя Николая. Старый князь знал очень хорошо, что он мучает свою дочь, что жизнь ее очень тяжела, но знал тоже, что он не может не мучить ее и что она заслуживает этого. «Почему же князь Андрей, который видит это, мне ничего не говорит про сестру? – думал старый князь. – Что же он думает, что я злодей или старый дурак, без причины отдалился от дочери и приблизил к себе француженку? Он не понимает, и потому надо объяснить ему, надо, чтоб он выслушал», – думал старый князь. И он стал объяснять причины, по которым он не мог переносить бестолкового характера дочери.
– Ежели вы спрашиваете меня, – сказал князь Андрей, не глядя на отца (он в первый раз в жизни осуждал своего отца), – я не хотел говорить; но ежели вы меня спрашиваете, то я скажу вам откровенно свое мнение насчет всего этого. Ежели есть недоразумения и разлад между вами и Машей, то я никак не могу винить ее – я знаю, как она вас любит и уважает. Ежели уж вы спрашиваете меня, – продолжал князь Андрей, раздражаясь, потому что он всегда был готов на раздражение в последнее время, – то я одно могу сказать: ежели есть недоразумения, то причиной их ничтожная женщина, которая бы не должна была быть подругой сестры.
Старик сначала остановившимися глазами смотрел на сына и ненатурально открыл улыбкой новый недостаток зуба, к которому князь Андрей не мог привыкнуть.
– Какая же подруга, голубчик? А? Уж переговорил! А?
– Батюшка, я не хотел быть судьей, – сказал князь Андрей желчным и жестким тоном, – но вы вызвали меня, и я сказал и всегда скажу, что княжна Марья ни виновата, а виноваты… виновата эта француженка…
– А присудил!.. присудил!.. – сказал старик тихим голосом и, как показалось князю Андрею, с смущением, но потом вдруг он вскочил и закричал: – Вон, вон! Чтоб духу твоего тут не было!..
Князь Андрей хотел тотчас же уехать, но княжна Марья упросила остаться еще день. В этот день князь Андрей не виделся с отцом, который не выходил и никого не пускал к себе, кроме m lle Bourienne и Тихона, и спрашивал несколько раз о том, уехал ли его сын. На другой день, перед отъездом, князь Андрей пошел на половину сына. Здоровый, по матери кудрявый мальчик сел ему на колени. Князь Андрей начал сказывать ему сказку о Синей Бороде, но, не досказав, задумался. Он думал не об этом хорошеньком мальчике сыне в то время, как он его держал на коленях, а думал о себе. Он с ужасом искал и не находил в себе ни раскаяния в том, что он раздражил отца, ни сожаления о том, что он (в ссоре в первый раз в жизни) уезжает от него. Главнее всего ему было то, что он искал и не находил той прежней нежности к сыну, которую он надеялся возбудить в себе, приласкав мальчика и посадив его к себе на колени.
– Ну, рассказывай же, – говорил сын. Князь Андрей, не отвечая ему, снял его с колон и пошел из комнаты.
Как только князь Андрей оставил свои ежедневные занятия, в особенности как только он вступил в прежние условия жизни, в которых он был еще тогда, когда он был счастлив, тоска жизни охватила его с прежней силой, и он спешил поскорее уйти от этих воспоминаний и найти поскорее какое нибудь дело.
– Ты решительно едешь, Andre? – сказала ему сестра.
– Слава богу, что могу ехать, – сказал князь Андрей, – очень жалею, что ты не можешь.
– Зачем ты это говоришь! – сказала княжна Марья. – Зачем ты это говоришь теперь, когда ты едешь на эту страшную войну и он так стар! M lle Bourienne говорила, что он спрашивал про тебя… – Как только она начала говорить об этом, губы ее задрожали и слезы закапали. Князь Андрей отвернулся от нее и стал ходить по комнате.
– Ах, боже мой! Боже мой! – сказал он. – И как подумаешь, что и кто – какое ничтожество может быть причиной несчастья людей! – сказал он со злобою, испугавшею княжну Марью.
Она поняла, что, говоря про людей, которых он называл ничтожеством, он разумел не только m lle Bourienne, делавшую его несчастие, но и того человека, который погубил его счастие.
– Andre, об одном я прошу, я умоляю тебя, – сказала она, дотрогиваясь до его локтя и сияющими сквозь слезы глазами глядя на него. – Я понимаю тебя (княжна Марья опустила глаза). Не думай, что горе сделали люди. Люди – орудие его. – Она взглянула немного повыше головы князя Андрея тем уверенным, привычным взглядом, с которым смотрят на знакомое место портрета. – Горе послано им, а не людьми. Люди – его орудия, они не виноваты. Ежели тебе кажется, что кто нибудь виноват перед тобой, забудь это и прости. Мы не имеем права наказывать. И ты поймешь счастье прощать.
– Ежели бы я был женщина, я бы это делал, Marie. Это добродетель женщины. Но мужчина не должен и не может забывать и прощать, – сказал он, и, хотя он до этой минуты не думал о Курагине, вся невымещенная злоба вдруг поднялась в его сердце. «Ежели княжна Марья уже уговаривает меня простить, то, значит, давно мне надо было наказать», – подумал он. И, не отвечая более княжне Марье, он стал думать теперь о той радостной, злобной минуте, когда он встретит Курагина, который (он знал) находится в армии.
Княжна Марья умоляла брата подождать еще день, говорила о том, что она знает, как будет несчастлив отец, ежели Андрей уедет, не помирившись с ним; но князь Андрей отвечал, что он, вероятно, скоро приедет опять из армии, что непременно напишет отцу и что теперь чем дольше оставаться, тем больше растравится этот раздор.
– Adieu, Andre! Rappelez vous que les malheurs viennent de Dieu, et que les hommes ne sont jamais coupables, [Прощай, Андрей! Помни, что несчастия происходят от бога и что люди никогда не бывают виноваты.] – были последние слова, которые он слышал от сестры, когда прощался с нею.
«Так это должно быть! – думал князь Андрей, выезжая из аллеи лысогорского дома. – Она, жалкое невинное существо, остается на съедение выжившему из ума старику. Старик чувствует, что виноват, но не может изменить себя. Мальчик мой растет и радуется жизни, в которой он будет таким же, как и все, обманутым или обманывающим. Я еду в армию, зачем? – сам не знаю, и желаю встретить того человека, которого презираю, для того чтобы дать ему случай убить меня и посмеяться надо мной!И прежде были все те же условия жизни, но прежде они все вязались между собой, а теперь все рассыпалось. Одни бессмысленные явления, без всякой связи, одно за другим представлялись князю Андрею.
Князь Андрей приехал в главную квартиру армии в конце июня. Войска первой армии, той, при которой находился государь, были расположены в укрепленном лагере у Дриссы; войска второй армии отступали, стремясь соединиться с первой армией, от которой – как говорили – они были отрезаны большими силами французов. Все были недовольны общим ходом военных дел в русской армии; но об опасности нашествия в русские губернии никто и не думал, никто и не предполагал, чтобы война могла быть перенесена далее западных польских губерний.
Князь Андрей нашел Барклая де Толли, к которому он был назначен, на берегу Дриссы. Так как не было ни одного большого села или местечка в окрестностях лагеря, то все огромное количество генералов и придворных, бывших при армии, располагалось в окружности десяти верст по лучшим домам деревень, по сю и по ту сторону реки. Барклай де Толли стоял в четырех верстах от государя. Он сухо и холодно принял Болконского и сказал своим немецким выговором, что он доложит о нем государю для определения ему назначения, а покамест просит его состоять при его штабе. Анатоля Курагина, которого князь Андрей надеялся найти в армии, не было здесь: он был в Петербурге, и это известие было приятно Болконскому. Интерес центра производящейся огромной войны занял князя Андрея, и он рад был на некоторое время освободиться от раздражения, которое производила в нем мысль о Курагине. В продолжение первых четырех дней, во время которых он не был никуда требуем, князь Андрей объездил весь укрепленный лагерь и с помощью своих знаний и разговоров с сведущими людьми старался составить себе о нем определенное понятие. Но вопрос о том, выгоден или невыгоден этот лагерь, остался нерешенным для князя Андрея. Он уже успел вывести из своего военного опыта то убеждение, что в военном деле ничего не значат самые глубокомысленно обдуманные планы (как он видел это в Аустерлицком походе), что все зависит от того, как отвечают на неожиданные и не могущие быть предвиденными действия неприятеля, что все зависит от того, как и кем ведется все дело. Для того чтобы уяснить себе этот последний вопрос, князь Андрей, пользуясь своим положением и знакомствами, старался вникнуть в характер управления армией, лиц и партий, участвовавших в оном, и вывел для себя следующее понятие о положении дел.
Когда еще государь был в Вильне, армия была разделена натрое: 1 я армия находилась под начальством Барклая де Толли, 2 я под начальством Багратиона, 3 я под начальством Тормасова. Государь находился при первой армии, но не в качестве главнокомандующего. В приказе не было сказано, что государь будет командовать, сказано только, что государь будет при армии. Кроме того, при государе лично не было штаба главнокомандующего, а был штаб императорской главной квартиры. При нем был начальник императорского штаба генерал квартирмейстер князь Волконский, генералы, флигель адъютанты, дипломатические чиновники и большое количество иностранцев, но не было штаба армии. Кроме того, без должности при государе находились: Аракчеев – бывший военный министр, граф Бенигсен – по чину старший из генералов, великий князь цесаревич Константин Павлович, граф Румянцев – канцлер, Штейн – бывший прусский министр, Армфельд – шведский генерал, Пфуль – главный составитель плана кампании, генерал адъютант Паулучи – сардинский выходец, Вольцоген и многие другие. Хотя эти лица и находились без военных должностей при армии, но по своему положению имели влияние, и часто корпусный начальник и даже главнокомандующий не знал, в качестве чего спрашивает или советует то или другое Бенигсен, или великий князь, или Аракчеев, или князь Волконский, и не знал, от его ли лица или от государя истекает такое то приказание в форме совета и нужно или не нужно исполнять его. Но это была внешняя обстановка, существенный же смысл присутствия государя и всех этих лиц, с придворной точки (а в присутствии государя все делаются придворными), всем был ясен. Он был следующий: государь не принимал на себя звания главнокомандующего, но распоряжался всеми армиями; люди, окружавшие его, были его помощники. Аракчеев был верный исполнитель блюститель порядка и телохранитель государя; Бенигсен был помещик Виленской губернии, который как будто делал les honneurs [был занят делом приема государя] края, а в сущности был хороший генерал, полезный для совета и для того, чтобы иметь его всегда наготове на смену Барклая. Великий князь был тут потому, что это было ему угодно. Бывший министр Штейн был тут потому, что он был полезен для совета, и потому, что император Александр высоко ценил его личные качества. Армфельд был злой ненавистник Наполеона и генерал, уверенный в себе, что имело всегда влияние на Александра. Паулучи был тут потому, что он был смел и решителен в речах, Генерал адъютанты были тут потому, что они везде были, где государь, и, наконец, – главное – Пфуль был тут потому, что он, составив план войны против Наполеона и заставив Александра поверить в целесообразность этого плана, руководил всем делом войны. При Пфуле был Вольцоген, передававший мысли Пфуля в более доступной форме, чем сам Пфуль, резкий, самоуверенный до презрения ко всему, кабинетный теоретик.
Кроме этих поименованных лиц, русских и иностранных (в особенности иностранцев, которые с смелостью, свойственной людям в деятельности среди чужой среды, каждый день предлагали новые неожиданные мысли), было еще много лиц второстепенных, находившихся при армии потому, что тут были их принципалы.
В числе всех мыслей и голосов в этом огромном, беспокойном, блестящем и гордом мире князь Андрей видел следующие, более резкие, подразделения направлений и партий.
Первая партия была: Пфуль и его последователи, теоретики войны, верящие в то, что есть наука войны и что в этой науке есть свои неизменные законы, законы облического движения, обхода и т. п. Пфуль и последователи его требовали отступления в глубь страны, отступления по точным законам, предписанным мнимой теорией войны, и во всяком отступлении от этой теории видели только варварство, необразованность или злонамеренность. К этой партии принадлежали немецкие принцы, Вольцоген, Винцингероде и другие, преимущественно немцы.
Вторая партия была противуположная первой. Как и всегда бывает, при одной крайности были представители другой крайности. Люди этой партии были те, которые еще с Вильны требовали наступления в Польшу и свободы от всяких вперед составленных планов. Кроме того, что представители этой партии были представители смелых действий, они вместе с тем и были представителями национальности, вследствие чего становились еще одностороннее в споре. Эти были русские: Багратион, начинавший возвышаться Ермолов и другие. В это время была распространена известная шутка Ермолова, будто бы просившего государя об одной милости – производства его в немцы. Люди этой партии говорили, вспоминая Суворова, что надо не думать, не накалывать иголками карту, а драться, бить неприятеля, не впускать его в Россию и не давать унывать войску.
К третьей партии, к которой более всего имел доверия государь, принадлежали придворные делатели сделок между обоими направлениями. Люди этой партии, большей частью не военные и к которой принадлежал Аракчеев, думали и говорили, что говорят обыкновенно люди, не имеющие убеждений, но желающие казаться за таковых. Они говорили, что, без сомнения, война, особенно с таким гением, как Бонапарте (его опять называли Бонапарте), требует глубокомысленнейших соображений, глубокого знания науки, и в этом деле Пфуль гениален; но вместе с тем нельзя не признать того, что теоретики часто односторонни, и потому не надо вполне доверять им, надо прислушиваться и к тому, что говорят противники Пфуля, и к тому, что говорят люди практические, опытные в военном деле, и изо всего взять среднее. Люди этой партии настояли на том, чтобы, удержав Дрисский лагерь по плану Пфуля, изменить движения других армий. Хотя этим образом действий не достигалась ни та, ни другая цель, но людям этой партии казалось так лучше.
Четвертое направление было направление, которого самым видным представителем был великий князь, наследник цесаревич, не могший забыть своего аустерлицкого разочарования, где он, как на смотр, выехал перед гвардиею в каске и колете, рассчитывая молодецки раздавить французов, и, попав неожиданно в первую линию, насилу ушел в общем смятении. Люди этой партии имели в своих суждениях и качество и недостаток искренности. Они боялись Наполеона, видели в нем силу, в себе слабость и прямо высказывали это. Они говорили: «Ничего, кроме горя, срама и погибели, из всего этого не выйдет! Вот мы оставили Вильну, оставили Витебск, оставим и Дриссу. Одно, что нам остается умного сделать, это заключить мир, и как можно скорее, пока не выгнали нас из Петербурга!»
Воззрение это, сильно распространенное в высших сферах армии, находило себе поддержку и в Петербурге, и в канцлере Румянцеве, по другим государственным причинам стоявшем тоже за мир.
Пятые были приверженцы Барклая де Толли, не столько как человека, сколько как военного министра и главнокомандующего. Они говорили: «Какой он ни есть (всегда так начинали), но он честный, дельный человек, и лучше его нет. Дайте ему настоящую власть, потому что война не может идти успешно без единства начальствования, и он покажет то, что он может сделать, как он показал себя в Финляндии. Ежели армия наша устроена и сильна и отступила до Дриссы, не понесши никаких поражений, то мы обязаны этим только Барклаю. Ежели теперь заменят Барклая Бенигсеном, то все погибнет, потому что Бенигсен уже показал свою неспособность в 1807 году», – говорили люди этой партии.
Шестые, бенигсенисты, говорили, напротив, что все таки не было никого дельнее и опытнее Бенигсена, и, как ни вертись, все таки придешь к нему. И люди этой партии доказывали, что все наше отступление до Дриссы было постыднейшее поражение и беспрерывный ряд ошибок. «Чем больше наделают ошибок, – говорили они, – тем лучше: по крайней мере, скорее поймут, что так не может идти. А нужен не какой нибудь Барклай, а человек, как Бенигсен, который показал уже себя в 1807 м году, которому отдал справедливость сам Наполеон, и такой человек, за которым бы охотно признавали власть, – и таковой есть только один Бенигсен».
Седьмые – были лица, которые всегда есть, в особенности при молодых государях, и которых особенно много было при императоре Александре, – лица генералов и флигель адъютантов, страстно преданные государю не как императору, но как человека обожающие его искренно и бескорыстно, как его обожал Ростов в 1805 м году, и видящие в нем не только все добродетели, но и все качества человеческие. Эти лица хотя и восхищались скромностью государя, отказывавшегося от командования войсками, но осуждали эту излишнюю скромность и желали только одного и настаивали на том, чтобы обожаемый государь, оставив излишнее недоверие к себе, объявил открыто, что он становится во главе войска, составил бы при себе штаб квартиру главнокомандующего и, советуясь, где нужно, с опытными теоретиками и практиками, сам бы вел свои войска, которых одно это довело бы до высшего состояния воодушевления.
Восьмая, самая большая группа людей, которая по своему огромному количеству относилась к другим, как 99 к 1 му, состояла из людей, не желавших ни мира, ни войны, ни наступательных движений, ни оборонительного лагеря ни при Дриссе, ни где бы то ни было, ни Барклая, ни государя, ни Пфуля, ни Бенигсена, но желающих только одного, и самого существенного: наибольших для себя выгод и удовольствий. В той мутной воде перекрещивающихся и перепутывающихся интриг, которые кишели при главной квартире государя, в весьма многом можно было успеть в таком, что немыслимо бы было в другое время. Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждал, что не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтобы избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что он готов быть жертвою общей пользы. Третий просто выпрашивал себе, между двух советов и в отсутствие врагов, единовременное пособие за свою верную службу, зная, что теперь некогда будет отказать ему. Четвертый нечаянно все попадался на глаза государю, отягченный работой. Пятый, для того чтобы достигнуть давно желанной цели – обеда у государя, ожесточенно доказывал правоту или неправоту вновь выступившего мнения и для этого приводил более или менее сильные и справедливые доказательства.
Все люди этой партии ловили рубли, кресты, чины и в этом ловлении следили только за направлением флюгера царской милости, и только что замечали, что флюгер обратился в одну сторону, как все это трутневое население армии начинало дуть в ту же сторону, так что государю тем труднее было повернуть его в другую. Среди неопределенности положения, при угрожающей, серьезной опасности, придававшей всему особенно тревожный характер, среди этого вихря интриг, самолюбий, столкновений различных воззрений и чувств, при разноплеменности всех этих лиц, эта восьмая, самая большая партия людей, нанятых личными интересами, придавала большую запутанность и смутность общему делу. Какой бы ни поднимался вопрос, а уж рой этих трутней, не оттрубив еще над прежней темой, перелетал на новую и своим жужжанием заглушал и затемнял искренние, спорящие голоса.
Из всех этих партий, в то самое время, как князь Андрей приехал к армии, собралась еще одна, девятая партия, начинавшая поднимать свой голос. Это была партия людей старых, разумных, государственно опытных и умевших, не разделяя ни одного из противоречащих мнений, отвлеченно посмотреть на все, что делалось при штабе главной квартиры, и обдумать средства к выходу из этой неопределенности, нерешительности, запутанности и слабости.
Люди этой партии говорили и думали, что все дурное происходит преимущественно от присутствия государя с военным двором при армии; что в армию перенесена та неопределенная, условная и колеблющаяся шаткость отношений, которая удобна при дворе, но вредна в армии; что государю нужно царствовать, а не управлять войском; что единственный выход из этого положения есть отъезд государя с его двором из армии; что одно присутствие государя парализует пятьдесят тысяч войска, нужных для обеспечения его личной безопасности; что самый плохой, но независимый главнокомандующий будет лучше самого лучшего, но связанного присутствием и властью государя.
В то самое время как князь Андрей жил без дела при Дриссе, Шишков, государственный секретарь, бывший одним из главных представителей этой партии, написал государю письмо, которое согласились подписать Балашев и Аракчеев. В письме этом, пользуясь данным ему от государя позволением рассуждать об общем ходе дел, он почтительно и под предлогом необходимости для государя воодушевить к войне народ в столице, предлагал государю оставить войско.
Одушевление государем народа и воззвание к нему для защиты отечества – то самое (насколько оно произведено было личным присутствием государя в Москве) одушевление народа, которое было главной причиной торжества России, было представлено государю и принято им как предлог для оставления армии.
Х
Письмо это еще не было подано государю, когда Барклай за обедом передал Болконскому, что государю лично угодно видеть князя Андрея, для того чтобы расспросить его о Турции, и что князь Андрей имеет явиться в квартиру Бенигсена в шесть часов вечера.
В этот же день в квартире государя было получено известие о новом движении Наполеона, могущем быть опасным для армии, – известие, впоследствии оказавшееся несправедливым. И в это же утро полковник Мишо, объезжая с государем дрисские укрепления, доказывал государю, что укрепленный лагерь этот, устроенный Пфулем и считавшийся до сих пор chef d'?uvr'ом тактики, долженствующим погубить Наполеона, – что лагерь этот есть бессмыслица и погибель русской армии.
Князь Андрей приехал в квартиру генерала Бенигсена, занимавшего небольшой помещичий дом на самом берегу реки. Ни Бенигсена, ни государя не было там, но Чернышев, флигель адъютант государя, принял Болконского и объявил ему, что государь поехал с генералом Бенигсеном и с маркизом Паулучи другой раз в нынешний день для объезда укреплений Дрисского лагеря, в удобности которого начинали сильно сомневаться.
Чернышев сидел с книгой французского романа у окна первой комнаты. Комната эта, вероятно, была прежде залой; в ней еще стоял орган, на который навалены были какие то ковры, и в одном углу стояла складная кровать адъютанта Бенигсена. Этот адъютант был тут. Он, видно, замученный пирушкой или делом, сидел на свернутой постеле и дремал. Из залы вели две двери: одна прямо в бывшую гостиную, другая направо в кабинет. Из первой двери слышались голоса разговаривающих по немецки и изредка по французски. Там, в бывшей гостиной, были собраны, по желанию государя, не военный совет (государь любил неопределенность), но некоторые лица, которых мнение о предстоящих затруднениях он желал знать. Это не был военный совет, но как бы совет избранных для уяснения некоторых вопросов лично для государя. На этот полусовет были приглашены: шведский генерал Армфельд, генерал адъютант Вольцоген, Винцингероде, которого Наполеон называл беглым французским подданным, Мишо, Толь, вовсе не военный человек – граф Штейн и, наконец, сам Пфуль, который, как слышал князь Андрей, был la cheville ouvriere [основою] всего дела. Князь Андрей имел случай хорошо рассмотреть его, так как Пфуль вскоре после него приехал и прошел в гостиную, остановившись на минуту поговорить с Чернышевым.
Пфуль с первого взгляда, в своем русском генеральском дурно сшитом мундире, который нескладно, как на наряженном, сидел на нем, показался князю Андрею как будто знакомым, хотя он никогда не видал его. В нем был и Вейротер, и Мак, и Шмидт, и много других немецких теоретиков генералов, которых князю Андрею удалось видеть в 1805 м году; но он был типичнее всех их. Такого немца теоретика, соединявшего в себе все, что было в тех немцах, еще никогда не видал князь Андрей.
Пфуль был невысок ростом, очень худ, но ширококост, грубого, здорового сложения, с широким тазом и костлявыми лопатками. Лицо у него было очень морщинисто, с глубоко вставленными глазами. Волоса его спереди у висков, очевидно, торопливо были приглажены щеткой, сзади наивно торчали кисточками. Он, беспокойно и сердито оглядываясь, вошел в комнату, как будто он всего боялся в большой комнате, куда он вошел. Он, неловким движением придерживая шпагу, обратился к Чернышеву, спрашивая по немецки, где государь. Ему, видно, как можно скорее хотелось пройти комнаты, окончить поклоны и приветствия и сесть за дело перед картой, где он чувствовал себя на месте. Он поспешно кивал головой на слова Чернышева и иронически улыбался, слушая его слова о том, что государь осматривает укрепления, которые он, сам Пфуль, заложил по своей теории. Он что то басисто и круто, как говорят самоуверенные немцы, проворчал про себя: Dummkopf… или: zu Grunde die ganze Geschichte… или: s'wird was gescheites d'raus werden… [глупости… к черту все дело… (нем.) ] Князь Андрей не расслышал и хотел пройти, но Чернышев познакомил князя Андрея с Пфулем, заметив, что князь Андрей приехал из Турции, где так счастливо кончена война. Пфуль чуть взглянул не столько на князя Андрея, сколько через него, и проговорил смеясь: «Da muss ein schoner taktischcr Krieg gewesen sein». [«То то, должно быть, правильно тактическая была война.» (нем.) ] – И, засмеявшись презрительно, прошел в комнату, из которой слышались голоса.
Видно, Пфуль, уже всегда готовый на ироническое раздражение, нынче был особенно возбужден тем, что осмелились без него осматривать его лагерь и судить о нем. Князь Андрей по одному короткому этому свиданию с Пфулем благодаря своим аустерлицким воспоминаниям составил себе ясную характеристику этого человека. Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных людей, которыми только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи – науки, то есть мнимого знания совершенной истины. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо обворожительным как для мужчин, так и для женщин. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и потому, как англичанин, знает всегда, что ему делать нужно, и знает, что все, что он делает как англичанин, несомненно хорошо. Итальянец самоуверен потому, что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет, потому что не верит, чтобы можно было вполне знать что нибудь. Немец самоуверен хуже всех, и тверже всех, и противнее всех, потому что он воображает, что знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая для него есть абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль. У него была наука – теория облического движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей военной истории, казалось ему бессмыслицей, варварством, безобразным столкновением, в котором с обеих сторон было сделано столько ошибок, что войны эти не могли быть названы войнами: они не подходили под теорию и не могли служить предметом науки.
В 1806 м году Пфуль был одним из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего доказательства неправильности своей теории. Напротив, сделанные отступления от его теории, по его понятиям, были единственной причиной всей неудачи, и он с свойственной ему радостной иронией говорил: «Ich sagte ja, daji die ganze Geschichte zum Teufel gehen wird». [Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту (нем.) ] Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории – приложение ее к практике; он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от отступления в практике от теории, доказывал ему только справедливость его теории.
Он сказал несколько слов с князем Андреем и Чернышевым о настоящей войне с выражением человека, который знает вперед, что все будет скверно и что даже не недоволен этим. Торчавшие на затылке непричесанные кисточки волос и торопливо прилизанные височки особенно красноречиво подтверждали это.
Он прошел в другую комнату, и оттуда тотчас же послышались басистые и ворчливые звуки его голоса.
Не успел князь Андрей проводить глазами Пфуля, как в комнату поспешно вошел граф Бенигсен и, кивнув головой Болконскому, не останавливаясь, прошел в кабинет, отдавая какие то приказания своему адъютанту. Государь ехал за ним, и Бенигсен поспешил вперед, чтобы приготовить кое что и успеть встретить государя. Чернышев и князь Андрей вышли на крыльцо. Государь с усталым видом слезал с лошади. Маркиз Паулучи что то говорил государю. Государь, склонив голову налево, с недовольным видом слушал Паулучи, говорившего с особенным жаром. Государь тронулся вперед, видимо, желая окончить разговор, но раскрасневшийся, взволнованный итальянец, забывая приличия, шел за ним, продолжая говорить:
– Quant a celui qui a conseille ce camp, le camp de Drissa, [Что же касается того, кто присоветовал Дрисский лагерь,] – говорил Паулучи, в то время как государь, входя на ступеньки и заметив князя Андрея, вглядывался в незнакомое ему лицо.
– Quant a celui. Sire, – продолжал Паулучи с отчаянностью, как будто не в силах удержаться, – qui a conseille le camp de Drissa, je ne vois pas d'autre alternative que la maison jaune ou le gibet. [Что же касается, государь, до того человека, который присоветовал лагерь при Дрисее, то для него, по моему мнению, есть только два места: желтый дом или виселица.] – Не дослушав и как будто не слыхав слов итальянца, государь, узнав Болконского, милостиво обратился к нему:
– Очень рад тебя видеть, пройди туда, где они собрались, и подожди меня. – Государь прошел в кабинет. За ним прошел князь Петр Михайлович Волконский, барон Штейн, и за ними затворились двери. Князь Андрей, пользуясь разрешением государя, прошел с Паулучи, которого он знал еще в Турции, в гостиную, где собрался совет.
Князь Петр Михайлович Волконский занимал должность как бы начальника штаба государя. Волконский вышел из кабинета и, принеся в гостиную карты и разложив их на столе, передал вопросы, на которые он желал слышать мнение собранных господ. Дело было в том, что в ночь было получено известие (впоследствии оказавшееся ложным) о движении французов в обход Дрисского лагеря.
Первый начал говорить генерал Армфельд, неожиданно, во избежание представившегося затруднения, предложив совершенно новую, ничем (кроме как желанием показать, что он тоже может иметь мнение) не объяснимую позицию в стороне от Петербургской и Московской дорог, на которой, по его мнению, армия должна была, соединившись, ожидать неприятеля. Видно было, что этот план давно был составлен Армфельдом и что он теперь изложил его не столько с целью отвечать на предлагаемые вопросы, на которые план этот не отвечал, сколько с целью воспользоваться случаем высказать его. Это было одно из миллионов предположений, которые так же основательно, как и другие, можно было делать, не имея понятия о том, какой характер примет война. Некоторые оспаривали его мнение, некоторые защищали его. Молодой полковник Толь горячее других оспаривал мнение шведского генерала и во время спора достал из бокового кармана исписанную тетрадь, которую он попросил позволения прочесть. В пространно составленной записке Толь предлагал другой – совершенно противный и плану Армфельда и плану Пфуля – план кампании. Паулучи, возражая Толю, предложил план движения вперед и атаки, которая одна, по его словам, могла вывести нас из неизвестности и западни, как он называл Дрисский лагерь, в которой мы находились. Пфуль во время этих споров и его переводчик Вольцоген (его мост в придворном отношении) молчали. Пфуль только презрительно фыркал и отворачивался, показывая, что он никогда не унизится до возражения против того вздора, который он теперь слышит. Но когда князь Волконский, руководивший прениями, вызвал его на изложение своего мнения, он только сказал:
– Что же меня спрашивать? Генерал Армфельд предложил прекрасную позицию с открытым тылом. Или атаку von diesem italienischen Herrn, sehr schon! [этого итальянского господина, очень хорошо! (нем.) ] Или отступление. Auch gut. [Тоже хорошо (нем.) ] Что ж меня спрашивать? – сказал он. – Ведь вы сами знаете все лучше меня. – Но когда Волконский, нахмурившись, сказал, что он спрашивает его мнение от имени государя, то Пфуль встал и, вдруг одушевившись, начал говорить:
– Все испортили, все спутали, все хотели знать лучше меня, а теперь пришли ко мне: как поправить? Нечего поправлять. Надо исполнять все в точности по основаниям, изложенным мною, – говорил он, стуча костлявыми пальцами по столу. – В чем затруднение? Вздор, Kinder spiel. [детские игрушки (нем.) ] – Он подошел к карте и стал быстро говорить, тыкая сухим пальцем по карте и доказывая, что никакая случайность не может изменить целесообразности Дрисского лагеря, что все предвидено и что ежели неприятель действительно пойдет в обход, то неприятель должен быть неминуемо уничтожен.
Паулучи, не знавший по немецки, стал спрашивать его по французски. Вольцоген подошел на помощь своему принципалу, плохо говорившему по французски, и стал переводить его слова, едва поспевая за Пфулем, который быстро доказывал, что все, все, не только то, что случилось, но все, что только могло случиться, все было предвидено в его плане, и что ежели теперь были затруднения, то вся вина была только в том, что не в точности все исполнено. Он беспрестанно иронически смеялся, доказывал и, наконец, презрительно бросил доказывать, как бросает математик поверять различными способами раз доказанную верность задачи. Вольцоген заменил его, продолжая излагать по французски его мысли и изредка говоря Пфулю: «Nicht wahr, Exellenz?» [Не правда ли, ваше превосходительство? (нем.) ] Пфуль, как в бою разгоряченный человек бьет по своим, сердито кричал на Вольцогена:
– Nun ja, was soll denn da noch expliziert werden? [Ну да, что еще тут толковать? (нем.) ] – Паулучи и Мишо в два голоса нападали на Вольцогена по французски. Армфельд по немецки обращался к Пфулю. Толь по русски объяснял князю Волконскому. Князь Андрей молча слушал и наблюдал.
Из всех этих лиц более всех возбуждал участие в князе Андрее озлобленный, решительный и бестолково самоуверенный Пфуль. Он один из всех здесь присутствовавших лиц, очевидно, ничего не желал для себя, ни к кому не питал вражды, а желал только одного – приведения в действие плана, составленного по теории, выведенной им годами трудов. Он был смешон, был неприятен своей ироничностью, но вместе с тем он внушал невольное уважение своей беспредельной преданностью идее. Кроме того, во всех речах всех говоривших была, за исключением Пфуля, одна общая черта, которой не было на военном совете в 1805 м году, – это был теперь хотя и скрываемый, но панический страх перед гением Наполеона, страх, который высказывался в каждом возражении. Предполагали для Наполеона всё возможным, ждали его со всех сторон и его страшным именем разрушали предположения один другого. Один Пфуль, казалось, и его, Наполеона, считал таким же варваром, как и всех оппонентов своей теории. Но, кроме чувства уважения, Пфуль внушал князю Андрею и чувство жалости. По тому тону, с которым с ним обращались придворные, по тому, что позволил себе сказать Паулучи императору, но главное по некоторой отчаянности выражении самого Пфуля, видно было, что другие знали и он сам чувствовал, что падение его близко. И, несмотря на свою самоуверенность и немецкую ворчливую ироничность, он был жалок с своими приглаженными волосами на височках и торчавшими на затылке кисточками. Он, видимо, хотя и скрывал это под видом раздражения и презрения, он был в отчаянии оттого, что единственный теперь случай проверить на огромном опыте и доказать всему миру верность своей теории ускользал от него.
Прения продолжались долго, и чем дольше они продолжались, тем больше разгорались споры, доходившие до криков и личностей, и тем менее было возможно вывести какое нибудь общее заключение из всего сказанного. Князь Андрей, слушая этот разноязычный говор и эти предположения, планы и опровержения и крики, только удивлялся тому, что они все говорили. Те, давно и часто приходившие ему во время его военной деятельности, мысли, что нет и не может быть никакой военной науки и поэтому не может быть никакого так называемого военного гения, теперь получили для него совершенную очевидность истины. «Какая же могла быть теория и наука в деле, которого условия и обстоятельства неизвестны и не могут быть определены, в котором сила деятелей войны еще менее может быть определена? Никто не мог и не может знать, в каком будет положении наша и неприятельская армия через день, и никто не может знать, какая сила этого или того отряда. Иногда, когда нет труса впереди, который закричит: „Мы отрезаны! – и побежит, а есть веселый, смелый человек впереди, который крикнет: «Ура! – отряд в пять тысяч стоит тридцати тысяч, как под Шепграбеном, а иногда пятьдесят тысяч бегут перед восемью, как под Аустерлицем. Какая же может быть наука в таком деле, в котором, как во всяком практическом деле, ничто не может быть определено и все зависит от бесчисленных условий, значение которых определяется в одну минуту, про которую никто не знает, когда она наступит. Армфельд говорит, что наша армия отрезана, а Паулучи говорит, что мы поставили французскую армию между двух огней; Мишо говорит, что негодность Дрисского лагеря состоит в том, что река позади, а Пфуль говорит, что в этом его сила. Толь предлагает один план, Армфельд предлагает другой; и все хороши, и все дурны, и выгоды всякого положения могут быть очевидны только в тот момент, когда совершится событие. И отчего все говорят: гений военный? Разве гений тот человек, который вовремя успеет велеть подвезти сухари и идти тому направо, тому налево? Оттого только, что военные люди облечены блеском и властью и массы подлецов льстят власти, придавая ей несвойственные качества гения, их называют гениями. Напротив, лучшие генералы, которых я знал, – глупые или рассеянные люди. Лучший Багратион, – сам Наполеон признал это. А сам Бонапарте! Я помню самодовольное и ограниченное его лицо на Аустерлицком поле. Не только гения и каких нибудь качеств особенных не нужно хорошему полководцу, но, напротив, ему нужно отсутствие самых лучших высших, человеческих качеств – любви, поэзии, нежности, философского пытливого сомнения. Он должен быть ограничен, твердо уверен в том, что то, что он делает, очень важно (иначе у него недостанет терпения), и тогда только он будет храбрый полководец. Избави бог, коли он человек, полюбит кого нибудь, пожалеет, подумает о том, что справедливо и что нет. Понятно, что исстари еще для них подделали теорию гениев, потому что они – власть. Заслуга в успехе военного дела зависит не от них, а от того человека, который в рядах закричит: пропали, или закричит: ура! И только в этих рядах можно служить с уверенностью, что ты полезен!“
Так думал князь Андрей, слушая толки, и очнулся только тогда, когда Паулучи позвал его и все уже расходились.
На другой день на смотру государь спросил у князя Андрея, где он желает служить, и князь Андрей навеки потерял себя в придворном мире, не попросив остаться при особе государя, а попросив позволения служить в армии.
Ростов перед открытием кампании получил письмо от родителей, в котором, кратко извещая его о болезни Наташи и о разрыве с князем Андреем (разрыв этот объясняли ему отказом Наташи), они опять просили его выйти в отставку и приехать домой. Николай, получив это письмо, и не попытался проситься в отпуск или отставку, а написал родителям, что очень жалеет о болезни и разрыве Наташи с ее женихом и что он сделает все возможное для того, чтобы исполнить их желание. Соне он писал отдельно.
«Обожаемый друг души моей, – писал он. – Ничто, кроме чести, не могло бы удержать меня от возвращения в деревню. Но теперь, перед открытием кампании, я бы счел себя бесчестным не только перед всеми товарищами, но и перед самим собою, ежели бы я предпочел свое счастие своему долгу и любви к отечеству. Но это последняя разлука. Верь, что тотчас после войны, ежели я буду жив и все любим тобою, я брошу все и прилечу к тебе, чтобы прижать тебя уже навсегда к моей пламенной груди».
Действительно, только открытие кампании задержало Ростова и помешало ему приехать – как он обещал – и жениться на Соне. Отрадненская осень с охотой и зима со святками и с любовью Сони открыли ему перспективу тихих дворянских радостей и спокойствия, которых он не знал прежде и которые теперь манили его к себе. «Славная жена, дети, добрая стая гончих, лихие десять – двенадцать свор борзых, хозяйство, соседи, служба по выборам! – думал он. Но теперь была кампания, и надо было оставаться в полку. А так как это надо было, то Николай Ростов, по своему характеру, был доволен и той жизнью, которую он вел в полку, и сумел сделать себе эту жизнь приятною.
Приехав из отпуска, радостно встреченный товарищами, Николай был посылал за ремонтом и из Малороссии привел отличных лошадей, которые радовали его и заслужили ему похвалы от начальства. В отсутствие его он был произведен в ротмистры, и когда полк был поставлен на военное положение с увеличенным комплектом, он опять получил свой прежний эскадрон.
Началась кампания, полк был двинут в Польшу, выдавалось двойное жалованье, прибыли новые офицеры, новые люди, лошади; и, главное, распространилось то возбужденно веселое настроение, которое сопутствует началу войны; и Ростов, сознавая свое выгодное положение в полку, весь предался удовольствиям и интересам военной службы, хотя и знал, что рано или поздно придется их покинуть.
Войска отступали от Вильны по разным сложным государственным, политическим и тактическим причинам. Каждый шаг отступления сопровождался сложной игрой интересов, умозаключений и страстей в главном штабе. Для гусар же Павлоградского полка весь этот отступательный поход, в лучшую пору лета, с достаточным продовольствием, был самым простым и веселым делом. Унывать, беспокоиться и интриговать могли в главной квартире, а в глубокой армии и не спрашивали себя, куда, зачем идут. Если жалели, что отступают, то только потому, что надо было выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны. Ежели и приходило кому нибудь в голову, что дела плохи, то, как следует хорошему военному человеку, тот, кому это приходило в голову, старался быть весел и не думать об общем ходе дел, а думать о своем ближайшем деле. Сначала весело стояли подле Вильны, заводя знакомства с польскими помещиками и ожидая и отбывая смотры государя и других высших командиров. Потом пришел приказ отступить к Свенцянам и истреблять провиант, который нельзя было увезти. Свенцяны памятны были гусарам только потому, что это был пьяный лагерь, как прозвала вся армия стоянку у Свенцян, и потому, что в Свенцянах много было жалоб на войска за то, что они, воспользовавшись приказанием отбирать провиант, в числе провианта забирали и лошадей, и экипажи, и ковры у польских панов. Ростов помнил Свенцяны потому, что он в первый день вступления в это местечко сменил вахмистра и не мог справиться с перепившимися всеми людьми эскадрона, которые без его ведома увезли пять бочек старого пива. От Свенцян отступали дальше и дальше до Дриссы, и опять отступили от Дриссы, уже приближаясь к русским границам.