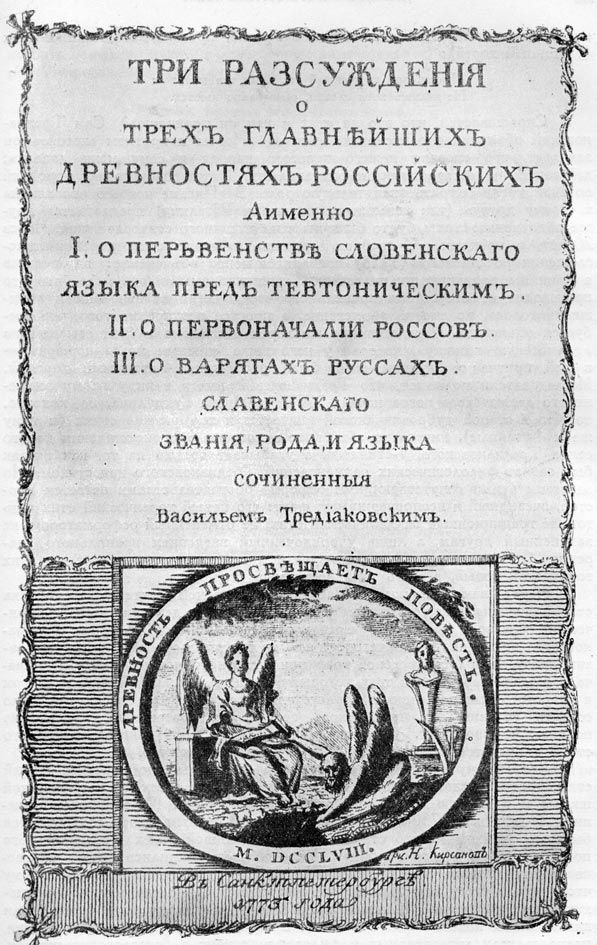Тредиаковский, Василий Кириллович
| Василий Кириллович Тредиаковский | |
 Портрет В. К. Тредиаковского[Прим 1] | |
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Дата смерти: |
6 (17) августа 1769 (66 лет) |
| Место смерти: | |
| Род деятельности: | |
| Годы творчества: |
1730—1768 |
| Направление: | |
| Язык произведений: |
русский, французский |
Васи́лий Кири́ллович Тредиако́вский (также Тредьяковский; 22 февраля (5 марта) 1703 — 6 (17) августа 1769) — русский поэт, переводчик и филолог XVIII века, один из основателей силлабо-тонического стихосложения в России. Впервые ввёл гекзаметр в арсенал русских стихотворных размеров. Впервые в русском языке и литературе теоретически разделил поэзию и прозу и ввёл эти понятия в русскую культуру и общественное сознание[3]. Его интересы в области метрики стиха также сопрягались с композиторской деятельностью, главным образом, это была кантовая музыка. По чинам — надворный советник (1765).
Родом из семьи астраханского священника, образование получил в католической латинской школе при миссии ордена капуцинов. В 1723—1725 годах обучался в Москве, в Славяно-греко-латинской академии, обратив на себя внимание дипломатических кругов. Благодаря протекции И. Г. Головкина и А. Б. Куракина получил возможность выехать в Нидерланды, а затем во Францию, где прожил два года, получив философское образование в Сорбонне. После возвращения в Россию в 1730 году снискал известность как поэт и переводчик, претендовал на статус придворного поэта и панегириста Анны Иоанновны. С 1733 года — секретарь Императорской академии наук. В 1734—1735 годах предпринял реформу русского стихосложения, однако занятая им интеллектуальная позиция и близость к прокатолически настроенной части российского дворянства привела к краху его карьеры. В 1745 году Тредиаковский получил звание профессора Академии наук — одновременно с М. В. Ломоносовым, но в 1759 году был из неё уволен. В 1740—1750-е годы Тредиаковский вступил в полемику с М. В. Ломоносовым и А. П. Сумароковым, которая также не способствовала росту его репутации. В 1752 году опубликовал двухтомное издание «Сочинений и переводов как стихами, так и прозою», которое надолго определило место Тредиаковского в истории русской культуры[4]. Все эти годы он занимался преимущественно переводами французской художественной и исторической литературы, в том числе объёмных «Древней истории» (10 томов) и «Римской истории» (15 томов) Шарля Роллена. Важнейшим собственным достижением Тредиаковский считал эпическую поэму «Телемахида» (1766) — перевод гекзаметром прозаического оригинала Франсуа Фенелона, которая была не понята и не признана современниками, но уже в первой трети XIX века стала востребована переводчиками-гекзаметристами (Н. И. Гнедичем и В. А. Жуковским); наследие Тредиаковского высоко оценивал А. С. Пушкин. Переводы «Древней» и «Римской истории» Роллена, выполненные Тредиаковским, ещё в 1855 году оценивались Н. Г. Чернышевским как «лучшие по своему предмету» и «ничем не заменимые для русского читателя»[5].
После кончины Тредиаковский надолго получил репутацию плохого поэта, постепенная реабилитация его наследия шла на протяжении всего XIX и ХХ веков. Его переводы и оригинальные произведения переиздавались в 1773—1778, 1849, 1935, 1963 и 2007—2009 годах. К началу XXI века наследие Тредиаковского, в том числе и «Телемахида», получило высокий литературный статус. По словам Н. Ю. Алексеевой, значение его для русской культуры заключается не в участии в формировании будущей литературы и самосознания, а в открытии для России классической древности, поскольку он сумел воспринять не только верхний слой современного ему европейского классицизма, но и — через ренессансный гуманизм — традицию Античности в её глубине[6].
Содержание
- 1 Становление. Астрахань — Москва (1703—1725)
- 2 Европа (1726—1730)
- 3 Россия. При дворе Анны Иоанновны (1730—1740)
- 4 Тредиаковский и Академия наук (1740—1759)
- 5 Последние годы жизни. «Телемахида» (1759—1769)
- 6 Тредиаковский — музыкант и композитор
- 7 Оценки творчества
- 8 Комментарии
- 9 Примечания
- 10 Литература
- 11 Ссылки
Становление. Астрахань — Москва (1703—1725)
Астрахань. Обучение у капуцинов
 Василий Тредиаковский родился в Астрахани 22 февраля 1703 года в семье священника соборной Троицкой церкви Кириллы Яковлева; священником был и его дед. Семья происходила из Вологды и переехала на юг около 1697 года[7]. Детство будущего писателя прошло в сложной обстановке: семья была большой, доходов от прихода и требоисправления не хватало, и Кирилла Яковлев занимался садоводством и огородничеством. В 1717 году из-за долга в 48 рублей глава семьи был вынужден отдать свои сад и огород «государева рыбного приказа ловцу Осипу Яковлеву Плохому»[8]. Братья с малолетства помогали отцу и по хозяйству, и в церковной службе: младший — Яков — прислуживал, а Василий состоял певчим архиерейского дома. В общем, его ранняя биография известна только по чрезвычайно отрывочным свидетельствам и полна противоречий[9].
Василий Тредиаковский родился в Астрахани 22 февраля 1703 года в семье священника соборной Троицкой церкви Кириллы Яковлева; священником был и его дед. Семья происходила из Вологды и переехала на юг около 1697 года[7]. Детство будущего писателя прошло в сложной обстановке: семья была большой, доходов от прихода и требоисправления не хватало, и Кирилла Яковлев занимался садоводством и огородничеством. В 1717 году из-за долга в 48 рублей глава семьи был вынужден отдать свои сад и огород «государева рыбного приказа ловцу Осипу Яковлеву Плохому»[8]. Братья с малолетства помогали отцу и по хозяйству, и в церковной службе: младший — Яков — прислуживал, а Василий состоял певчим архиерейского дома. В общем, его ранняя биография известна только по чрезвычайно отрывочным свидетельствам и полна противоречий[9].
В 1710 году монах ордена капуцинов Патриций Миланский (Patritius de Milano, 1662—1753) основал в Астрахани миссию, которая с 1713 года располагала собственной церковью и латинской школой[Прим 2], причём русских школ в городе не было до 1772 года[11]. Сам Тредиаковский утверждал (в «ведомости» 1754 года[Прим 3]), что учился у Бонавентуры Челестини и Джованбаттисты Примавера[Прим 4], которые прибыли в Астрахань в 1716 году, поэтому дата начала его обучения является дискуссионной — между 1712 и 1716 годами. Важнейшим свидетельством этих лет является церковнославянская грамматика, переписанная Тредиаковским в 1721 году и снабжённая оригинальным предисловием, которое подписано «ученик латинских школ Basilius Trediacovensis»[Прим 5]. Здесь же помещено силлабическое четверостишие, которое является самым ранним сохранившимся свидетельством его творческой активности[9].
Отъезд в Москву. Славяно-греко-латинская академия
13 февраля 1722 года датирована челобитная на имя астраханского вице-губернатора И. В. Кикина о выдаче Тредиаковскому паспорта для проезда в Киев, сохранилась и справка, удостоверяющая выдачу паспорта, позволявшего его владельцу отправляться в Киево-Могилянскую академию для обучения латинскому языку[14]. Однако по неизвестной причине Василий никуда не поехал и, по-видимому, продолжил обучение у капуцинов. Апокрифическое предание, приписанное самому Тредиаковскому, утверждает, что летом 1722 года миссию капуцинов посетил Пётр I и назвал Василия «вечным тружеником»[15]. В «ведомости», поданной в Конференцию Академии наук, он заявил, что «по охоте <…> к учению, оставил природный город, дом, и родителей, и убежал в Москву»[9]. В этой истории много неясного: к тому времени Василий Тредиаковский был женат на дочери сторожа губернской канцелярии Федосье Фадеевой[Прим 6]. Л. Н. Майков высказал предположение, что на решение Тредиаковского могли оказать влияние учитель петербургской арифметической школы Иван Трофимов, побывавший в Астрахани в 1722 году, или секретарь Антиоха Кантемира Иван Ильинский[17], который был в городе во время Персидского похода. Совершенно неизвестно ни точное время отъезда Василия, ни его маршрут[14]; вероятно, он мог выехать с обозом А. Кантемира, возвращавшегося тогда в Москву. Совершенно неясно, как соотносятся факт получения им паспорта и позднейшие утверждения о «бегстве» из Астрахани[18].
В весенний триместр 1723 года Тредиаковский был принят в Славяно-греко-латинскую академию в класс синтаксимы; в осенний триместр 1724 года по ведомости академии числился уже в риторическом классе. Главным его учителем, очевидно, был иеромонах Софроний (Мигалевич), который в дальнейшем стал ректором[19]. В академии Василий активно занимался литературой, имеются сведения, что он написал пьесы «Язон» и «Тит, Веспасианов сын», но они не сохранились. О репутации Тредиаковского-студента свидетельствует его участие в торжественной панихиде по Петру Великому (вместе с ректором академии и наставниками), на которой он прочитал несколько стихотворений на латинском языке, написанных по этому случаю. Судя по сохранившимся автографам, в 1724—1725 годах он занимался переводом с латинского языка аллегорического романа «Аргенида», который спустя четверть века перевёл заново; в «Предуведомлении» к изданию 1751 года он поместил некоторые воспоминания о своих давних московских штудиях[20]. Согласно ведомостям академии, Тредиаковский был «своекоштным студентом», то есть обучался за собственный счёт; материально ему помогали, по-видимому, капуцины. Основатель Астраханской миссии Патриций Миланский с 1722 по 1725 год работал в Москве. Роман «Аргенида» является по своему идеологическому наполнению прокатолическим и полемизирующим с кальвинизмом, на этот аспект перевода Тредиаковский обращал внимание читателей в предисловии к опубликованному изданию. По мнению Б. А. Успенского, миссионеры-капуцины могли заказать перевод Тредиаковскому[20][Прим 7].
Окончив занятия риторикой — то есть завершив среднее образование[22], в 1725 году Тредиаковский бросил академию, что было удостоверено справкой, выписанной по запросу Святейшего Синода три года спустя[19]. Судя по его письму в Синод от 1 (12) декабря 1727 года, в начале 1726-го он «получил оказию выехать в Голландию»; в академической «Ведомости» спустя четверть века он писал практически в тех же выражениях. Причиной было «…превеликое <…> желание… окончить [образование] в Европских краях, а особливо в Париже: для того, как всему свету известно, что в оном наиславнейшия находятся»[19]. По-видимому, возможность выехать за рубеж была ему предоставлена ещё в академии, о чём свидетельствует содержание «Песенки, которую я сочинил ещё будучи в Московских школах на мои выезд в чужия краи»[19].
Европа (1726—1730)
Гаага, Париж, Гамбург
Пребывание Тредиаковского в Европе плохо документировано и содержит массу неясных эпизодов; тем не менее, имеющиеся источники позволяют выстроить хронологию его передвижений. Согласно письму в Синод, до осени 1727 года Василий Тредиаковский «при полномочном министре, Его Сиятел[ьстве] Графе Иване Гавриловиче Головкине обретался»; было это в Гааге, в этом же городе он овладел французским языком[23].
В ноябре 1727 года Тредиаковский прибыл в Париж, где первое время жил у князя А. Б. Куракина — главы русской дипломатической миссии во Франции. По позднейшим его письмам, относящимся уже к 1743—1744 годам, Тредиаковский прибыл в Париж «с крайним претерпением бедности, и куда дошел <…> пеш из самаго Антверпена»[23]. В столице Франции он прожил, по-видимому, до осени 1729 года[24]. Согласно автобиографической «ведомости» 1754 года, Тредиаковский слушал курсы по математическим и философским наукам в Парижском университете и курс богословия в Сорбонне, но в документах 1730-х годов упоминались только богословие и свободные искусства. По его собственному утверждению, он имел университетский аттестат за подписью «Ректора Магнифика Парижского университета, для того, что он там содержал публичные диспуты в Мазаринской коллегии», но он был утрачен при пожаре в 1746 году[25]. Е. П. Гречаная отмечала, что Коллеж Мазарини был создан специально для иностранных студентов, а курс философских наук на факультете искусств служил основой для специализированного образования и длился два года. Философия изучалась исключительно по Аристотелю, хотя ощущалось влияние картезианства и янсенизма[26]. Списки студентов в Парижском университете в те времена не велись, при этом ничто не указывает на то, что Тредиаковский мог держать испытания на степень бакалавра. Тредиаковский неоднократно жаловался на стеснённые материальные условия: экзамены были платными, а его покровитель А. Б. Куракин после смерти отца — Б. И. Куракина — также был ограничен в средствах. В письме в Сенат от 1 (12) декабря 1727 года Тредиаковский просил определить ему казённое жалованье для завершения образования за границей. Это прошение осталось без ответа[23]. Лекции по философии в Сорбонне он мог посещать как вольнослушатель, поскольку в XVIII веке лекционные курсы были открыты для публики[27]. Тредиаковский позднее своим главным учителем называл Шарля Роллена, но после 1720 года тот не преподавал в университете, а читал лекции по латинскому красноречию в Коллеж де Франс; в Коллеже Мазарини элоквенцию преподавал его главный конкурент — Бальтазар Жибер[28]. Академический год в Коллеж де Франс начинался как раз в ноябре. Следовательно, получив систематическое образование в объёме полного двухгодичного цикла факультета искусств и посещая как вольнослушатель лекции в других учебных заведениях, Тредиаковский, скорее всего, так и не сдал экзаменов, хотя и был допущен к диспутам[29].
По словам Н. Ю. Алексеевой:
|
С этим утверждением солидарна и Е. П. Гречаная, заметившая, что Тредиаковский в силу своего социального и имущественного положения был лишён возможности бывать в парижских салонах и знакомился как с классической, так и с галантной культурой по многочисленным светским романам и трактатам эпохи, посвящённым правилам хорошего тона[31].
С ноября 1729 года Тредиаковский перебрался в Гамбург, в котором прожил до августа 1730 года. О времени его жизни в Германии свидетельствует счёт комиссионера князя Куракина. Возможно, это было связано с планируемым переводом А. Б. Куракина в дипломатическую миссию в Пруссии. Вероятно, Тредиаковский должен был сопровождать имущество князя, загодя отправленное в портовый город. Однако его назначение в Берлин не состоялось; Тредиаковский писал в 1730 году в Петербург, что был вынужден заботиться об отправке в Россию, в частности, охотничьей собаки дипломата[32]. В Гамбурге Тредиаковский написал «Стихи эпиталамическия» в честь свадьбы А. Б. Куракина и А. И. Паниной, состоявшейся 26 апреля в Москве, участвовал он и в коронационных торжествах по случаю восшествия на престол Анны Иоанновны[33]. Времени хватало на учёные занятия и общение с гамбургскими интеллектуалами, существует версия, что Василий Кириллович учился у композитора Георга Телемана и поэта Бартольда Брокеса[33]. В Россию Тредиаковский вернулся в сентябре 1730 года морским путём, о чём прямо говорится в его трактате «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» (1755)[18].
Тредиаковский и янсенисты
Время и обстоятельства прибытия Тредиаковского из Петербурга в Гаагу доподлинно неизвестны. По справке ректора Славяно-греко-латинской академии, он бежал, не закончив курса обучения. По-видимому, он не получил официальным путём и заграничного паспорта, но в этом случае неясно, каким образом московский студент, не имевший дворянского звания, оказался в окружении дипломатических персон высокого ранга — и Головкин (сын канцлера), и Куракин входили в ближайшее окружение Петра I[18]. По мнению Б. А. Успенского, это объясняется тем, что Тредиаковский находился за рубежом не только с целью обучения, но и в силу ряда специфических обстоятельств своей биографии[24]. Речь идёт о связи с янсенистами и интенсивными переговорами о воссоединении с православной церковью, начало которым положил ещё в 1717 году Пётр I во время своего визита в Сорбонну. Существует предположение, что переговоры императора с янсенистами (пик конфликта которых с Ватиканом пришёлся на 1717 год) способствовали изменению его церковной политики и созданию «Духовного регламента»[34]. В 1720-х годах в условиях отделения Утрехтской митрополии от католической церкви переговоры были продолжены; впрочем, и Ватикан в 1725 году со своей стороны начал изучать возможности воссоединения Западной и Восточной церквей[35]. В 1728 году аббат Бурсье[fr] общался на эти темы с А. Б. Куракиным в Париже, причём формальным поводом было обещание российского правительства предоставить Сорбонне перевод Библии и творений святых отцов на церковнославянском языке. Непосредственную передачу книг, состоявшуюся 30 августа 1728 года, осуществлял В. Тредиаковский, что следует из благодарственного письма Бурсье[36].
Из переписки И. Г. Головкина и А. Б. Куракина следует, что Тредиаковский был известен обоим и был избран как агент для связи с католиками в Европе ещё в период обучения в капуцинской миссии. Главным его покровителем был именно Головкин, из одного письма 1729 года следует, что Тредиаковский получал от князя стипендию, стол и обмундирование, которые выдавались и в Гамбурге[37]. В составе миссии Головкина был преподаватель Славяно-греко-латинской академии Иероним (Колпецкий), с которым Тредиаковский был также хорошо знаком; вероятно, Василия отправили в Европу как его служителя[38]. По-видимому, в Москве Тредиаковский поддерживал отношения со своим первым астраханским наставником — Патрицием Миланским, который в 1722—1725 годах был главой всех католических миссий, работавших в России. Косвенным свидетельством роли католических миссионеров в судьбе студента является сообщение Герхарда Миллера, который ошибочно полагал, что Тредиаковский уехал в Голландию непосредственно из Астрахани благодаря капуцинам[39].
Тредиаковский и русская дипломатия
Среди европейских знакомых Тредиаковского выделялся дипломат Алексей Вешняков, который входил в круг князя Сергея Долгорукого, в свою очередь, причастного к прибытию в Россию миссии аббата Жюбе[fr]. Вешняков привлекался католическими кругами Франции к переводу на русский язык трудов Фенелона и Боссюэ, а также познакомил французскую публику с сатирами Кантемира во французском переводе. Характерно, что в переписке, которая продолжалась и после прибытия Василия Кирилловича в Петербург, он обращался к Вешнякову на равных, невзирая на немалый дипломатический ранг Алексея Андреевича[40].
Во время пребывания в Европе Тредиаковский оказался прочно связан с кругом русских дипломатов — А. Д. Кантемиром, А. А. Вешняковым, А. Б. Куракиным, А. Г. Головкиным, С. Д. Голицыным, С. К. Нарышкиным, А. И. Неплюевым, И. А. Щербатовым, которые тесно общались между собой и были объединены общими культурными интересами. Тредиаковский воспринял литературные и эстетические установки этого круга и стал в некотором роде его частью, во всяком случае, его переводы и оригинальные сочинения читали и следили за ними[41]. Василия Кирилловича именовали в этом кругу «Философом» («le Philosophe»), имея в виду образованность и интересы. Судя по переписке А. Куракина и А. Вешнякова, в Гааге и Париже раскрылись характерные для него черты личности и характера — склонность к полемике и любовь к вольномыслию. Однако его значимость не следует преувеличивать: сын священника не был равным в среде аристократов, о чём свидетельствуют следующие строки из письма И. Калушкина[Прим 8] А. Куракину от 14 (25) июля 1729 года:
«Что касается Философа, то он все тот же, каким Ваша Светлость его оставила, иными словами, он готов кричать и спорить 24 часа напролет. Этот бедняга, заранее ложно настроенный в пользу вольностей этой страны, ужасно раздулся <…>, обнаглел и стал неблагодарным»[43].
Россия. При дворе Анны Иоанновны (1730—1740)
«Езда в остров Любви»
 Тредиаковский прибыл в Петербург в августе и уже в конце 1730 года был причислен студентом к Академии наук, то есть формально он стал учащимся Академического университета. Перед ним открывались блестящие перспективы, в частности, высокое покровительство и знакомства при дворе[18]. При этом следует учитывать, что связь Тредиаковского с миссией Жюбе, инспирированной Долгорукими, могла сильно ему повредить после восшествия на престол Анны Иоанновны, но сработали связи, наработанные за четыре года заграничной поездки[18]. Видимо, Тредиаковский позиционировал себя на родине прежде всего как литератора, ибо привёз из Гамбурга рукопись переведённого им там «со скуки» романа П. Тальмана «Le voyage a l’ilе d’Amour» (1663)[30]. В письме Куракина от октября 1730 года упоминается, что перевод печатался в Академии наук; по-видимому, на средства самого князя. На титульном листе Тредиаковский именуется «студентом»[45]. По словам Л. Пумпянского: «С этого времени биография Тредиаковского настолько сливается с его научной и писательской работой, что рассказывать её отдельно, вне связи с анализом его замыслов и трудов, значило бы лишить эту биографию её действительного смысла»[46].
Тредиаковский прибыл в Петербург в августе и уже в конце 1730 года был причислен студентом к Академии наук, то есть формально он стал учащимся Академического университета. Перед ним открывались блестящие перспективы, в частности, высокое покровительство и знакомства при дворе[18]. При этом следует учитывать, что связь Тредиаковского с миссией Жюбе, инспирированной Долгорукими, могла сильно ему повредить после восшествия на престол Анны Иоанновны, но сработали связи, наработанные за четыре года заграничной поездки[18]. Видимо, Тредиаковский позиционировал себя на родине прежде всего как литератора, ибо привёз из Гамбурга рукопись переведённого им там «со скуки» романа П. Тальмана «Le voyage a l’ilе d’Amour» (1663)[30]. В письме Куракина от октября 1730 года упоминается, что перевод печатался в Академии наук; по-видимому, на средства самого князя. На титульном листе Тредиаковский именуется «студентом»[45]. По словам Л. Пумпянского: «С этого времени биография Тредиаковского настолько сливается с его научной и писательской работой, что рассказывать её отдельно, вне связи с анализом его замыслов и трудов, значило бы лишить эту биографию её действительного смысла»[46].
Роман Тальмана в переводе Тредиаковского («Езда в остров Любви») вышел в декабре 1730 года и сразу стал литературным событием. Согласно О. Лебедевой, Тредиаковский продемонстрировал точное понимание запросов современной ему читательской аудитории, которая испытывала острый интерес к эмоциональной культуре. Роман «Езда в остров Любви» был своего рода энциклопедией любовных ситуаций и оттенков любовной страсти, поданных в аллегорической форме, и стал своеобразным кодексом эмоционального и любовного поведения русского человека новой культуры. Л. В. Пумпянский так резюмировал результаты его работы:
После старой допетровской повести, после «Бовы» и «Еруслана», переход к реалистическому роману был едва ли возможен. Тредиаковский преследовал, по-видимому, определённую цель; он исходил из учета уместности и нужности; старомосковской повести он хотел противопоставить европейско-культурную форму галантного романа, а любовной лирике петровских времен — утончённо-образованную французскую эротическую поэзию. Для этой цели «Езда в остров Любви» была выбрана удачно. Это была аллегорическая энциклопедия любви, в которой предусмотрены были все случаи любовных отношений. Тирсис приплыл на остров Любви, полюбил там красавицу Аминту; разум советует ему покинуть остров, но он остаётся, посещает город Ухаживаний («Малых прислуг», как Тредиаковский переводит Petits soins), ночует в Надежде, городе, стоящем на реке Притязание («Претенция» у Тредиаковского). У озера Отчаяние стоит дева Жалость; она выводит Аминту из пещеры Жестокости. Вся дальнейшая история любви Тирсиса рассказана в том же духе; всякое чувство и всякое событие, которое может быть связано с влюблённостью (измена, воспоминание, холодность, равнодушие, почтительность и т. д.), превращены в аллегорические существа (то есть пишутся с прописной буквы и произносят изящные речи). В конце романа Тирсис покидает остров Любви, где он знал сердечные муки, и следует за Славой[47].
В 1730-е годы это была единственная печатная книга такого рода и одновременно — единственный светский роман русской литературы того времени. По выражению Ю. М. Лотмана, «Езда в остров Любви» стала «Единственным Романом»[48]. По сути, Тредиаковский своим переводом заложил и первооснову будущей модели романного повествования, объединяющий жанрообразующие признаки эпоса странствий и эпоса духовной эволюции, но при этом эпистолярный роман Тальмана сосредоточен на внутренней духовной жизни персонажей. Согласно О. Лебедевой, перевод Тредиаковского предложил русской литературе своеобразную исходную жанровую модель романа «воспитания чувств»[49].
«Езда в остров Любви»
Радуйся, сердце! Аминта смягчилась,
Так что предо мной самым прослезилась.
Не воспоминай о твоем несчасти.
И без напасти
Начни твою жизнь отныне любити:
Ибо Аминта подкрепою быти
Той восхотела от сердца усердна
И благосердна.
Когда хотело ты сойти до гроба,
К обывателям подземного глоба,
Та белой ручкой тебя подхватила
И не пустила.
Что она спасла, то отдать ей надо,
Мое сердце, ах! душа моя рада:
Ибо надлежит сие ей по праву
И по уставу.
Тредиаковский выпустил в виде приложения к роману отдельный поэтический сборник, озаглавленный «Стихи на разные случаи». Новаторство автора проявилось и здесь: по сути, он оказался первым авторским лирическим сборником с чёткой тенденцией циклической организации текстов. Стихи, написанные Тредиаковским в 1725—1730-х годах, были им подобраны так, что жанрово-стилевые и тематические особенности образовывали систему внутренних перекличек, аналогий и противоположностей. Признаки, по которым между собой соотносились стихотворения, явились циклообразующим началом, то есть лирическим сюжетом сборника в целом[50]. Здесь примечателен набор текстов — в сборнике 13 стихотворений на русском языке, 18 — на французском и 1 латинская эпиграмма[51]. В современных переизданиях публикуются переводы, выполненные М. Кузминым. Это показывает адресата поэзии Тредиаковского — образованного носителя и русского, и французского языков[52]. Это также показывает, насколько быстро и в совершенстве он смог освоить язык и слагать на нём стихотворения, не уступающие по качеству публиковавшимся во Франции в эпоху Регентства[53].
Любовная поэзия Тредиаковского явно испытывала влияние французской анакреонтической поэзии, традиция которой была прочно им усвоена в Европе. По замечанию Н. П. Большухиной, в начале XVIII века любовная (и шире — светская) песня находилась за пределами представлений о стихотворстве, поэзии. Именно Тредиаковский осознал её как определённый жанр и включил в систему лирических жанров русской литературы[54]. Сильное влияние французской песенной лирики заметно в раннем стихотворении «Песенка любовна» (1730). Стихотворение написано в куплетной форме, а две завершающие строки каждого куплета образуют рефрен. Присутствует характерное для французской поэзии наличие мужской рифмы рядом с женской. Любовь в стихотворении рассматривается как порыв, неосознаваемая и не поддающаяся рефлексии. Лирический герой «гибнет от любви», не в силах разобраться, что с ним происходит[55].
Несколько иначе обстояло дело с прозаическим текстом. Тредиаковский, как и многие его современники, вернулся из Европы с особым самосознанием, которое Л. Пумпянский характеризовал как «взрывной» переход восторга перед Западом в восторг перед Россией как западной страной[56]. В плане языка это означало отказ от книжной церковнославянской традиции и организации родного языка по европейским меркам. Соответственно, в предисловии к «Езде…» Тредиаковский акцентировал следующие моменты:
…Неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собой говорим. Сие я учинил следующих ради причин. Первая: язык славенской у нас есть язык церковной, а сия книга мирская. Другая: язык славенской в нынешнем веке у нас очюнь тёмен, и многие его наши, читая, неразумеют. <…> …Язык славенской ныне жесток моим ушам слышится, хоте прежде сего не только я им писывал, но и разговаривал со всеми: но зато у всех я прошу прощения, при которых я с глупословием моим славенским особым речеточцем хотел себя показывать[57].
Сразу же после публикации «Езды в остров Любви» в декабре 1730 года, Тредиаковский отправился в Москву — тогдашнее местопребывание двора. Прибыв туда 3 января 1731 года, он остановился в доме князя Куракина[45]. В январе — феврале 1731 года началась переписка Тредиаковского и фактического главы Академии наук — И. Шумахера, которая велась на французском языке. Он же нашёл для «русского европейца» своеобразную нишу — уже к 1732 году в переписке он именуется «ассоциатом», то есть адъюнктом Академии. Сохранилась записка Тредиаковского от 10 сентября 1733 года, в которой он безапелляционным тоном излагает условия будущего контракта с Академией наук. Все условия были выполнены, 14 октября 1733 года контракт был подписан. Оригинал контракта был на французском языке, сохранился автограф Тредиаковского с переводом на русский язык. Контракт включал пять пунктов:
- «Помянутый Тредиаковский обязуется чинить, по всей своей возможности, всё то, в чём состоит интерес Её Императорского Величества и честь Академии»;
- «Вычищать язык русский, пишучи как стихами, так и не стихами»;
- «Давать лекции, ежели от него потребовано будет»;
- «Окончить „Грамматику“, которую он начал, и трудиться совокупно с другими над „Дикционарием русским“»;
- «Переводить с французского на русский язык всё, что ему дастся»[58].
За работу В. К. Тредиаковскому определили жалованье в 360 рублей в год. Контракт вступал в силу с 1 сентября 1733 года[58]. Тредиаковскому был дан титул секретаря Академии, причём инициатива такого титулования принадлежала ему самому. По-видимому, он уподоблял свою роль в Петербургской Академии положению Фонтенеля в Парижской[59].
Придворная карьера
Ещё в самом первом письме Шумахеру, отправленном сразу по прибытии в Москву в 1731 году, Тредиаковский выражал желание преподнести роман «Езда в остров Любви» императрице и быть представленным ей[61]. В письме к Шумахеру от 4 марта того же года сообщалось, что Тредиаковский был принят в доме Екатерины Иоанновны, герцогини Мекленбургской, — сестры государыни. Тем не менее, представление готовилось медленно, и аудиенцию Тредиаковский получил только в январе 1732 года, когда он произнёс «Речь поздравительную Ея Императорскому Величеству по благополучном Ея прибытии в Санктпетербург» — в честь переезда двора в северную столицу. После этого Анна Иоанновна пожелала услышать ещё один панегирик и похвальные стихи, которые и были прочитаны ей в день именин 3 февраля 1732 года. Написал Тредиаковский и стихи в честь прибытия в Петербург Екатерины Иоанновны и лично их преподнёс[62]. По распоряжению императрицы все эти тексты были опубликованы отдельной книгой в 1732 году. Тогда же Василий Кириллович вернулся к драматургическому жанру и сочинил несколько духовных концертов, посвящённых императрице и её сестре; после постановки одного из них он получил вознаграждение в 100 рублей — существенная сумма по тем временам[63]. По случаю нового, 1733 года, он вновь был принят при дворе и исполнил прославляющую императрицу «песнь» («Песнь, сочиненная на голос, и петая пред Ея Императорским Величеством Анною Иоанновною, самодержицею всероссийскою»). Таким образом, Тредиаковский явно претендовал на роль главного придворного поэта, неслучайно в 1731—1732 годах он жил в Москве и Петербурге, следуя за императорским двором[64].
Далее Тредиаковский был назначен учителем русского языка для принца Антона Ульриха, жениха Анны Леопольдовны, а затем и президента Академии наук Кейзерлинга. Именно при Кейзерлинге он стал секретарём Академии на собственных условиях. И в дальнейшем придворные связи сопутствовали жизни Тредиаковского. В частности, в Москве он жил в домах А. Б. Куракина и С. К. Нарышкина, последний был близко знаком с А. Кантемиром и интересовался католицизмом. Это способствовало знакомству Тредиаковского — уже в елизаветинское правление — с вице-канцлером М. И. Воронцовым, которому посвящено «Слово о витийстве» 1745 года, он же впоследствии устроил лотерею для финансирования печатания трактата об орфографии[65]. Таким образом, оказывается, что, скрывая свою роль в связях прокатолически настроенных кругов русской аристократии с Европой, Тредиаковский активно пользовался наработанными знакомствами для построения карьеры[66].
Находясь при дворе Анны Иоанновны, Тредиаковский декларировал свою приверженность самодержавному строю, выступая против аристократической олигархии, однако сложно судить, насколько искренним он был в своих заявлениях. В «Приветственной оде…» 1733 года история о попытке ограничить самодержавие дана только в аллегорической форме[67]. Своё кредо он в наиболее явном виде выразил в следующем примечании к переведённой им книге Марсильи «Военное состояние Оттоманския империи» (1737)[Прим 10]:
Обыкновенно считается три рода Правлений: Первый называется Монархия, то есть, единоначалие. Сие Правление есть там, где одна токмо Особа самодержавно владеет всеми и всем. Понеже следствия сего Правления всегда благополучны; то несомненно можно заключить, что сие токмо Правление премудрейший Творец положил над людьми своими, да и все в нём околичности свидетельствуют, что оное токмо согласно с самым естеством: того ради сей род Правления есть лучший и полезнейший всех прочих. Вторый называется: Аристократия, то есть, благородных Держава. Сей подвержен многим неспокойствам, смятениям, и весьма разоряющим и печальным следствиям, как то видимо в некоторых народах. Третий называется: Демократия, то есть, народная власть, или держава. Сей, не упоминая бывающих в нём непорядков, всякого смеха достоин, и подобен мирскому сходу наших крестьян…[66].
Отношения с духовенством. Феофан Прокопович
Отношения Тредиаковского с духовным сословием после возвращения из Европы были неровными. Прежде всего, это объяснялось изданием «Езды в остров Любви», которое некоторыми духовными персонами было названо безнравственным и вызвало нападки. О состоянии духа Тредиаковского в тот период свидетельствует письмо Шумахеру от 18 января 1731 года со следующими оценками книги:
|
Несомненно, В. Тредиаковский должен был искать покровителей и в среде высшего духовенства. Результатом стало то, что он оказался в ближайшем окружении Феофана Прокоповича[70]. Свидетельств об обстоятельствах их знакомства не сохранилось, но к 1732 году Василий Кириллович был принят в доме владыки Феофана. Существует предположение, что к их знакомству имел отношение А. Б. Куракин, кроме того, Феофан пользовался большим авторитетом в Академии и мог в той или иной степени способствовать карьере Тредиаковского[71]. Феофана Прокоповича и Тредиаковского могла сближать и общая культурная программа. «Езда в остров Любви» была переведена на разговорный русский язык, а в предисловии к ней Тредиаковский цитировал «Духовный регламент» самого Феофана[72].
Протекция Феофана Прокоповича имела большое значение при столкновении Тредиаковского и архимандрита Платона (Малиновского). С Платоном Тредиаковский должен был взаимодействовать ещё в Славяно-греко-латинской академии, в которой тот с 1724 года исправлял должность префекта. Встречались они и в Москве в 1731 году, когда во время приёма у ректора Славяно-греко-латинской академии Германа (Копцевича) Платон обвинил Тредиаковского в отложении от православия. В позднейшем отчёте говорилось, что Тредиаковский был опрошен:
…каковы учении в чюжих странах он произошел? И Тредиаковской-де сказывал, что слушал он филозофию. И по разговорам о объявленной филозофии во окончании пришло так, что та филозофия самая отейская, яко бы Бога нет. И слыша-де о такой отейской филозофии, разсуждал он, Малиновской, и означенной епископ Герман, что и оной Тредиаковской, по слушании той филозофии, может быть во оном не без повреждения[73].
По мнению Б. А. Успенского, речь в данном контексте могла идти как об изучении Тредиаковским картезианской философии в университете, так и о католическом богословии, курсы которого он слушал в Сорбонне[71].
Следующее столкновение Платона (Малиновского) и Тредиаковского произошло уже в Петербурге, из-за некой «псалмы», сочинённой Василием Кирилловичем, которую он осмелился пропеть в присутствии духовных особ в Александро-Невском монастыре. По мнению Б. А. Успенского, Тредиаковский спровоцировал конфликт сам. «Псалма», текст которой не сохранился, была лишь частью духовного концерта св. великомученице Екатерине, который был исполнен в присутствии членов Синода; автором его также был Тредиаковский. Далее на том же концерте по просьбе Феофана (Прокоповича) Тредиаковский публично прочёл сатиру А. Кантемира[70], направленную против Стефана (Яворского) — сторонника реставрации патриаршества в России. Платон (Малиновский) и поддержавший его архимандрит Евфимий (Колетти) были политическими противниками Феофана и сторонниками Стефана. Уже на следующий день Платон был вынужден просить прощения у поэта, в августе 1732 года были арестованы и Платон, и Евфимий[74].
Помимо Феофана Прокоповича, Тредиаковский поддерживал отношения с Петром (Смеличем), который в описываемые годы был архимандритом Александро-Невского монастыря и первым советником Синода и вообще являлся одним из самых влиятельных православных иерархов. Существуют свидетельства, что по его приглашению Тредиаковский поселился в монастыре и жил там даже после отъезда Петра в Белгород. В монастыре около 1737 года Тредиаковский перевёл и первый том «Древней истории» Роллена, которым затем занимался в течение 30 лет[75]. В 1738—1739 годы, оказавшись в стеснённых жизненных условиях[Прим 12], Тредиаковский переселился к епископу в Белгород[77]. В дальнейшем Тредиаковский поддерживал короткие отношения с Феодосием (Янковским), с которым познакомился, по-видимому, также в Белгороде. В результате в 1743 году Синод выдал Василию Кирилловичу аттестат, благодаря которому в 1745 году он получил должность профессора Академии наук. В дальнейшем Синод санкционировал его стихотворный перевод «Псалмов» и передал всю прибыль от продажи издания в полное распоряжение автора. По мнению А. Б. Шишкина, всё это было совершенно беспрецедентным явлением в середине XVIII века[77].
Первый этап реформы русского стихосложения
Активно занимаясь переводами и самостоятельным творчеством, в 1734—1735 годах Тредиаковский декларировал радикальную реформу русского стихосложения, поскольку обнаружил у силлабических стихов возможность звучать тонически. Реформа была начата публикацией в сентябре 1734 года поздравительной оды новому президенту Академии — Иоганну Корфу:
|
14 марта 1735 года по приказу Корфа впервые было созвано собрание переводчиков Академии, которое Тредиаковский упорно именовал Российским собранием; по-видимому, он не оставлял надежды придать техническому совещанию значение литературной Академии. В речи на открытии собрания Тредиаковский не только критиковал существовавшее тогда в России стихосложение, но и намекал на то, что знает, как можно его изменить[79]. Через несколько месяцев он опубликовал «Новый и краткий способ к сложению российских стихов», в котором впервые дал описание стопы как основной меры стиха, ввёл понятие долготы и краткости слогов, причём отлично понимал, что долгота и краткость в русском языке не аналогична древнегреческой и латинской. Здесь же был введён термин «тонический»; к трактату прилагался сборник стихотворений, которые были образцами и эталонами разных жанров — рондо, эпиграмма, сонет, элегия и т. д. Все они написаны новыми тоническими стихами, среди которых преобладал 7-стопный хорей[80].
В своём трактате 1735 года Тредиаковский дал девять определений основных стихотворных терминов — стих, слог, стопа, полустишие, пресечение (так он называл цезуру), рифма, перенос и так далее. Понятия стопы было ненужным для силлабического стихосложения, но Тредиаковский отлично понимал, что в русском языке она сильно отличается от античной, в которой понималась как сочетание долгих и кратких слогов. В описании Тредиаковского долгим слогом именовался ударный, а коротким — безударный[81].
По словам О. В. Лебедевой, «именно стихи, написанные собственным метром Тредиаковского, наиболее показательны для его индивидуальной поэтической манеры; в них сложились и основные стилевые закономерности лирики Тредиаковского, сделавшие его неповторимый стиль объектом многочисленных насмешек и пародий и послужившие главной причиной стойкой репутации Тредиаковского как плохого поэта»[82]. Причина заключалась в том, что Василий Кириллович, имея классическое образование, считал стихотворной нормой латинское стихосложение, к которому пытался приспособить русские стихи, особенно написанные в своём излюбленном метре. Эстетическим манифестом Тредиаковского стала «Эпистола от Российской поэзии к Аполлину», в котором перечислялись его собственные заслуги[82]. Для стихотворений, приложенных к «Новому и краткому способу…», характерна намеренная затруднённость поэтической речи и темнота смысла, восходящая как к свободному порядку слов латинского языка, так и к классицистической интерпретации стихов как «украшенной речи» и «побеждённой трудности». Творческое кредо Тредиаковского требовало в качестве основного метода инверсию — нарушения порядка слов в синтаксических единицах[82].
|
В приведённом примере присутствуют все типичные для Тредиаковского приёмы инверсии — подлежащее, разрывающее ряд однородных членов, инверсия подлежащего и сказуемого, разрыв определяемого слова и определения обстоятельством образа действия, которое относится к сказуемому, исключительная любовь к восклицательным междометиям. Главной целью реформы Тредиаковского на начальном этапе было максимальное разделение стихотворной и прозаической речи[83]. Междометия имели и техническое назначение — они должны были «подогнать» стих к нужному ритму чередования ударных и безударных слогов. По мере развития технического мастерства Тредиаковского-поэта количество междометий, используемых им к текстах, заметно сократилось. По замечанию О. В. Лебедевой, характерным признаком латинской поэзии является вариативность произношения слов, что объяснялось принципиальной важностью позиции долгих гласных в поэтическом тексте и отсутствия жёсткой их закреплённости в прозе. Поэтическое ударение в латинских словах не совпадало с реальным ударением. Тредиаковский по латинскому образцу смещал ударения в русских словах сообразно закономерности чередования ударных и безударных слогов в стихе[84].
В ранней силлабо-тонике Тредиаковского также обозначилась важнейшая особенность его индивидуального стиля: технической свободе инверсии и обращения со звуковым рядом соответствовала свобода в подборе лексики и словосочетаний. В пределах одного стиха он мог позволить себе совмещение самых архаических церковнославянизмов с просторечием и даже сниженной лексикой. Однако это свойство стало заметнее в 1740-е годы и позднее[85].
По словам А. Ю. Алексеевой, «новый способ стихосложения имел сенсационный успех в среде молодых петербургских поэтов, близких к Академии наук. На удивление легко они переходили в новую веру и один за другим осваивали „правильное стихотворение“. Писать силлабикой в этой среде казалось уже неприличным»[86]. Быстрее всего приспособились к новому поэтическому строю школьные поэты из духовных семинарий и академий — вероятно, сказывалась общая с Тредиаковским интеллектуальная и социальная среда. Молодой Сумароков также был активным сторонником реформы Тредиаковского, за что потом его укорял Ломоносов. По замечанию Л. В. Пумпянского, «в провинции пишут стихом Тредиаковского ещё в начале 1750-х годов»[87].
Шутовская свадьба 1740 года
| Внимание! Данная страница или раздел содержит ненормативную лексику. |
В 1739 году Тредиаковский приехал из Белгорода в Петербург и вернулся к обычным обязанностям переводчика Академии. Из его работ того периода выделяется перевод на латинский язык речи Амвросия (Юшкевича) по случаю бракосочетания Антона Ульриха и Анны Леопольдовны[88]. Далее в его жизни произошла трагедия, после которой он окончательно утратил свои позиции при дворе. Речь идёт о его участии против воли в шутовской свадьбе в «Ледяном доме», что началось с чрезвычайно небезобидного розыгрыша[89].
Здравствуйте женившись дурак и дура,
еще и блядочка, то-та и фигура.
Теперь-то прямое время вам повеселится,
теперь-то всячески поезжанам должно бесится,
Кваснин дурак и Буженинова блядка
сошлись любовно, но любовь их гадка.
Ну мордва, ну чуваша, ну самоеды,
Начните веселые молоды деды.
Балалайки, гудки, рожки и волынки,
сберите и вы бурлацки рынки,
плешницы, волочайки и скверные бляди,
ах вижу как вы теперь ради,
гремите, гудите, брянчите, скачите,
шалите, кричите, пляшите,
Свищи весна, свищи красна.
не можно вам иметь лучшее время,
спрягся ханской сын, взял хамское племя.
Ханской сын Кваснин, Буженинова хамка,
Кому того не видно кажет их осанка!
О, пара! О, нестара!
Не жить они станут, но зоблют сахар,
А как он устанет, то другой будет пахарь.
Ей и двоих иметь диковинки нету,
Знает она и десять для привету.
Так надлежит новобрачным приветствовать ныне,
дабы они во все свое время жили в благостыне.
Спалось бы им, да вралось, пилось бы, да елось.
Здравствуйте женившись дурак и дурка,
и еще блядочка то-та и фигурка[90][91].
4 февраля 1740 года вечером на дом к Тредиаковскому прибыл кадет Криницын и вызвал Василия Кирилловича в Кабинет, то есть в правительство, что сильно испугало литератора. Криницын отвёз Тредиаковского на Слоновый двор, где велись приготовления к шутовскому действу, возглавлял которые кабинет-министр А. П. Волынский. Тредиаковский пожаловался на самоуправство кадета, в ответ Волынский избил поэта, в чём помогал и Криницын. После экзекуции Тредиаковскому было велено сочинить шутовское приветствие на заданную тему и прочесть стихи непосредственно на свадьбе, то есть оказаться в роли шута[Прим 13]. После того, как Тредиаковский сочинил эти стихи, его отвезли в Маскарадную комиссию, в которой он провёл две ночи под стражей. Там его вновь жестоко избили, обрядили в шутовское платье и заставили участвовать в действе. Эти события были описаны самим Василием Кирилловичем в рапорте Академии от 10 февраля 1740 года и прошении на Высочайшее имя, направленном в апреле. На первых порах рапорт и прошение остались без ответа[93].
По описанию К. Г. Манштейна, князь М. А. Голицын был обращён в шута из-за женитьбы на итальянке, ради которой он перешёл в католичество. Та же судьба ожидала и его зятя — А. П. Апраксина[94]. По замечанию Б. Успенского, из шести шутов Анны Иоанновны четверо были католиками, и именно по этой линии следует искать причины вовлечения в действо Тредиаковского. Кроме того, шутовские обычаи при дворе Анны Иоанновны преемственно были связаны с «потешными церемониями» Петра I и, в частности, с «Всешутейшим собором»[95].
В описании шутовской свадьбы в Ледяном доме упоминается и выступление Тредиаковского — его шутовские вирши именуются «казаньем» или же «срамным казанием». По-видимому, это полонизм, восходящий к польск. kazanie — «проповедь», что могло иметь и католические коннотации. В этом контексте важно то, что кабинет-министру А. Волынскому могли быть хорошо известны связи Тредиаковского с католиками, поскольку в 1719—1724 годах он был астраханским губернатором, а также был связан с А. Ф. Хрущовым, который был знаком с княгиней И. Долгорукой. Скорее всего, Тредиаковский не был случайной жертвой произвола, тем более, что митрополит Казанский Сильвестр (Холмский), причастный к миссии Жюбе, имел отношение и к отстранению Волынского от поста казанского губернатора, что усилило его раздражение против духовных лиц вообще и конкретных персон ниже его по положению[96].
По словам Б. Успенского, участие Тредиаковского в «дурацкой свадьбе» было одним из самых трагических эпизодов в его жизни. Формально всё окончилось для Василия Кирилловича благополучно: после опалы А. Волынского он был признан невинно пострадавшим и вознаграждён «за бесчестье и увечье» в сумме годового жалованья — то есть 360 рублей, избиение стало одним из обвинений, выдвинутых экс-министру[97]. Тем не менее, эта история чрезвычайно сильно повредила репутации Тредиаковского, в том числе и посмертной[98].
Тредиаковский и Академия наук (1740—1759)
Деятельность Тредиаковского в 1740-е годы. Избрание в Академию
23 февраля 1740 года Тредиаковский по Высочайшему повелению был прикомандирован к французскому посланнику Жаку де Шетарди, который находился в Москве. В старой столице Василий Кириллович пробыл наездами до конца 1742 года, живя в одном доме с духовным лицом из французской свиты[99]. Кончина Анны Иоанновны и последующие события вплоть до переворота 1741 года прошли в отдалении от бывшего придворного поэта. Его положение стремительно менялось, как в академическом, так и в политическом смысле. Российское собрание ещё в январе 1740 года получило из Фрейбурга «Письмо о правилах российского стихотворства» студента Михайлы Ломоносова, содержащее иронические выпады против Тредиаковского. Василий Кириллович, только что переживший шутовскую свадьбу, крайне болезненно воспринял критику и идеи Ломоносова[86]. Он составил ответ за подписью всего Российского собрания, но в результате его ведущие члены — В. Е. Адодуров и И. И. Тауберт — воспрепятствовали отправке письма за границу как «наполненного учёными ссорами». По мнению Н. Ю. Алексеевой, и насмешки Ломоносова, и позиция, занятая бывшими учениками, коллегами и единомышленниками Тредиаковского и отдающая пренебрежением, были выражением неких тенденций при дворе, в Академии и русской поэзии, которых Тредиаковский вовремя не заметил[100]. Собственно, свою реформу стихосложения Ломоносов декларировал ещё в 1738 году силлабо-тоническим переводом оды Фенелона, направленным в Собрание, — Тредиаковский тогда всё ещё находился в Белгороде. После ломоносовский оды «На взятие Хотина» 1739 года Тредиаковскому более не давали для перевода стихов и од. Характерно, что произведения западной поэзии с этого периода поручали Адодурову, который передавал их смысл прозой. Более в академической среде Тредиаковский не воспринимался как авторитет в области поэзии, а возвращение в Петербург Ломоносова означало, что «время Тредиаковского навсегда ушло», но он это понял далеко не сразу[100].
В начале 1742 года по приказу новой императрицы Елизаветы Петровны Тредиаковский был вновь откомандирован в Москву в связи с прибытием Морица, графа Саксонского, претендовавшего на курляндский престол[101]. Его прошение на имя государыни сохранилось в переводе Тредиаковского на русский язык. По совету А. Б. Куракина, Тредиаковский попытался напомнить о себе Елизавете Петровне одой на коронацию, которая состоялась в Москве 24 апреля 1742 года. Стихотворение оставило равнодушной новую императрицу, больше он не пытался создавать «подносных» произведений. На фоне Ломоносова 40-летний Тредиаковский казался архаичным: коронационная ода написана силлабическим стихом средней длины, который в Академии уже представлялся неприемлемым для русской поэзии. Василию Кирилловичу предстояло заново найти своё место в жизни и культуре[102].
В Москве изменилось и семейное положение Тредиаковского: 12 ноября 1742 года Василий Кириллович женился на дочери протоколиста Оренбургской комиссии Марье Филипповне Сибилевой[103], однако сведений о семье сохранилось очень мало. Например, неизвестна точная дата рождения сына Льва (около 1746—1812) — будущего рязанского, ярославского и смоленского губернатора[104][Прим 14]. После возвращения из Москвы Тредиаковский предпринял ряд усилий, чтобы повысить своё положение в Академии и, соответственно, получаемое жалованье. В мае 1743 года он подал «доношение» с подробным перечислением своих трудов и заслуг, однако оно осталось без ответа. В августе он повторно подал документы, желая получить должность библиотекаря Академии, и одновременно подал заявление на получение должности профессора элоквенции, апеллируя к новому президенту Академии — Нартову, который затеял борьбу с иностранным засильем в российской науке. Однако Конференция Академии 10 октября 1743 года под формальным предлогом (в Академии имелась только одна штатная единица по литературе латинской и русской, занятая Штелиным) Тредиаковскому отказала[106]. Тогда Тредиаковский обратился в Святейший Синод и в результате 4 ноября 1743 года получил оттуда аттестат, собственноручно выполненную копию которого представил Академии. В аттестате, за подписью архиепископа Амвросия и архимандрита Платона, говорилось:
«…оные его сочинения виды по точным правилам элоквенции произведены, что чистыми избранными словами украшены, и что по всему тому явно есть, яко он не несколько, но толико происшел в элоквенции, си есть, в красноречии Российском и Латинском, что праведно надлежащее в том искусство приписатися ему долженствует»[107].
29 ноября президент Академии А. Нартов представил в Сенат прошение о назначении Тредиаковского профессором с окладом 500 рублей в год, однако дело вновь застопорилось[108]. 28 февраля 1744 года Тредиаковский обратился в Сенат самолично, ответ был получен только через год — 2 февраля 1745 года. Императрица Елизавета Петровна подписала указ о назначении 25 июля 1745 года, в этот день звание профессора Академии было одновременно пожаловано Тредиаковскому и Ломоносову, а звание адъюнкта — Крашенинникову. Назначение имело и материальное измерение — жалованье профессора равнялось 660 рублям в год[109]. Однако при этом была нарушена академическая процедура, и с самого начала Тредиаковский восстановил против себя коллег. Звание профессора Академии в те времена не предполагало преподавания, регулярные занятия в Академическом университете начались только с 1746 года, и в контракте основными занятиями Тредиаковского остались переводы научной литературы. В связи с начавшейся между ним, Ломоносовым и Сумароковым «литературной войной», он перестал писать стихи[110].
Филологические работы
Статьи и трактаты Тредиаковского второй половины 1740-х годов, возможно, были отражением его желания оправдать новое академическое звание[111]. В 1745 году Академия и Сенат вели переписку относительно возможности опубликовать в переводе Тредиаковского «Древней истории» Роллена, переводом которой он занимался ещё с 1737 года. По запросу Академической Конференции, 17 октября 1745 года Тредиаковский представил готовый перевод трёх первых томов. Дело, однако, продолжало тянуться. Между тем в 1745 году для нужд Академической гимназии потребовался немецко-французско-русский разговорник, взамен издания 1738 года, и Тредиаковскому поручили исправление русского текста[112]. Тредиаковский не просто отредактировал текст, но и представил на латинском языке статью об окончаниях имён прилагательных в русском языке («Deрlurali nominum adjectivorum integrorum, Russica lingua scribendorum terminatione»). Василий Кириллович впервые выступил с проектом орфографической реформы, предложив, чтобы в печатаемых Академией книгах окончания прилагательных в именительном падеже мужского пола множественного числа печатались на «и», женского — на «е», а среднего — на «я» (взамен существовавшего: мужского рода — на «е», женского и среднего — на «я»). Проект вызвал полемику с Ломоносовым, в которой остальные академики не участвовали, а Шумахер инициативу не поддержал[113].
Только в 1747 году Академия постановила печатать «Древнюю историю» Роллена тиражом 600 экз., и готовые три первых тома были направлены в типографию. Тогда же Придворная контора к 5-летию коронации Елизаветы Петровны поручила Тредиаковскому перевести с французского языка некую «оперу», которая и была напечатана на французском, русском и итальянском языках. По-видимому, это был «Митридат» Расина, сыгранный в придворном театре 26 апреля. Тогда же В. Тредиаковский перевёл немецко-французский разговорник Плацена на латинский язык и опубликовал трактат об исчислении Пасхи «Математические и исторические наблюдения о сыскании Пасхи по старому и новому стилю»[114]. В марте 1747 года Тредиаковский был командирован в Новгород и Москву для отбора и экзаменования людей, достойных занять место в учебных заведениях Академии. Предполагалось набрать 30 человек; из рекомендованных Василием Кирилловичем впоследствии двое сделались профессорами Московского университета, один — магистром, один — адъюнктом, ещё несколько человек назначены переводчиками[115].
30 октября 1747 года в сильном пожаре у себя дома Тредиаковский лишился всего имущества. 2 ноября он просил у Академии выдать ему жалованье за следующий, 1748 год, академическая канцелярия, однако, распорядилась выдать только 110 рублей, положенных ему за сентябрь и октябрь. Впрочем, в тот же день распоряжением императрицы погорелец Тредиаковский должен был получить для распространения в свою пользу книги, изданные типографией Академии, на сумму 2000 рублей. Это не улучшило положения учёного, поскольку 5 декабря в главном здании Академии тоже произошёл сильный пожар. В конце концов канцелярия Академии выдала Тредиаковскому 4000 экз. календарей на 1749 год, но с условием, что он пустит их в продажу не ранее 1 января того же года[116].
«Разговор об ортографии»
В 1748 году увидел свет громоздкий трактат Тредиаковского «Разговор об ортографии», то есть о русских звуках, буквах и шрифтах. Издан он был на средства друзей и покровителей учёного, которые пожелали остаться неизвестными; и это несмотря на то, что первоначально отпечатанный тираж погиб при пожаре в доме автора[117]. По словам Н. Алексеевой, трактат знаменовал оформление ранее только проступавших в Тредиаковском черт филолога[111]. Тредиаковский, явно в подражание французским современникам или памятуя о своих ранних притязаниях поэта-законодателя, стремился быть занимательным и построил трактат в форме диалога, взяв за основу «Разговор о правильном латинском произношении греческого» Эразма Роттердамского. Результат в известном смысле был неожиданным: Тредиаковский совершенно сознательно дистанцировался от элитных читателей в Академии и при дворе, адресуясь к широким массам грамотеев («простым людям и ученикам, для которых наибольше я трудился»). В академической среде, ориентированной на классицизм, манера Тредиаковского была воспринята как «учёное балагурство», о чём с возмущением писал Г. Теплов[111].
Основой его собственного учения об орфографии было стремление приблизить русское правописание к фонетической его основе: «Орфография моя большею частию есть по изглашению для слуха, а не по произведению ради ока…»[119]. При этом Тредиаковский, как и в случае с обращением к опыту гуманизма Эразма, а не современного ему классицизма, настаивал на необходимости сохранения славянской основы русского языка. В дальнейшем, переводя «Аргениду», он хвалился, что «…почитай ни одного от меня в сем… переводе не употреблено чужестранного слова, сколько б которые у нас ныне в употреблении ни были, но все возможные изобразил нарочно, кроме мифологических, славено-российскими равномерными речами»[119]. Г. О. Винокур отметил, что «большинство его положений, касающихся фонетики, оказывается соответствующим действительности, причём надо непременно иметь в виду то, что в установлении этих положений Тредиаковский не имел предшественников и был подлинным пионером науки… Несомненен его научный приоритет в истории русской фонетики по целому ряду пунктов… Тредиаковский предстаёт перед нами как пионер русской фонетики, стоящий намного выше всех своих современников»[120].
Вместе с тем Тредиаковский впервые описал феномен так называемой народной этимологии:
|
|
Тредиаковский в средневековом схоластическом духе пытался искать славянские корни в иностранных словах и доказывал древность славянской и русской государственности, которая в глубокой древности оказывала влияние на окружающие народы; он полемизировал с «Историей Скифии» Байера. Сами по себе его «открытия» лишены каких бы то ни было лингвистических обоснований: «Аллемания» — «Холмания» (в ней много холмов), «Саксония» — «Сажония» (в ней много садов), «Балтийское море» от «балда» (овальная фигура), «турки» — «юрки (то есть вольноходцы)», «Кельты» — «желты (то есть светлорусы)»[122].
Собственно орфографическая реформа, предложенная Тредиаковским, существенно опередила своё время. Л. Пумпянский связывал её с французскими проектами, вероятно, ему известными. В основе теории Тредиаковского лежал ещё античный тезис Квинтилиана: «каждая буква… заключает в самой себе основание, по какому она полагается в этой, а не в другой части слога для означения определенного звука»[123]. В результате, с присущим ему догматизмом, Василий Кириллович затеял борьбу с сосуществованием в русском алфавите «и» и «i», причём предлагал во всех случаях использовать «и десятеричное». Отказался он и от второго «з», но писал его как французское «s», а также предложил изгнать из языка титла и лигатуры. Из экзотических его предложений выделяется отказ от буквы «щ», которую он предложил заменить на сочетание «шч». «Э» он заменял на «е» («етот»), но зато предложил второй знак для йотированного е (если, ей). Отвергая букву «ѣ», он был готов пойти на компромисс с духовенством в этом вопросе. Тредиаковский пытался свои произведения печатать последовательно в собственной орфографии:
…неверные буквы проізошлі от неісправного выговора і от слѣпого незнанія і сверх того Ешче протівны древності нашего яsыка[124].
Впрочем, эксперименты длились недолго, хотя на некоторых аспектах своей реформы («единитных палочках», которые должны были графически обозначать интонации) Тредиаковский настаивал до конца жизни. Эти эксперименты вызывали недоумение и насмешки современников, не понимавших догматичности мышления Василия Кирилловича, который облекал свои новаторские идеи в схоластические формы. В эпоху господства стиля Ломоносова это выглядело, по меньшей мере, странно[124].
В примечаниях к «Разговору об ортографии» Тредиаковский поместил несколько переводов латинских отрывков, которые указывают на начало новой работы, которая приведёт к созданию «Телемахиды»[125]. При переводе Горация он впервые использовал ямб: «Как лист с древес в лесах погодно опадает, Так век старинных слов в языке пропадает…», а для перевода Овидия — дактило-хореический гекзаметр:
|
После выхода «Разговоров об ортографии» президент Академии К. Разумовский поручил Тредиаковскому перевод аллегорического романа «Аргенида»[126].
«Аргенида»
 19 марта 1749 года Тредиаковский в очередной раз пострадал от пожара на Васильевском острове (в 10-й линии которого располагался его дом). Из письма Шумахера к Теплову следует, что Тредиаковский лишился кухни и конюшни, но, по крайней мере, не пострадали книги и рукописи. В 1747 году у Тредиаковского погибли как рукописи оконченного перевода «Истории» Роллена (и он начал перевод заново), так и уже отпечатанные в Академической типографии тома[127]. Это не помешало уже в том же году представить в Академию законченный перевод «Аргениды», данный на рассмотрение Ломоносову, который отметил высокое его качество. 21 августа 1750 года было начато печатание романа в пяти томах, каждый тиражом 1250 экз.[128]
19 марта 1749 года Тредиаковский в очередной раз пострадал от пожара на Васильевском острове (в 10-й линии которого располагался его дом). Из письма Шумахера к Теплову следует, что Тредиаковский лишился кухни и конюшни, но, по крайней мере, не пострадали книги и рукописи. В 1747 году у Тредиаковского погибли как рукописи оконченного перевода «Истории» Роллена (и он начал перевод заново), так и уже отпечатанные в Академической типографии тома[127]. Это не помешало уже в том же году представить в Академию законченный перевод «Аргениды», данный на рассмотрение Ломоносову, который отметил высокое его качество. 21 августа 1750 года было начато печатание романа в пяти томах, каждый тиражом 1250 экз.[128]
Роман Барклая «Аргенида», написанный на латинском языке прозой и стихами, имел чрезвычайно сложный сюжет со множеством ответвлений и вставных эпизодов. В основе его лежала авантюрно-любовная фабула: дочь сицилийского царя Мелеандра — Аргенида — влюблена в Полиарха, верного царского слугу, который был оклеветан царским фаворитом и тайным мятежником Ликогеном и приговорён к смерти. После огромного количества бедствий и приключений влюблённые смогли соединиться. Однако главной в «Аргениде» была политическая линия, поскольку роман был откровенной апологией наследственной абсолютной монархии. В основу романной фабулы, хотя и скрытой за античными именами, была положена реальная история Франции XVI века — борьбы короля, гугенотов и Лиги. Одновременно автор представил своего рода учебник для идеального монарха, что отлично понимал и Тредиаковский: «Намерение авторово в сложении толь великия повести состоит в том, чтоб предложить совершенное наставление, как поступать государю и править государством». Огромный успех «Аргениды» объяснялся именно её идеологией просвещённого абсолютизма, даже Ломоносов признавал роман Барклая одним из самых значительных произведений мировой литературы[129].
Современные исследователи отмечают, что «Аргенида» сыграла колоссальную роль в эволюции Тредиаковского как литератора. По мнению Н. Ю. Алексеевой, именно к концу 1740-х годов он был готов «…к осуществлению не просто перевода, какой сделал некогда в молодые годы, а перевода в настоящем смысле художественного. Размышления о стиле, опыт переводов новолатинской прозы и наконец уже начатые эксперименты при переводе латинских гекзаметров позволили ему сделать русский перевод превосходящим переводы на другие иностранные языки этого знаменитого романа. Все тридцать семь стихотворений „Аргениды“ Тредиаковский перевел эквиметрично (равным размером) латинским оригиналам, добиваясь от русского стиха имитации латинского звучания и нередко благородства в стиле. <…> В работе над переводами стихотворений из „Аргениды“ и обязательно сопутствующими им стиховедческими исследованиями Тредиаковский возродился и как поэт, и как теоретик стиха[126]».
Достижения Тредиаковского в деле создания русского гекзаметра при переводе «Аргениды» отмечал и Л. Пумпянский.
|
Тредиаковский впервые правильно решил вопрос о природе русского гекзаметра, заменив античную долготу и краткость слога чередованием ударных и неударных слогов; то есть он не переносил механически античную метрику, а создал тоническое соответствие, сохранив притом античный колорит (местами даже допуская прямые латинизмы). Данный гекзаметр из первого тома «Аргениды» содержательно является переводом стихов из IV книга Овидиевых «Метаморфоз», но по стилю и фразеологии приближен к Гомеру[130].
Гораздо сложнее обстояло со стилем прозаического перевода: по оценке Л. Пумпянского, Тредиаковский пошёл в «Аргениде» на сплошную латинизацию синтаксиса русского языка, беспримерную во всей русской литературе. Оригинал романа ценился в Европе, в том числе за лёгкость своего неолатинского слога, но у Тредиаковского «перевод вышел более латинским, чем в подлиннике»[131]. Пумпянский приводил следующую фразу из 29 главы шестой части пятого тома: «слышащему имя Сицилии и что оттуда есть письмо, также что и присланный нечто важное своим трепетом предъявляет, все сие показалось Геланору довольною причиною к разбуждению Полиарха» (то есть когда Геланор услышал… ему это показалось достаточной причиной, чтобы разбудить…). По его оценке, в некоторых случаях, чтобы понять фразу, нужно обратиться к оригиналу романа[131].
«Литературная война» Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова
Практически вся середина XVIII века для русской литературы ознаменовалась серьёзной и чрезвычайно напряжённой литературной борьбой, главное место в которой занял конфликт между Тредиаковским и Сумароковым. Результаты этого конфликта оказались чрезвычайно продуктивными, в ходе борьбы возникли новые литературные жанры — первые русские комедии и пародии на индивидуальный стиль, а также литературная критика как таковая[132]. Личный и творческий конфликт Тредиаковского и Сумарокова вызревал исподволь с начала 1740-х годов и перешёл в открытую фазу в 1748-м[133]. Последнее было связано с изданием трагедии «Хорев», означавшим притязания Сумарокова на полностью самостоятельную позицию в русской литературе. Сумароков тем самым отходил от роли модного светского стихотворца — каким в своё время был и Тредиаковский — и претендовал на создание программного произведения в одном из ключевых жанров классицизма. Не случайно современники впоследствии называли его «российским Вольтером и Расином». Хотя до нас не дошли отзывы Ломоносова и Тредиаковского на «Хорева» времени его создания и первой публикации, нет сомнений, что они были недоброжелательными; Сумароков был поставлен перед необходимостью защищать как своё творение, так и стилевые и политические притязания[134].
Первый поэтический спор Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова прошёл в 1743—1744 годах, главным свидетельством чего стала небольшая книжка «Три оды парафрастические псалма 143, сочиненные чрез трех стихотворцев, из которых каждой одну сложил особливо». Ещё А. Куник обращал внимание на то, что данный спор уникален в истории русской литературы тем, что тяжущиеся стороны обратились для суда к публике[135]. Первое в России поэтическое состязание стало одновременном дискуссией о семантике стихотворного размера в условиях, когда классицистская традиция, прикрепляющая семантику к определённому размеру, ещё только формировалась[136]. Летом 1743 года трое писателей встретились и обсудили проблему: Тредиаковский в своём «Способе…» 1735 года утверждал, что героический стих должен быть непременно хореическим, Ломоносов в «Письме о правилах российского стихотворства» принял мысль о соотнесённости метра, жанра и семантики, но одический стиль связывал с ямбом[137]. Далее Тредиаковский сообщил, что метр изначально не определяет семантики, а одический или элегический стиль зависит от используемой системы образов и лексики. Ломоносов с ним не согласился, ибо полагал, что метру свойственна особая ритмическая интонация, Сумароков примкнул к нему[138].
Рациональные аргументы не устраивали обе стороны, поэтому вместо обмена контраргументами Сумароков предложил поэтам сочинить одическое переложение из Псалтири, причём сам Сумароков и Ломоносов должны были сделать его ямбом, а Тредиаковский хореем. То есть, если недостаточно индивидуальной эстетической оценки стихотворца, судьёй должен был выступить «свет». Оды были напечатаны анонимно, но Тредиаковский написал к изданию предисловие, в котором привёл суть спора и славянский текст псалма. Тираж составил 500 экз., из которых 200 печаталось за счёт Академии наук для продажи и 300 — за счёт авторов[139]. А. Шишкин отмечал, что книжка «Трёх од» была снабжена эпиграфом из «Науки поэзии» Горация, что напрямую выводило литературный спор в измерение европейского классицизма, в котором основными функциями поэта было подражание и состязание, причём в данном конкретном споре поэты состязались не только друг с другом, но и с библейским царём Давидом[140]. Главной их задачей было повысить эстетическое качество словесного переложения, в результате Тредиаковский применил амплификацию — то есть словесное распространение, его ода состояла из 130 строк; у Ломоносова — 60, у Сумарокова — 66. Тредиаковский превратил первые четыре слова псалма в 10 строк одической строфы[141]. Данный спор не кончился ничем, поскольку все трое поэтов признали друг друга равноправными в «согласии разума»[142].
В 1748 году Сумароков издал трагедию «Гамлет» и две «Эпистолы», последние были насыщены личными выпадами и против Тредиаковского, и против Ломоносова. В стихах 21—44 «Эпистолы» прямо говорилось, что в России нет хороших писателей, а сверх того, содержались прямые издевательства по адресу орфографической реформы Тредиаковского. Насмешки над Ломоносовым пояснялись его попыткой навязать российскому красноречию чужеродную традицию, а переводческая деятельность Тредиаковского названа неудачной, высокопарной, пустой и невнятной[143]. Прохождение «Гамлета» и «Эпистол» через академическую цензуру вызвало к жизни совершенно новый институт рецензирования, что не имело прецедентов в тогдашней русской культуре. При этом Тредиаковскому на «освидетельствование» рукописи Сумарокова было дано 24 часа, после чего он был обязан передать её Ломоносову; обе рецензии были датированы 10 октября 1748 года[144]. Через пару дней история повторилась с «Двумя эпистолами», причём отзывы Ломоносова были уклончивыми и двусмысленными, он не хотел конфликтовать с Сумароковым, имевшим высоких покровителей. Тредиаковский, с его взрывным темпераментом, тем самым подставил себя под удар ответной критики и начальственного гнева; Сумароков явно не хотел идти на примирение и даже заключил с Ломоносовым тактическое соглашение[145]. В 1750 году «Две эпистолы» с добавленным четверостишием, содержащим грубые выпады против Тредиаковского, вышли из печати. Василий Кириллович смог ответить на это рядом выпадов в предисловии к готовящему к изданию переводу «Аргениды» Барклая и в результате был вынужден убрать их при наборе текста[146].
В том же 1750 году Сумароков издал первую русскую комедию «Тресотиниус»[Прим 18], также имевшую явно антитредиаковскую направленность, а Василий Кириллович явно опознавался современниками в образе жениха-педанта[147]. По тексту комедии было разбросано множество намёков на творческую манеру Тредиаковского, особенности его стиля; много скрытых цитат из «Езды в остров Любви» и «Разговора об ортографии»[148]. В ответ весной 1750 года Тредиаковский создал пространное «Письмо от приятеля к приятелю» — первый образец русской литературной критики[149][150]. А. С. Курилов отметил фантастическое многообразие форм критики, представленное в «Письме» Тредиаковского. Несмотря на многочисленные личные выпады, критика эта носит научный, стиховедческий и литературоведческий характер и касается всего творчества Сумарокова. Собственно, критика «Тресотиниуса» началась с констатации нарушения законов жанра (классицистских с чётким членением и наличием завязки, кульминации и развязки) и театральных «регулов», а потому «комедия сия недостойна имени комедии»[151].
|
 Критика нелогичности сюжета и жанровых несоответствий приводит Тредиаковского к заявлению о неоригинальности произведений Сумарокова вообще и его творческой ограниченности. Характерно, что все суждения Василия Кирилловича — констатирующие, а не оценочные, иными словами, он активно и сознательно пользовался литературоведческими приёмами. Самым ярким примером этого подхода явился разбор трагедии «Хорев», помещённый далее[153]. Поскольку в те времена особое внимание уделялось грамматической критике художественных произведений, Тредиаковский использовал методы, уже применённые против него Сумароковым. Он уличал его в неправильном использовании падежей и родов, наиболее часто прибегая к семантической критике, обращая внимание на неправильное словоупотребление[154]. Первые исследователи филологических взглядов Василия Кирилловича считали это бессмысленной критикой педанта, однако в трудах В. М. Живова показано, что Тредиаковский к тому времени перешёл на позиции рационалистического пуризма в языке. Критикуя Сумарокова с социолингвистической позиции, то есть обвиняя его в использовании «площадных» выражений, он лишь использовал методы и ярлыки, усвоенные им из французской полемики. Не будучи дворянином, Тредиаковский выдвигал на первый план учёность и историческое знание и противопоставлял их аристократической элите, за которую Сумароков ратовал и которую даже концептуализировал по типу европейского рыцарства[155].
Критика нелогичности сюжета и жанровых несоответствий приводит Тредиаковского к заявлению о неоригинальности произведений Сумарокова вообще и его творческой ограниченности. Характерно, что все суждения Василия Кирилловича — констатирующие, а не оценочные, иными словами, он активно и сознательно пользовался литературоведческими приёмами. Самым ярким примером этого подхода явился разбор трагедии «Хорев», помещённый далее[153]. Поскольку в те времена особое внимание уделялось грамматической критике художественных произведений, Тредиаковский использовал методы, уже применённые против него Сумароковым. Он уличал его в неправильном использовании падежей и родов, наиболее часто прибегая к семантической критике, обращая внимание на неправильное словоупотребление[154]. Первые исследователи филологических взглядов Василия Кирилловича считали это бессмысленной критикой педанта, однако в трудах В. М. Живова показано, что Тредиаковский к тому времени перешёл на позиции рационалистического пуризма в языке. Критикуя Сумарокова с социолингвистической позиции, то есть обвиняя его в использовании «площадных» выражений, он лишь использовал методы и ярлыки, усвоенные им из французской полемики. Не будучи дворянином, Тредиаковский выдвигал на первый план учёность и историческое знание и противопоставлял их аристократической элите, за которую Сумароков ратовал и которую даже концептуализировал по типу европейского рыцарства[155].
Как и в случае с антисумароковскими пассажами в предисловии к «Аргениде», остроумный и язвительный ответ Тредиаковского остался в рукописи. Литературная война 1748—1750 годов была Тредиаковским проиграна, а он сам подвергся ещё одному осмеянию в новой комедии Сумарокова «Чудовищи», быстро написанной в середине 1750 года. Характерно, что обе комедии Сумарокова были поставлены на сцене придворного театра в присутствии императрицы Елизаветы Петровны, наследника престола Петра Фёдоровича и его супруги — будущей императрицы Екатерины. Тредиаковский превратился в посмешище при дворе, что сыграло крайне неблагоприятную роль в его дальнейшей жизни и карьере. Вполне возможно, что отношение к нему и его «Телемахиде» со стороны Екатерины Алексеевны закладывалось уже во время «литературной войны» и во многом определялось насмешками Сумарокова. Тредиаковский оказался отвергнут элитарным обществом, его место в современной ему филологии и критике занял Ломоносов, а в поэзии и драматургии — Сумароков[156]. Л. Пумпянский констатировал:
Литературное одиночество Тредиаковского объясняется и тем, что он не понял Ломоносова, а заодно тем, что Сумароков и его ученики не поняли его, Тредиаковского[157].
«Сочинения и переводы как стихами, так и прозою»
29 сентября 1750 года президент Академии граф Разумовский огласил изустный указ императрицы, которым повелевалось профессорам Ломоносову и Тредиаковскому «сочинить по трагедии»[158]. Тредиаковский серьёзно подошёл к делу и даже отверг срочный перевод оперного либретто к придворной постановке 26 ноября. Вскоре президент Разумовский слушал авторское чтение уже написанной части и приказал скорейшим образом её напечатать к новому году. Трагедия была на античный сюжет и получила название «Деидамия»: её фабула основана на сказании о юноше Ахиллесе, которого мать, Фетида, скрыла на острове Скиросе в женском одеянии под именем Пирры, чтобы избавить его от участия в Троянской войне. Работа шла очень быстро. Два первых акта поступили в академическую типографию, планировалось даже вырезать гравюру по сюжету драмы[159]. Н. Алексеева отмечала, что хотя Тредиаковский ещё в юности создал две школьные драмы и далее во множестве переводил итальянские и французские комедии, оперы и оперетты, но, по-видимому, не имел выработанной теории драмы. Он срочно обратился к классическому во Франции труду П. Брюмуара. На этом фоне печатание трагедии было запрещено, чем Тредиаковский был сильно обескуражен. Трагедия Ломоносова «Тамира и Селим» была издана и сыграна на сцене[160]. В конечном итоге «Деидамия» была напечатана только в 1775 году, по завещанию автора она была снабжена посвящением Сумарокову[161].
Сильным ударом для Тредиаковского было повышение в звании Ломоносова: с 1 марта 1751 года он был произведён в коллежские советники с жалованьем в 1200 рублей. Василий Кириллович попытался обратиться с прошением о повышении жалованья; после отказа Разумовского он заболел, о чём уведомлял Шумахера[162]. С тех пор материальное положение Тредиаковского неуклонно ухудшалось, а переписка с канцелярией Академии была полна прошений о досрочной выплате жалованья и помощи с возвратом долгов[163]. В следующем, 1752 году Тредиаковский замыслил издать собрание своих сочинений и переводов, что объяснялось как желанием издать трагедию, так и поправить материальное благосостояние. Немалую роль, по-видимому, сыграло и соперничество с Ломоносовым — в августе 1751 года вышел в свет первый том его «Собрания разных сочинений в стихах и в прозе»[163][160]. Первоначальный план сборника трудов Тредиаковского явно отталкивался от сочинений Ломоносова: «Ломоносов представал перед читателем как поэт и ритор, Тредиаковский должен был предстать писателем, близким к французским литераторам-филологам — переводчиком, теоретиком стиха, автором рассуждений о поэзии и комедии — а как оригинальный поэт, лишь автором „Деидамии“»[160].
Эволюция творческого замысла В. К. Тредиаковского позволяет судить о его понимании теоретических установок французского классицизма. По мнению Н. Ю. Алексеевой, для последнего более всего характерна не нормативность поэтики и требования к жанровой чистоте при формальном подражании древности, а особая филологическая культура, позволявшая рассматривать Античность критически и осмысливать с исторической точки зрения. Развитие национального французского языка и интенсивная переводческая деятельность позволили выработать стандарты языка и отделить античное наследие от христианских напластований Средневековья. Не случайно Тредиаковский замыслил включить в собрание «Науку о стихотворении и поэзии» Буало[164]. В конечном счёте, в сборник не попала ни «Деидамия», ни выполненный Тредиаковским перевод комедии Теренция «Евнух».
В 1752 году двухтомник вышел в свет за счёт Академии (но деньги вычли из жалованья Тредиаковского за следующий год, так как выделенные императрицей на издание 300 рублей он пустил на погашение долгов), печатание обошлось в 376 рублей[165], тираж составил 604 экз.[166] По словам Л. Пумпянского, «…трактат не сыграл уже никакой прямой литературной роли, тоника и без него создана была прочно, но описание тонической системы у Тредиаковского так полно, последовательно и ясно, что книга для всего XVIII в. осталась лучшим учебником стихосложения. В учебной части она и доныне мало устарела»[167]. Такое же мнение высказывал Д. Благой[168].
Второй этап реформы стихосложения Тредиаковского. Классицизм
По мнению Н. Ю. Алексеевой, позиция Тредиаковского в 1750-е годы была уникальной, поскольку, став главным теоретиком русского классицизма, он не создал собственной поэтики и не стремился к её созданию. Ломоносов, издав свою «Риторику» в 1748 году, немедленно замыслил создать аналогичную «Поэтику» (что ему так и не удалось); в том же 1748 году и Сумароков опубликовал «Эпистолу о стихотворстве». По-видимому, мыслить о поэтике вне её традиционной, восходящей ещё к Аристотелю, формы было затруднительно для авторов середины XVIII века. Поэтика была удобна, ибо несла учение о неразрывном единстве стиха и смысла, едином и неизменном идеале поэзии. Тредиаковский, написав стиховедческий трактат и два независимых от него рассуждения о поэзии, отказался от выработанной веками традиции. Вероятно, это не было осознанным решением, а следствием его штудий в области стиха[169]. Здесь оказывались возможны самые радикальные прорывы: в статье «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» Тредиаковский представил первую историю русской поэзии вообще, и это же показывало, что он вышел за пределы классицистских поэтик, в которых вневременной идеал поэзии несовместим с её историческим осмыслением[170]. По мнению Е. А. Морозовой, Тредиаковский фактически предвосхитил исторический взгляд на поэзию, появившийся только в эпоху романтизма. Родственные романтизму взгляды продемонстрированы в статье «Мнение о начале поэзии и стихов вообще», в которой утверждается божественное значение поэзии, общее для классицизма и следующего за ним романтизма[171].
На фоне столь смелых прорывов в будущее в теории стиха Тредиаковский оставался архаичным. Он первым ввёл в русский стих тоническую меру, а далее, приняв силлабо-тонический принцип Ломоносова, разработал целостную систему русского стихосложения, но мыслил категориями предшествующих эпох. Например, в его учении о стихе центральной категорией оставался размер — стиховое единство, а не метр, на что обращал внимание Л. В. Пумпянский[167]. Например, Тредиаковский определял стих не видом стоп, а их числом: для него существовали гекзаметр (любой шестистопный размер), пентаметр, тетраметр и так далее. Ямбические это, хореические или трёхсложные шести-, пяти-, четырёх- и трёхстопники — для Тредиаковского имело второстепенное значение, поэтому он использовал греческие термины, в которых сам вид метра не указывался, что резко отличало его от Ломоносова. Так был построен его «Способ к сложению российских стихов»[172].
Выдвигая на первое место в учении о стихе размер, Тредиаковский исходил из вневременной и внеязыковой сущности стиха. Это давало ему широчайшие возможности для перевода стихотворных произведений с немецкого, французского, итальянского, латинского и древнегреческого языков. Василий Тредиаковский до начала XIX века был единственным русским поэтом, способным переводить латинские стихи не просто эквиритмично, а эквилинеарно, то есть с равным числом строк. Это же предоставляло ему широкое поле для экспериментов, но в рамках главной теоретической основы — идеалом стиха по-прежнему была Античность, а русская поэзия была тем лучше, чем глубже соответствовала образцам[173].
Соблюсти строгий принцип классицизма в первом томе «Сочинений и переводов» Тредиаковский не пожелал и рядом с манифестом французского классицизма и собственными рассуждениями поместил басни, источником которых были басни Иоахима Камерария. Тредиаковский взялся за стихотворный перевод латинской прозы, что следует классицистскому пониманию жанра басни, но его стихи и стиль полностью противоречат классицизму. Тредиаковский (в противоположность критике Сумарокова) показал, что категория стиля не была определяющей для него и он не стремился к соблюдению стилевого единства[174].
Второй том «Сочинений и переводов» оказался уникальным, поскольку его содержание составили стихотворения, написанные или переделанные в период работы над «Способом к сложению российских стихов». Переделка Тредиаковским своих старых вещей и «состязания» между ними вообще не знают аналогий, но достаточно понятны в свете его теории стиха и метода перевода. Тредиаковский оказался единственным автором силлабических стихов, который перевёл свои старые произведения в новую — силлабо-тоническую систему, основываясь при этом на представлении о синонимии разных метрических систем. Этот принцип он декларировал ещё в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов», заявив, что переработает все свои стихи[174]. Тредиаковский прекрасно понимал, что силлабическая поэзия мгновенно устарела с введением нового способа версификации, и «продлевал им жизнь». В частности, он переделал начальную строфу первой сатиры А. Кантемира. Исходил он при этом из классицистской вневременности стиха, поскольку идеальная его сущность независима от реального его облачения, то стихи принципиально переводимы на любой язык и размер. Метрика же при этом для стиха наименее значима[175].
Тредиаковский и Руссо
В состав второго тома своего собрания сочинений В. К. Тредиаковский уже на стадии набора срочно включил «Слово о мудрости, благоразумии и добродетели», ради чего пришлось исключить речь, посвящённую К. Г. Разумовскому (1746 года). Значительная часть «Слова…» содержит полемику с «Рассуждением о науках и искусствах» Ж.-Ж. Руссо, вышедшим в 1750 году и ставшим доступным для академиков в Петербурге осенью 1752 года[176]. Свою аргументацию Тредиаковский строил на христианском учении о первородном грехе и доказывал, что добродетель невозможна без просвещения; тогда как Руссо показывал, что человек от рождения безгрешен, поэтому искусство и наука разрушают его добродетель[177]. «Нелепость нового учения» Тредиаковский разоблачал в форме изощрённой инвективы, причём будучи страстным по натуре, он, по выражению Н. Алексеевой, мог не стесняться в выражениях, поскольку, в отличие от полемики с Ломоносовым и Сумароковым, это не грозило для него ответными действиями[178]. Кроме того, Тредиаковский впервые изложил для широкого читателя своё философское кредо, которое до сих пор крайне плохо изучено. В философии, по-видимому, для Василия Кирилловича наивысшим авторитетом был Самуэль Пуфендорф, с его охранительной политической философией, прочие учения, в том числе картезианство, которое он изучал в Париже, оспаривались в тех частях, которые были сомнительны с точки зрения веры. Вообще, по Н. Алексеевой, Тредиаковский философские вопросы мыслил в жёсткой системе и стремился замкнуть их круг, что может напомнить о схоластике[178].
Судя по всему, Тредиаковский осознавал, что приемлемая для него картина мира постепенно расшатывается и что новая философия несёт с собой неверие; пессимизм по этому поводу стал ощущаться среди русских мыслителей следующего поколения, в частности, А. Н. Радищева. Впрочем, Тредиаковский и здесь использовал привычные для него формулы: будущее несло с собой «языческую мглу», победить которую возможно только единством разума, веры и добродетели при самоограничении разума и строгости в устремлениях[179]. Средства выражения, использованные Тредиаковским, совершенно обычны для него: по Н. Алексеевой, речь «Слова о мудрости…» трудная, косноязычная и «спотыкающаяся», что должно было передавать его самоощущение, в частности, многословие и дробность пунктуации и частиц должны были защитить личность от непознаваемой огромности Космоса и упорядочить его. «В вопросах речи и стиля Тредиаковский, наиболее яркий и последовательный русский классицист по своему пониманию задач литературы и прививаемой им литературной культуре, оказывался далее всех своих современников от классицизма и даже как будто сознательно противостоял ему»[180].
«Псалтирь от Василия Тредиаковского»
Одним из следствий литературной войны Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова было обращение Василия Кирилловича к полному переложению Псалтири. В 1752 году он опубликовал статью «Мнение о начале поэзии и стихов вообще», в которой предложил теогенную природу поэзии, которая изначально представляла собой Божественный дар, поэтому главное предназначение поэта — славить Бога. Первыми поэтами были священники, в частности, Аарон, которому Бог дал дар прелагать откровения, переданные через косноязычного Моисея[181]. Итогом стала объёмистая рукопись, озаглавленная «Псалтирь, или книга псалмов блаженного пророка и царя Давида, преложенных лирическими стихами и умноженных пророческими песнями от Василия Тредиаковского в Санкт-Петербурге. 1753»[181]. Как и обычно, Тредиаковский предпослал «Предуведомление», в котором посвятил свой труд Церкви, а адресовал «Христоверным читателям российского племени»[181]. Однако и здесь европейское влияние первично — обосновывая необходимость своего труда, Тредиаковский апеллирует к европейским христианам, которые уже имели свои стихотворные Псалтири на национальных языках. Налицо реализация принципа подражания — одного из базовых для классицистов[181]. По-видимому, не менее важным для Тредиаковского было и использование авторитета ветхозаветного царя и пророка для повышения статуса поэта в светском обществе[181].
А. Растягаев предположил, что Тредиаковский действовал в парадигме мирской святости. Признавая, что учительность — прерогатива Церкви, поэт, как боговдохновленная фигура с сакральными функциями, также мог претендовать на учительство в светском государстве (в XVII веке в этом объединялись непримиримые антагонисты Симеон Полоцкий и протопоп Аввакум)[181]. По мысли А. Растягаева, в самоосознании творческой миссии Тредиаковского в этот период наступил перелом, завершившийся созданием «Телемахиды», — литература не должна воспевать царей и эстетизировать придворную жизнь. Задача литератора — просвещение народа и наставление монарха. А поскольку просвещённый монарх является центром социальной гармонии, поэт — его помощник в возвращении к «золотому веку»[181].
Увольнение из Академии
При реорганизации Академического университета в 1748 году Тредиаковский попытался заняться преподаванием, тем более, что набор учеников прошёл успешно. Василий Кириллович должен был читать курсы латинской орфографии (то есть грамматики) и стилистики на примерах «из лучших историков римских»[115], курс был рассчитан на два триместра, причём во втором должны были разбираться сочинения Цицерона; занятия начинались с 11 июня[182]. С того же периода Тредиаковский стал исполняющим обязанности секретаря в историческом собрании, которое было основано для разбора конфликта между академиками Миллером и Фишером. В возникшей дискуссии об оценке роли Ермака Тредиаковский занял сторону Ломоносова[183]. Из-за конфликта с Г. Тепловым и Шумахером по причине выработки академического устава (в частности, вопроса о штрафах, налагаемых на академиков) в феврале 1749 года академическая канцелярия отстранила Тредиаковского от занятий в университете. Формальной причиной были названы слабое здоровье и занятость переводами[184].
В 1748—1749 годах оказалось, что первый том «Древней истории» Роллена пользуется большим спросом у книгопродавцев, несмотря на высокую цену (1 руб. 50 коп.). Канцелярия Академии приняла решение увеличить тираж издания с 600 экз. до 2525 экз.; полностью издание в 9 томах было окончено в 1762 году; переводчику полагалось 12 авторских экземпляров[127].
К сентябрю 1749 — январю 1750 года относится активное участие Тредиаковского в дискуссии о диссертации Г. Миллера о происхождении русского народа. Василий Кириллович, по обыкновению, занял собственную позицию, которая совершенно не согласовывалась как с позицией немецких академиков, так и Ломоносова, который обвинил Миллера «в умышленном унижении славы России»[185]. В своей рецензии от 13 сентября 1749 года Тредиаковский занял подчёркнуто объективную позицию, заявив (в переводе на современный язык), что из-за крайней отдалённости исторической эпохи и небольшого числа исторических источников любая позиция историка по вопросу происхождения древнерусской государственности будет лишь реконструкцией:
Речь о происхождении народа и имени Российского, сочиненную господином профессором Миллером, не сыщется-ль в ней чего предосудительного для России, я, рассматривал со всяким возможным прилежанием, и нашел, что сочинитель по своей системе с нарочитою вероятностию доказывает своё мнение… Когда я говорю, что сочинитель сея речи с нарочитою вероятностию доказывает своё мнение, то разумею, что автор доказывает токмо вероятно, а не достоверно… Но сия его вероятность по та у меня будет нарочита, пока кто другой большия и достовернейшия не подаст в рассуждении сего. Сверх всего того нет, почитай, ни единого в свете народа, у которого первоначалие не было б тёмно и баснословно. Следовательно, я не вижу, чтоб во всём авторовом доказательстве было какое предосуждение России…[186]
21 июня 1750 года Тредиаковский представил расширенный вариант рецензии, которая показывает, что он согласился с аргументацией Миллера в варяжском вопросе, но при этом — в русле собственных теорий — считал варягов славянами[186].
Тяжелейшим в карьере Тредиаковского оказался 1755 год, которому предшествовала двухлетняя тяжба с Академией и Синодом об издании стихотворного переложения «Псалмов», а также прекращение издания последующих томов «Истории» Роллена. С начала 1755 года Академия стала издавать журнал «Ежемесячные сочинения», на страницах которого Тредиаковский опубликовал статьи «Об истине сражения у Горациев с Куриациями в первые Римские времена в Италии» (мартовская книжка) и перепечатал «О древнем, среднем и новом стихотворении Российском» (июньская). Последняя вновь поставила Василия Кирилловича в центр скандала, поскольку была опубликована в авторской орфографии, причём Тредиаковский впервые использовал «единитные палочки» — дефисы, с помощью которых соединялись слова, на которые делался акцент в предложении[187]. Ломоносов напечатал на это крайне несдержанную эпиграмму, в которой были такие слова:
|
Тредиаковский ответил несколькими статьями и столь же некорректными стихами, в которых выступил противником реформы русского языка и защищал его церковнославянскую основу[189]. Возобновившаяся литературная война не помешала тактическому союзу Тредиаковского и Ломоносова выступить против предпочтения при назначениях Академией иностранных специалистов русским, о чём они писали в представлении от 27 марта 1755 года, оставшемся без ответа[190]. Вскоре и Сумароков вмешался в конфликт, причём последний разворачивался точно так же, как и в 1748—1750 годах: Академия помещала стихи и критические материалы Сумарокова в свои издания, но не печатала опровержений Тредиаковского; ему удалось опубликовать единственное лирическое стихотворение под именем Нартова и ещё две заметки анонимно. В октябре 1755 года раздражённый Тредиаковский отправил на Сумарокова донос в Святейший Синод. Этот шаг стал известен Сумарокову, который в ноябре добился постановления Академии о недопущении критических высказываний Тредиаковского против него[191]. Тредиаковский в ответ подал в ноябре жалобу против Миллера, который, будучи учёным секретарём Академии, якобы не пропускал в печать его сочинений[192]. Г. Миллер же обратился к президенту Академии Разумовскому, в результате Тредиаковский обиделся окончательно и пришёл к выводу, что лично против него в Академии существует заговор[193]. Эти мотивы неоднократно повторялись в протоколах Академии за 1756—1757 годы, то есть конфликт принял затяжной характер. Он усугублялся некими «припадками» у Тредиаковского, которые были немаловажным аргументом против его действий[194].
В марте 1757 года Тредиаковскому в очередной раз было отказано в праве преподавания латинской стилистики[195]. В апреле 1757 года он обратился в Синод в надежде опубликовать свою новую трагедию «Феоптия» и переложение псалмов на современный русский язык стихами. Поначалу дело продвигалось, и был подписан договор с московской Синодальной типографией, причём Тредиаковский отправил подробные инструкции, в какой орфографии (кириллицей, а не гражданским шрифтом) должны быть напечатаны его сочинения. Синод «из уважения к бедности» Тредиаковского брал расходы на себя[196]. Но вскоре и здесь решение было пересмотрено, и книги оказались запрещены к печатанию. Как установил А. Б. Шишкин, изучая документы синодального архива, против Тредиаковского выступил только что назначенный директором Синодальной конторы М. М. Херасков[197]. «Псалтирь» Тредиаковского так и осталась неопубликованной до 1989 года[198]. Тогда же начался скандал из-за шуточного стихотворения Ломоносова о бородах, к которому Тредиаковский отнёсся серьёзно, за что и был удостоен эпиграммы про шута Тресотина. Это стало последним ударом для Тредиаковского, который «слёг» (по словам Н. Ю. Алексеевой, «заболел или запил») и перестал ходить в Академию[197].
Через год президент Академии граф Разумовский приказал не выплачивать Тредиаковскому жалованья и потребовал от него объяснения. Василий Кириллович прислал документ из 16 частей, в котором имелись следующие слова:
…ненавидимый в лице, презираемый в словах, уничтожаемый в делах, охуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, ещё и во нравах (что сего бессовесне?) оглашаемый, всеж то или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или наконец его собственной потребности, что употребляющего меня праведно и с твердым основанием (и), в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых, всемерно низвергнуть в пропасть бесславия, всеконечно ужé изнемог я в силах к бодрствованию: чего ради и настала мне нужда уединиться…[199]
3 и 15 ноября 1758 года Тредиаковский подавал прошения о возобновлении выплат и жаловался на «ипохондрию и гемоптозис». В ответ от имени графа Разумовского пришло письмо, содержащее требование вернуться на службу и продемонстрировать проделанную за два последних года работу. Тредиаковский направил на это прошение об отставке, датированное 23 марта 1759 года. Через неделю, 30 марта, академическая канцелярия, делами которой тогда распоряжались Ломоносов и Тауберг, прислала постановление об увольнении Тредиаковского из Академии с выплатой положенного ему на день отставки жалованья, в том числе 200 рублей, должных им банковской конторе по вексельному производству. Тредиаковский просил выписать ему жалованье за последнюю неделю марта и за апрель за корректуры, которые он держал, но в этом ему было отказано[200].
Последние годы жизни. «Телемахида» (1759—1769)
После увольнения
После увольнения из Академии Тредиаковский потребовал паспорт и аттестат (соответственно, 17 и 23 июня 1759 года) ввиду «отъезда для собственных нужд и для житья в Москву», которые и были ему выданы[201]. Тем не менее, Тредиаковский так и не перебрался в старую столицу и не изменил образа жизни и рода занятий. В 1759 году его сонет и статья «О мозаике» были опубликованы в журнале Сумарокова «Трудолюбивая пчела». В последней Тредиаковский заметил, по поводу мозаик Ломоносова, что при всей красоте и долговечности они не могут заменить масляной и фресковой живописи в передаче натуры. М. Ломоносов, однако, обиделся на этот отзыв и вспоминал об этом даже спустя три года[202]. В конечном счёте и издание Сумарокова оказалось негласно закрытым для Тредиаковского[197], а вскоре вовсе прекратило своё существование. К 1760 году материальное положение Тредиаковского настолько ухудшилось, что он поместил в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 69, август) объявление следующего содержания:
Некоторый заработок, по-видимому, давала корректура продолжавшей печататься «Древней истории» Роллена (готовился седьмой том); в мае 1760 года Василий Кириллович напоминал Академии, что ему положено 12 экз. каждого вновь выходящего тома, в том числе 2 в переплётах на тонкой бумаге (любекской и александрийской) и 10 — без переплёта. 29 мая это требование было исполнено[204].
«Житие канцлера Франциска Бакона»
В том же 1760 году типография Московского университета выпустила в свет новый перевод Тредиаковского в двух частях. Первая включала «Житие канцлера Франциска Бакона», вторая — «Сокращение философии канцлера Франциска Бакона». Как всегда у Тредиаковского, для перевода было взято недавнее издание авторитетного французского автора — в данном случае Александра Делейра[fr], чья «La vie du chancelier Francois Bacon» была выпущена в 1755 году. В оригинале жизнеописание Бэкона и его философия излагалась от первого лица, причём цитаты из бэконовских сочинений не выделялись и были органично включены в авторский текст. Перевод Тредиаковского был двойным, поскольку биографию Бэкона Делейр заимствовал у шотландского драматурга Дэвида Моллета[en][205]. В английском оригинале был очевиден политический подтекст — Бэкон как философ-просветитель противопоставлялся тирании британских монархов его времени; во французском переводе эти моменты были ещё более заострены в духе просветительской идеологии[206].
Тредиаковский, в соответствии со своими воззрениями, использовал традиционный жанр жития, превращая светскую биографию в своего рода агиографию. Это была первая русская книга, которая знакомила российского читателя с теориями английского и французского Просвещения, причём переводчик вполне отдавал себе отчёт в преобразованиях, которые произошли во Франции с философией Бэкона:
«Можно видеть в подобном составе познаний человеческих, который обретается по предварительной речи в Энциклопедии, сколько сие изобретение нашего автора (то есть Бэкона), исправленное и в совершенство приведенное искусною рукою, произвело порядку, света и способа в сей материи»[207]
При всём традиционализме Тредиаковского в плане формы он излагал весьма радикальные идеи: некоторые пассажи книги были откровенной проповедью материализма. При изложении теории познания Бэкона, его метода и теории опыта делалась попытка отделить науку от религии; причём глава «О безбожии и суеверии» вызвала гнев Ломоносова, который назвал Тредиаковского «безбожником и ханжой». Основанием для этого послужил пассаж, в котором Делейр с иронией писал, что «атеист, далёкий от возмущения, — это гражданин, заинтересованный в общественном спокойствии из любви к своему собственному покою», тогда как Василий Кириллович из перевода иронию убрал[208]. Значительную часть второй книги — «Сокращения философии» — занимали «нравственные очерки», которые переводчик специально подобрал для русского читателя как образцы европейской «нравственной» или «практической» философии[208]. О качестве перевода свидетельствует факт, что Тредиаковский сохранил Делейров анализ состояния наук и политической ситуации XVI—XVII веков, который был помещён не в начале биографии, а в её конце. Можно было из текста понять и политические замыслы Тредиаковского — он перевёл «Опыт о королеве Елизавете», который был панегириком на правление Елизаветы Английской, что, несомненно, намекало на Елизавету Петровну, которой рекомендовалось иметь при дворе благородного и прямого просвещённого министра, способного убедить государыню доводами разума[209].
Тредиаковский-переводчик явно заботился о понятности текста для своего потенциального читателя: например, «вложение денег» он переводил как «накупить сёл и деревень», а экзотическое для тогдашнего россиянина понятие «пэр» передавал как «большие бояры». Поскольку в русский язык того времени вводилось большое число новых исторических, политических и социологических понятий, к ним прилагались пространные примечания. Например, впервые введя термин «эпоха», Тредиаковский пояснял: «Эпоха, по словам, есть расстановка, остановка, постановка; но по знаменованию началочисление лет, соименное ей слово есть Эра»[210]. Вплоть до перевода «Новой Атлантиды» 1821 года труд Тредиаковского оставался единственным доступным на русском языке описанием философской системы Ф. Бэкона[210].
«Римская история»
 12 января 1761 года Тредиаковский обратился в Академию с предложением опубликовать в его переводе 15-томную «Римскую историю» Роллена как продолжение подходящей к концу «Древней истории». Издание должно было выходить в томах того же объёма и формата, тиражом 2400 экз. Тредиаковский планировал финансировать издание «своим коштом», но в количестве не менее двух томов в год; к заявлению прилагался перевод предисловия. Канцелярия Академии предложение приняла, но потребовала по 100 рублей предоплаты за каждый том, с чем Тредиаковский согласился. Первый том новой «Истории» вышел в свет уже в июле того же года[211]. Издание первого тома обошлось академической типографии в 1916 рублей, из которых в сентябре Тредиаковский внёс 1100. Однако к февралю следующего года в Петербурге было куплено только 74 книги и в Москве — ещё 42 экз., а дома у переводчика оставалось 202 неразошедшихся экземпляра. Второй том, вышедший тогда из печати, потребовал расхода в 1673 рубля, и тогда переводчик 15 апреля 1762 года предложил Академии другую финансовую схему. Деньги на печатание первого тома он взял в долг, вернуть который был не в состоянии. Поскольку к апрелю 1762 года в наборе был уже 4-й том, Тредиаковский передавал предприятие на казённый счёт, взамен чего по факту каждого сданного в типографию тома требовал 300 рублей гонорара и полной компенсации стоимости первого тома, не считая 4 экз. готовых изданий без переплёта. 22 мая 1762 года Академия приняла условия Тредиаковского, учтя, что он не имел других источников дохода, но с поправками — гонорар перечислялся за каждый том, вышедший из печати. К февралю 1766 года все 15 томов «Римской истории» увидели свет[212]. Сверх того, 22 октября 1762 года Тредиаковский получил 200 рублей за хронологические таблицы и алфавитные указатели к «Древней истории»[213].
12 января 1761 года Тредиаковский обратился в Академию с предложением опубликовать в его переводе 15-томную «Римскую историю» Роллена как продолжение подходящей к концу «Древней истории». Издание должно было выходить в томах того же объёма и формата, тиражом 2400 экз. Тредиаковский планировал финансировать издание «своим коштом», но в количестве не менее двух томов в год; к заявлению прилагался перевод предисловия. Канцелярия Академии предложение приняла, но потребовала по 100 рублей предоплаты за каждый том, с чем Тредиаковский согласился. Первый том новой «Истории» вышел в свет уже в июле того же года[211]. Издание первого тома обошлось академической типографии в 1916 рублей, из которых в сентябре Тредиаковский внёс 1100. Однако к февралю следующего года в Петербурге было куплено только 74 книги и в Москве — ещё 42 экз., а дома у переводчика оставалось 202 неразошедшихся экземпляра. Второй том, вышедший тогда из печати, потребовал расхода в 1673 рубля, и тогда переводчик 15 апреля 1762 года предложил Академии другую финансовую схему. Деньги на печатание первого тома он взял в долг, вернуть который был не в состоянии. Поскольку к апрелю 1762 года в наборе был уже 4-й том, Тредиаковский передавал предприятие на казённый счёт, взамен чего по факту каждого сданного в типографию тома требовал 300 рублей гонорара и полной компенсации стоимости первого тома, не считая 4 экз. готовых изданий без переплёта. 22 мая 1762 года Академия приняла условия Тредиаковского, учтя, что он не имел других источников дохода, но с поправками — гонорар перечислялся за каждый том, вышедший из печати. К февралю 1766 года все 15 томов «Римской истории» увидели свет[212]. Сверх того, 22 октября 1762 года Тредиаковский получил 200 рублей за хронологические таблицы и алфавитные указатели к «Древней истории»[213].
Выбор фундаментального труда Роллена подробно обосновывался Тредиаковским в «Предуведомлении» к первому тому перевода. Он поместил там краткую биографию своего учителя — как прямо его назвал — и не скупился на похвалы: «Шарль Роллен есть другий Демостен по греческому, а Цицерон другий — по латинскому языку». В предисловии к восьмому тому он поместил «Похвалу Роллену» Клода де Боза в собственном переводе[214]. Вообще Тредиаковский всегда прилагал к своим переводам и «предуведомления», а также статьи, содержание которых, по замечанию Н. Алексеевой, зачастую вообще не было связано с соответствующим томом, справедливо рассчитывая на недосмотр академической канцелярии. Некоторые из его статей тесно связаны со «Словом о мудрости…», особенно это касается литературного стиля[215].
Стиль прозы Тредиаковского ориентирован даже не на искусственный славяно-русский книжный язык XVII века, а в первую очередь на классический латинский язык с его инверсиями, герундивом и использованием винительного падежа с инфинитивом и постановкой глагола в конце фразы. По словам Л. Пумпянского, «в соединении со славянизацией словаря латинизация синтаксиса приводит к фразам, в своём роде единственным»[131]. Он же отмечал, что Тредиаковский, по-видимому, совершенно сознательно противопоставлял язык и стиль своих переводов «сглаженному языку дворянской литературы Сумарокова и его школы»; сам он желал передать «трудный предмет трудным языком эрудиции, филологии и специальных знаний»[131]. Это же позволяло ему не бояться просторечия, что характерно и для его поэзии; поэтому обиходные вещи он переводил простыми словами. Л. Пумпянский приводил пример из 16-го тома «Римской истории»:
«…Однако Клеопатра, бывши царицею щепеткою [кокеткою]… что она издержит на страву [еду] одна десять миллионов сестерций… велела ставить на стол заедки [десерт]… не видавших никогда моря, как-то жнецов, мельников и рабят, бывших почитай ещё в своем отрочестве…»[131].
В 1767 году Тредиаковский издал в своём переводе продолжение «Римской истории», написанное учеником Роллена — Кревье[fr] («История о римских императорах с Августа по Констатина»)[216]. По стилю и содержанию этот перевод ничем принципиально не отличался от своего предшественника. Л. Пумпянский приводил характерную цитату: «таковы суть главнейшие приключения девятого Августова консульства. Опущены также некоторые бытия [события] маловажные: но не могу умолчать благочтивости сыновския, явленныя от одного трибуна именованного от Диона Торанием»[131].
По совокупности заслуг Академия ходатайствовала о присвоении Тредиаковскому чина надворного советника, которым он именовался с начала 1765 года[217].
«Телемахида»
В 1765 году в академической типографии случился простой в работе, и в Канцелярии вспомнили о выполненном ранее Тредиаковским с французского языка переводе сочинения Абулгази. В мае рукопись была отправлена к Василию Кирилловичу с условием, что он пересмотрит перевод и сверит правильность написания географических названий и имён со специалистом по татарскому языку (имя которого неизвестно). В качестве гонорара полагалась часть готового тиража[218].
В ноябре того же 1765 года Тредиаковский подал заявление в академическую канцелярию о напечатании «книги, именуемой „Телемак“, мною переведённой вновь, и названной „Тилемахидою“» в двух томах тиражом 400 экз. за счёт автора[219]. В апреле 1766 года последняя большая работа Тредиаковского увидела свет. Финансировал её сам автор из гонораров за перевод XVI тома «Римской истории» Роллена, всего издание обошлось в 613 рублей[220].
Василий Кириллович предпослал своей работе большое «Предызъяснение об ироической пииме», значительная часть которого, по сообщению П. Пекарского, составлял перевод Discours sur poème épique, помещаемой во французских изданиях «Телемака». Однако Тредиаковский включил туда и собственные рассуждения, чрезвычайно важные для понимания его интеллектуального и поэтического развития[221]. Например, описывая историю публикации русских переводов романа Фенелона, В. Тредиаковский ясно давал понять, что он подводил черту под большим этапом литературной традиции[222]. Большое место в предисловии занимало обоснование метода и стиля перевода. По мнению Л. Пумпянского, опыты Тредиаковского с гекзаметром объяснялись его личными вкусами в литературе, которые тяготели к повествовательной поэзии, а не к оде. В результате «Телемахида» может быть охарактеризована как политический роман в форме гомеровской поэмы, но при этом В. К. Тредиаковский «думает о читающей публике; именно для неё он хочет создать высококультурную беллетристику, поучительную и заодно сюжетно-занимательную»[223].
Остановившись на романе Фенелона «Приключения Телемака», Тредиаковский увидел в нём героическую поэму — своего рода «перевод» французской прозой неизвестного античного оригинала. Такая задача вполне соответствовала эстетике классицизма вообще и самого оригинала Фенелона в частности. Тредиаковский же ставил принципиально иную задачу — «пробиться» сквозь фенелонов «перевод» к идеальному античному «оригиналу»[224]. Отсюда изменение заглавия: вместо «Приключений Телемака» (фр. Les aventures de Télémaque) — «Телемахида», не романное заглавие, а эпическое[225]. В «Предызъяснении» Тредиаковский описывал и принципы передачи античных имён и названий, которые использовал в поэме. Т. Ю. Громова отмечала, что «благодаря гекзаметру и многочисленным архаизмам, „Телемахида“ оказалась не столь вненациональной, абстрактно-повестовательной, как эпос-роман Фенелона…, ожили её греческие корни»[226]. Тредиаковскому казалось, что новогреческое произношение («восточное» в его терминологии) является «благопристойнее и лепотнее» и отказался от привычных имён гомеровского мира: «Тилемах», а не Телемах или Телемак; Одиссей, а не Улисс; «Омир», вместо Гомера; «ирой, ироический», а не «героический»; «пиима», а не «поэма». Эти объяснения П. Пекарский охарактеризовал как «вычурные»[227].
Древня размера стихом пою отцелюбного сына,
Кой, от-природных брегов поплыв и странствуя долго,
Был провождаем везде Палладою Ментора в виде:
Много ж коль ни-страдал от гневныя он Афродиты,
За любострастных сея утех презор с омерзеньми;
Но прикровенна премудрость с ним от-всех-бед избавляла,
И возвратишуся в дом даровала рождшего видеть.
<...>
...Слог «Одиссии» веди стопой в Фенелонове слоге:
Я не-сравниться хощу прославленным толь стихопевцам:
Слуху российскому тень подобия токмо представлю,
Да громогласных в нас изощрю достигать совершенства[228].
Главной проблемой автора-переводчика стала неразработанность гекзаметра в русском языке, поэтому стих Тредиаковского имеет экспериментальный характер[226]. Особую роль в теориях Тредиаковского играло использование безрифменного стиха, который в филологической мысли современного ему Запада связывался с существованием особого поэтического языка, противопоставленного прозе. Вслед за Лами, Ролленом и Фонтенелем Тредиаковский понимал безрифменный стих древних языков как благородный, а рифмованный — как «варварский» и простонародный. Пользуясь нерифмованным гекзаметром Василий Кириллович доказывал, что литературный русский язык по всем своим свойствам подобен образцовым — античным — языкам[229]. Согласно французским представлениям, рифмованный александрийский стих и подходил для эпической поэмы на современном языке, тогда как нерифмованный гекзаметр свойственен античному эпосу, свободному от пуристических ограничений; образцом для последнего служил Гомер. Тредиаковский, в противоположность Фонтенелю, Гомера оценивал очень высоко и в «Предызъяснении» даже писал о «тесноте» французского языка и метрической бедности французской поэзии. Метрическому богатству древнегреческой и латинской поэзии соответствует только русский язык, произошло это по причине генетической преемственности: от древнегреческого к церковнославянскому, а от него — к современному русскому языку[230].
По словам Л. Пумпянского, автор «приложил сам все усилия к тому, чтобы обеспечить за своим большим делом непонимание и критическое пренебрежение». Речь идёт, в первую очередь, об изобретении «единитных палочек», которые должны были графически показывать интонацию, но «обезображивали графику стиха»[231]. Особые нарекания современников вызывало словоупотребление Тредиаковского, поскольку он «с безграничной свободой» совмещал церковнославянизмы, в том числе редкие, и разговорное просторечие[232]. По подсчётам академика А. С. Орлова, Тредиаковский ввёл более 100 составных прилагательных в русский язык по гомеровскому образцу, в том числе «медоточивый», «многоструйный», «громогласный», «легкопарящий». Имелись и смелые неологизмы: «денно-нощно», «огненнопылкий»[233]. Как показал Д. Чижевский в 1940 году, большинство сложных слов, используемых Тредиаковским, находят прямое соответствие в церковнославянских текстах и являются трансформацией допетровской традиции. Однако традиция служила его собственной цели — доказательству, что новый литературный русский язык способен передать лексическое изобилие древних — церковнославянского и древнегреческого[234].
Произведение и его автор сразу же стали объектом насмешек и нападок при почти полном молчании ведущих тогдашних литераторов. Главным критиком «Телемахиды» выступила лично Екатерина II. Во «Всякой всячине» (1769) — журнале, фактическим редактором которого была императрица, — стихи «Телемахиды» рекомендовались как средство от бессонницы. В шуточных правилах Эрмитажа, составленных лично Екатериной, за проступок (по другим сведениям: за употреблённое в разговоре иностранное слово) полагалось в виде наказания выучить наизусть шесть стихов «Телемахиды»[235]. Этот факт приводился у Н. М. Карамзина и в словаре митрополита Евгения для доказательства неудобочитаемости и неудобопроизносимости гекзаметров Тредиаковского[236]. По мнению Г. Гуковского, «есть серьёзное основание полагать, что насмешки Екатерины II над педантической тяжеловесностью поэмы Тредиаковского были внушены желанием дискредитировать политически неприятную и неудобную книгу», чей идеал законосообразной и либеральной монархии был едва ли не крамолой в первые годы после государственного переворота 1762 года, в то время как во Франции того времени он уже становился анахронизмом[237]. Характерно, что из младших современников в защиту Тредиаковского выступили оппозиционеры — Н. Новиков (в издаваемом им журнале «Трутень»[238] и «Опыте исторического словаря российских писателей»[239]) и А. Н. Радищев. Последний посвятил Тредиаковскому статью «Памятник дактилохореическому витязю» (1801)[240], в которой одновременно спародировал высокопарность эпоса Василия Кирилловича, но и описал стихами «Телемахиды» собственный жизненный путь[241].
Последние труды. Кончина
В 1768 году Тредиаковский вступил в переписку с И. Л. Голенищевым-Кутузовым — директором Морского кадетского корпуса — об издании в типографии этого заведения сочинения Вольтера «Опыт исторический и критический о разногласиях церквей в Польше», в оригинале напечатанный под псевдонимом «Жозеф Бурдильон»[242]. В предисловии переводчика прямо не указывается имя вольнодумца, но сделан прозрачный намёк на предложенную Вольтером реформу французской орфографии. На выбор переводимого текста оказало воздействие и то, что в «Опыте…» православию явно отдавалось предпочтение перед католицизмом[243]. В письме Голенищеву-Кутузову от 22 апреля 1768 года содержится и последнее свидетельство о собственной жизни Василия Кирилловича, он жаловался на резкое ухудшение здоровья: у него отнялись ноги. Тредиаковский скончался 6 августа 1769 года[Прим 19] и был погребён на Смоленском кладбище[243]. Захоронение его утрачено[245][7].
Тредиаковский — музыкант и композитор
Музыкальное творчество Тредиаковского известно сравнительно мало, поскольку почти всё нотное наследие сохранилось в рукописных сборниках, в большинстве случаев уникальных и труднодоступных; часть материалов, видимо, утрачена. В 1952—1958 годах часть этих материалов была опубликована Т. Н. Ливановой и А. В. Позднеевым, а также была обобщена в исследовании Ю. В. Келдыша о русской музыке XVIII века (1965). В 1980-е годы в фондах Центральной научной библиотеки АН Украинской ССР были найдены рукописи шести из семи духовных концертов Тредиаковского, чьё исполнение неоднократно описывалось современниками; все рукописи снабжены указанием авторства[246]. Наибольшее количество музыкальных произведений самого Тредиаковского и переложений его стихов осталось от 1730—1740-х годов, то есть периода наибольшей известности его как поэта[247].
Первоначальное музыкальное образование Тредиаковский получил от отца-священника; в латинской школе капуцинской миссии музыка преподавалась наравне с риторикой и языками, это было так называемое «партесное пение». Уже в стиховедческих работах 1730-х годов он прямо указывал на связь между стихосложением и музыкальным искусством и писал, что «тонический принцип был введён в русское стихосложение под влиянием народной песни». В «Ответе…» с рассуждением об античной строфе он писал о «столповом» и «демественном» пении и приводил нотные примеры для наглядной демонстрации стиха у Гомера и Вергилия. Музыка, таким образом, для Тредиаковского была неотделима от поэзии[248].
Первые музыкальные опыты Тредиаковского, предпринятые ещё до отъезда в Европу в 1720-е годы, неотделимы от попыток тонировки стиха. Некоторые опусы увидели свет в «Стихах на разные случаи». Самым известным произведением Тредиаковского была песня «Начну на флейте стихи печальны…», которая входила в число 12 самых известных во всём XVIII веке и сохранилась, как минимум, в 36 рукописях. Текст был опубликован в составе «Езды в остров Любви» под названием «Стихи похвальные в России», но в одной из рукописей он носит название «Псалом России». Мелодия песни при гармонической поддержке партии баса отличается устойчивостью во всех рукописных списках. Музыкальная структура строфы соотносится с поэтической, рифмованным строкам соответствуют чёткие, уравновешенные музыкальные построения. Первые четыре такта повторяются (4+4), третьей паре рифмованных строк соответствует секвенция (2+2 — дробление в третьей четверти), припев выделен двумя парами заключительных тактов[247]. В 1752 году автор переработал «Стихи похвальные России» на силлабо-тонический стих и создал новый вариант песни, начинавшейся словами «Начни, начни, моя свирель!»[249].
В Государственном историческом музее сохранился трёхголосный песенник, содержащий 23 стихотворных переложения текстов (всего 319 стихов) из романа «Езда в остров Любви». Н. Сохраненкова высказывала мнение, что краткость метра стихотворных вставок Тредиаковского в романе объясняется именно первоначальным песенным предназначением этих текстов[250]. Все стихотворные отрывки в этом сборнике едины в музыкальном отношении: в основном структура музыкальной строфы свободно, то есть не всегда одинаково, следует за поэтической структурой — наблюдается акцентное перемещение с сильной доли в такте на относительно сильную или даже слабую. Цезуры чётко следуют за поэтическим текстом строк[251].
Сравнительный анализ стихотворных переводов из Тальмана с партесными многоголосыми сочинениями Тредиаковского (духовными концертами) демонстрирует родство «нотного почерка», близость использования ритмо-интонационных приёмов. Концерты были написаны в 1730-е годы, а сохранившийся сборник кантов датирован 1742-м годом. Позднее Тредиаковский предпринял также переложение псалмов, которые во многом отличны по музыкальному складу от своих предшественников по жанру. Переложения Тредиаковского более эмоциональны; ритм отделён от движения гармонии, а местами — даже от движения среднего голоса. Соотношение музыкальных строк параллельно стихотворному тексту (перекрестные рифмы-аналогии нечётных и чётных строк), строфа выходит за пределы одной ладотональности[252].
Вклад В. Тредиаковского в развитие русской музыки был двояким. С одной стороны, он активно переводил первые итальянские интермедии и первую оперу, поставленную в России. Его главной задачей в этом отношении было донести до русского слушателя различные жанры итальянской оперы 1730-х и последующих годов. В этом отношении он положил начало всем последующим этапам развития русского музыкально-драматического театра. По мнению Т. Н. Ливановой, важнейшим для него самого был русский кант во всех его связях и разновидностях. Своим самостоятельным творчеством Тредиаковский подготовил основания для развития русской вокальной лирики и её жанровых форм[253].
Оценки творчества
См. также Василий Тредиаковский в художественной литературе и публицистике
Первую попытку литературоведческого анализа, совмещённого с поиском места Тредиаковского в истории русской литературы, предпринял в связи с переизданием его сочинений в 1849 году Иринарх Введенский[255]; в том же году призыв к пересмотру научного и литературного статуса писателя опубликовал и Пётр Перевлесский в предисловии к московскому изданию «Избранных произведений»[256]. Филологи середины XIX века, в первую очередь — А. А. Куник и П. П. Пекарский, предприняли существенные усилия для воссоздания биографии и разоблачения ряда расхожих мифов, но это практически не отразилось на восприятии его как поэта и писателя. По словам П. Е. Бухаркина, «крупным и даже дерзостным талантом, потенциально способным направить литературное движение в предначертанное им русло, Тредиаковского никто не считал»[257]. В статье Е. Ляцкого для энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (1901) он характеризовался как «выдающийся русский учёный и неудачный поэт»[258]. Ещё в 1920-е годы Д. П. Мирский категорически заявлял, что творчество Василия Кирилловича «стало, едва появившись, олицетворением всего педантичного и уродливого»[259].
Только в 1930-е годы усилиями Л. В. Пумпянского и Г. А. Гуковского началось признание научных заслуг Тредиаковского: литературоведы нового поколения признали его «яркой творческой личностью с могучими мыслительными возможностями», именно тогда достоянием науки стали положительные пушкинские отзывы и суждения Радищева. Реабилитация роли Тредиаковского в культуре последовала в первую очередь в работах Л. Пумпянского. Исследователи второй половины ХХ века — в первую очередь А. А. Алексеев, Н. Ю. Алексеева, А. Б. Шишкин, Б. А. Успенский и другие — сделали высокий литературный статус писателя едва ли не бесспорным[257]. Л. В. Пумпянский рассматривал Тредиаковского как «вечного предшественника»[260], однако П. Е. Бухаркин и Н. Ю. Алексеева в начале XXI века по-другому определяли его статус. По словам П. Бухаркина, Тредиаковский, «безусловно, являлся предтечей новой русской литературы, но он интересен сам по себе и вне порождённого им, и пошедшего по другим путям литературного течения. Он предложил самобытный, хотя и имеющий многочисленные западные параллели, проект развития русского языка и литературы, который был отвергнут современниками и ближайшими потомками, и был в полной мере воспринят лишь эстетическим сознанием ХХ века»[261].
По мнению Б. А. Успенского, Тредиаковский «был человеком одной идеи», который рано осознал свою культурную миссию — просвещение своего Отечества, которое связывал с западноевропейской культурой, но при этом относился к своей миссии «почти религиозно — самоотверженно и с полной отдачей». В то же время в культурном облике Тредиаковского проявился и образ разночинца, который станет типичным явлением культурной жизни России спустя столетие, — «тип человека, который всеми способами стремится получить образование, выбиться в люди только для того, чтобы затем бескорыстно и самоотверженно служить своему отечеству»[262]. В силу того, что Тредиаковский — типичная фигура переходного времени, но при этом являющаяся воплощением крайностей, «человеком без середины»[263], он вписывался одновременно в разные системы ценностей и принадлежал двум эпохам — времени, в котором жил, и времени, которое он предвосхитил[262].
Напишите отзыв о статье "Тредиаковский, Василий Кириллович"
Комментарии
- ↑ В «Истории Императорской Академии наук» П. Пекарского портрет датировался 1766 годом, то есть объявлялся единственным прижизненным[1]. По современным представлениям, он выполнен в 1800-е годы по гравюре А. Я. Колпашникова, опубликованной уже после смерти В. Тредиаковского[2].
- ↑ Официально миссия создавалась для окормления обращённых в католицизм армян, которые селились в пределах России, соответственно и храм в честь Успения Девы Марии располагался в армянском квартале. Миссионеры довольно быстро перешли к проповеди в среде православного населения, несмотря на протесты и жалобы епископа Иоакима[10].
- ↑ «Ведомость» — аналог современного curriculum vitae. Чаще всего они прикладывались Тредиаковским к его прошениям об увеличении жалованья. Сохранилось несколько таких ведомостей от 1740—1750-х годов.
- ↑ Соответственно: Bonaventura Celestini da Città di Castello и Giovan Battista Primavera da Norcia[12].
- ↑ Текст грамматики воспроизводит сокращение труда Мелетия Смотрицкого, опубликованное в Кременце в 1638 году[13].
- ↑ Тредиаковский после отъезда в Москву оставил супругу в Астрахани; детей, по-видимому, у них не было. Во время чумной эпидемии 1728 года скончались почти все родственники Василия, включая его отца, который к тому времени постригся в иеромонахи под именем Климента. Жена Федосья скончалась раньше свёкра — в марте 1728 года, выжила только сестра Мария с малолетним сыном, которая вела с городскими властями долгую тяжбу из-за имущества, доставшегося от снохи[16].
- ↑ Л. В. Пумпянский, не имея доступа к рукописи 1725 года, считал невероятной столь раннюю попытку перевода, но допускал, что Тредиаковский роман читал и высоко оценивал[21].
- ↑ Иван Петрович Калушкин (? — 1742) — русский дипломат, обучался в Германии. После окончания службы в Париже был направлен резидентом в Иран. Некоторые сведения о нём и других персонах круга Головкина—Куракина можно почерпнуть из статьи П. И. Хотеева[42].
- ↑ Тредиаковский переводил роман с издания 1713 года, гравюра, помещённая на фронтисписе, идентична украшающей французское издание и голландский перевод. Гравюра изображает корабль, стоящий в виду острова, на побережье которого прогуливаются дамы. Рядом помещена ладья, которой правит Амур, на ней помещена пара влюблённых[44].
- ↑ Оригинал на французском языке — L’Etat militaire de l’empire ottoman — вышел в 1732 году. Заказ на перевод Тредиаковскому сделал президент Академии — дипломат барон Корф, 25 июня 1736 года. Перевод был выполнен очень быстро и вышел в 1737 году тиражом 1200 экз., но вызвал нарекания И. Шумахера именно из-за комментариев переводчика, о чём писал А. Вешнякову в октябре того же года[68].
- ↑ В оригинале — «Тартюфы».
- ↑ В 1737 году Тредиаковский утратил всё имущество при пожаре, тогда как Академия сильно задолжала ему жалованье. Всего он трижды лишался имущества при пожарах[76].
- ↑ В прошении на Высочайшее имя от апреля 1740 года Тредиаковский заявлял, что сочинил эти стихи, находясь в «несостоянии ума» от побоев. Б. А. Успенский в комментарии к шутовскому приветствию обращал внимание, что шутовские драки были одним из любимых развлечений Анны Иоанновны; публичное избиение Тредиаковского в этой связи носило и ритуальный характер[92]. Текст стихотворения печатался с невосстановимыми купюрами в 1842 и 1880 годах, с отточиями — в сборниках 1935 и 1963 годов. Без купюр шутовское приветствие вышло в астраханском собрании трудов Тредиаковского 2007 года и монографии Б. Успенского 2008 года.
- ↑ О семейных обстоятельствах Тредиаковских свидетельствует история, тянувшаяся в 1746—1747 годах и отражённая в переписке Академии. Дело началось с запроса Военной коллегии, так как башкир — гренадер Севского полка — опознал в служанке Тредиаковских свою жену. Оказалось, что эта женщина была взята в плен в ходе подавления башкирского восстания и привезена в Самару, где была продана Филиппу Ивановичу Сибилеву — тестю Василия Кирилловича, а ему досталась с приданым. Тредиаковский сначала утверждал, что эта «жонка» — Энтраулет Белыки, в крещении — Наталья Андреева, — от него сбежала; но в 1747 году был вынужден по повторному запросу Военной коллегии отдать женщину «вклепавшемуся в неё гренадеру башкирского народа Петру Петрову, ...мнимому её мужу»[105].
- ↑ Трактат, написанный в 1757 году, был опубликован только через 4 года после смерти Тредиаковского. Л. Пумпянский характеризовал его так: «…доказывается, что древнейшим языком всей Европы был язык славянский. Главный аргумент — насильственные этимологии: скифы (скиты) производятся от скитания, Каледония (Шотландия) от Хладонии (холод!), иберы — это уперы, „для того, что они как уперты… со всех сторон морями“, и т. п. <…> В двух следующих исторических рассуждениях этимологический произвол ещё чудовищнее: амазонка Антиопа объяснена, как Энтавопа (то есть та вопящая — громогласная), Меналиппа — Менелюба, амазоны — омужены (то есть мужественные женщины), варяги, как пред-варители, Одоакр (Одоацер) как Одея-царь, то есть Надежда-государь. Такими методами нетрудно было доказать, что вся древняя Европа была первоначально населена славянами, а варяжские князья были славяне Скандинавии, прибывшие к славянам Новгорода…»[118]. Продолжателем этимологических методов Тредиаковского Л. Пумпянский называл Шишкова.
- ↑ н.-нем. Rustdaag, то же нидерл. Rustdag.
- ↑ итал. Cittadella — 'крепость, цитадель'.
- ↑ Имя главного героя образовано от фр. très sot — «очень глупый» с латинским окончанием, придающим макаронический эффект.
- ↑ В литературе существует разнобой мнений о годе кончины при совпадении даты: 6 (17) августа 1768 или 1769 года. Например, «Краткая литературная энциклопедия» принимает первую дату[244], как и многие авторы начала XXI века[215][7].
- ↑ Учёный статус Тредиаковского подчёркивается символами союза лиры и жезла Меркурия — покровителя Красноречия (Риторики), Изобретательства и Открытий, искусства вообще[254].
Примечания
- ↑ Пекарский, 1873, с. 232.
- ↑ Костин А. А., Кочнева Е. В. [www.ras.ru/rusacademy/23a9ad94-df74-422e-909f-0b8e63046e79.aspx Собрание портретов членов Российской академии]. «Российская академия: коллекция портретов (1783-1841)». ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН. Проверено 24 июня 2016.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 503.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 446.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 449.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 480.
- ↑ 1 2 3 Николаев, 2010, с. 255.
- ↑ Самаренко, 1962, с. 358.
- ↑ 1 2 3 Успенский, 2008, с. 321.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 3.
- ↑ Самаренко, 1962, с. 359.
- ↑ [books.google.ru/books?id=1mbZAAAAMAAJ&q=Bonaventura+Celestini+da+Citt%C3%A0+di+Castello&dq=Bonaventura+Celestini+da+Citt%C3%A0+di+Castello&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwimxrOC8rrNAhVBVywKHaveDrUQ6AEIOzAB I cappuccini nell'Umbria tra Sei e Settecento: Convegno internazionale di studi, Todi 24-26 giugno 2004] : [итал.] / a cura di Gabriele Ingegneri. — Roma : Istituto storico dei Cappuccini, 2005. — P. 162, 290, 294. — 300 p. — ISBN 9788888001302.</span>
- ↑ Успенский, 2008, с. 532.
- ↑ 1 2 Самаренко, 1962, с. 360.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 4.
- ↑ Самаренко, 1962, с. 360—361.
- ↑ [www.pravenc.ru/text/389461.html Ильинский]. Православная энциклопедия (14 ноября 2014 г.). Проверено 10 июня 2016.
- ↑ 1 2 3 4 5 Успенский, 2008, с. 324.
- ↑ 1 2 3 4 Успенский, 2008, с. 322.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 343.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 242.
- ↑ Успенский, 2008, с. 342.
- ↑ 1 2 3 Успенский, 2008, с. 323.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 326.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 27.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 27—28.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 29.
- ↑ Кибальник, 2012, с. 400.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 30.
- ↑ 1 2 Алексеева, 2009, с. 448.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 32.
- ↑ Успенский, 2008, с. 323—324.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 383.
- ↑ Успенский, 2008, с. 327—328.
- ↑ Успенский, 2008, с. 328—334.
- ↑ Успенский, 2008, с. 334—336.
- ↑ Успенский, 2008, с. 339.
- ↑ Успенский, 2008, с. 340.
- ↑ Успенский, 2008, с. 341.
- ↑ Успенский, 2008, с. 349—350.
- ↑ Успенский, 2008, с. 351.
- ↑ Хотеев П. И. [www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/24_tom_XVIII/Hoteev/Hoteev.pdf Русские студенты в университетах Германии в первой половине XVIII века] // XVIII век: сборник. — 2006. — С. 71—82.</span>
- ↑ Успенский, 2008, с. 352.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 39—40.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 357.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 218.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 239.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 106.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 109.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 96.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 58.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 98—99.
- ↑ Гречаная, 2010, с. 58—78.
- ↑ Курилов, 2005, с. 132.
- ↑ Курилов, 2005, с. 40—41.
- ↑ Живов, 1996, с. 163.
- ↑ Живов, 1996, с. 163—164.
- ↑ 1 2 Пекарский, 1873, с. 43.
- ↑ Успенский, 2008, с. 358—359.
- ↑ [www.runivers.ru/gal/gallery-all.php?SECTION_ID=7590&ELEMENT_ID=420754 Шуты при дворе императрицы Анны Иоанновны]. Проверено 17 июня 2016.
- ↑ Письма, 1980, с. 44—45.
- ↑ Успенский, 2008, с. 359.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 34.
- ↑ Успенский, 2008, с. 359—360.
- ↑ Успенский, 2008, с. 360—361.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 367.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 40.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 66—67.
- ↑ Письма, 1980, с. 45—46.
- ↑ 1 2 Благой, 1946, с. 99.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 361.
- ↑ Успенский, 2008, с. 364.
- ↑ Успенский, 2008, с. 117—118.
- ↑ Успенский, 2008, с. 362—363.
- ↑ Успенский, 2008, с. 365.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 218—219.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 366.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 48.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 224.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 224—225.
- ↑ Благой, 1946, с. 107.
- ↑ 1 2 3 Лебедева, 2003, с. 100.
- ↑ 1 2 Лебедева, 2003, с. 101.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 101—102.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 102.
- ↑ 1 2 Алексеева, 2009, с. 451.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 227.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 76.
- ↑ Успенский, 2008, с. 371—372.
- ↑ Успенский, 2008, с. 535—536.
- ↑ Тредиаковский, 2007, с. 105.
- ↑ Успенский, 2008, с. 451.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 77—79.
- ↑ Успенский, 2008, с. 372.
- ↑ Успенский, 2008, с. 374.
- ↑ Успенский, 2008, с. 376—377.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 81.
- ↑ Успенский, 2008, с. 377.
- ↑ Успенский, 2008, с. 370.
- ↑ 1 2 Алексеева, 2009, с. 452.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 87—88.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 453.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 89.
- ↑ [books.google.ru/books?id=Dd9aONENAxgC&pg=PA1427&lpg=PA1427&dq=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0&source=bl&ots=C_lr1FwZDb&sig=4q3qgcX6YrON2mrVkE8dcj7LiTc&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwjE5qvp-qrNAhWFjywKHYqnBHUQ6AEIPzAK#v=onepage&q=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0&f=false Кто есть кто в мире] / Гл. ред. Г. П. Шалаева. — М. : ОЛМА Медиа Групп, 2003. — С. 1427. — 1678 с. — ISBN 5-94849-441-1.</span>
- ↑ Пекарский, 1873, с. 117—118.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 93—98.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 100.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 100—101.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 107.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 453—454.
- ↑ 1 2 3 Алексеева, 2009, с. 454.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 113.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 114.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 119—120.
- ↑ 1 2 Пекарский, 1873, с. 124.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 121—123.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 128.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 254.
- ↑ 1 2 Тимофеев, 1963, с. 27.
- ↑ Тимофеев, 1963, с. 29.
- ↑ Тимофеев, 1963, с. 28.
- ↑ Тимофеев, 1963, с. 28—29.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 255.
- ↑ 1 2 Пумпянский, 1941, с. 256.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 455.
- ↑ 1 2 3 Алексеева, 2009, с. 456.
- ↑ 1 2 Пекарский, 1873, с. 142—143.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 148.
- ↑ Благой, 1946, с. 114.
- ↑ 1 2 Пумпянский, 1941, с. 230—231.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Пумпянский, 1941, с. 262.
- ↑ Успенский, 2008, с. 221.
- ↑ Успенский, 2008, с. 222.
- ↑ Успенский, 2008, с. 223—224.
- ↑ Куник, 1865, с. 434.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 232.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 233.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 234.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 235.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 237.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 245.
- ↑ Шишкин, 1983, с. 238.
- ↑ Успенский, 2008, с. 224—226.
- ↑ Успенский, 2008, с. 226—227.
- ↑ Успенский, 2008, с. 228—229.
- ↑ Успенский, 2008, с. 236.
- ↑ Успенский, 2008, с. 237.
- ↑ Успенский, 2008, с. 242—243.
- ↑ Успенский, 2008, с. 249.
- ↑ Курилов, 2005, с. 141.
- ↑ Курилов, 2005, с. 148.
- ↑ Курилов, 2005, с. 149.
- ↑ Курилов, 2005, с. 150—151.
- ↑ Курилов, 2005, с. 155—156.
- ↑ Живов, 1996, с. 17—19.
- ↑ Успенский, 2008, с. 261.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 263.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 157.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 157—159.
- ↑ 1 2 3 Алексеева, 2009, с. 459.
- ↑ Тредиаковский В. К. Избранные произведения / Вступ. ст. и подг. текста Л. И. Тимофеева; Прим. Я. М. Строчкова. — М.—Л. : Советский писатель, 1963. — С. 499.</span>
- ↑ Пекарский, 1873, с. 160—161.
- ↑ 1 2 Пекарский, 1873, с. 163.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 460.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 165.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 164.
- ↑ 1 2 Пумпянский, 1941, с. 258.
- ↑ Благой, 1946, с. 118.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 461.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 462.
- ↑ Курилов, 2005, Морозова Е. А. В. К. Тредиаковский и истоки романтического движения в России XVIII века, с. 187—193.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 463.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 465.
- ↑ 1 2 Алексеева, 2009, с. 466.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 468.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 469.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 470.
- ↑ 1 2 Алексеева, 2009, с. 471.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 472.
- ↑ Алексеева, 2009, с. 472—473.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Растягаев, 2008.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 125.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 125—126.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 135—136.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 144.
- ↑ 1 2 Пекарский, 1873, с. 145.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 177.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 178.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 179.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 182.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 187.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 193—196.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 197—198.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 200—201.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 202.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 204.
- ↑ 1 2 3 Алексеева, 2009, с. 476.
- ↑ Живов, 1996, с. 403, 546—547.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 208—209.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 210—211.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 211.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 211—212.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 214.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 213.
- ↑ Курилов, 2005, С. В. Панин. «Житие канцлера Франциска Бакона» Д. Моллета в переводе В. К. Тредиаковского, с. 178—179.
- ↑ Курилов, 2005, С. В. Панин. «Житие канцлера Франциска Бакона» Д. Моллета в переводе В. К. Тредиаковского, с. 180.
- ↑ Курилов, 2005, С. В. Панин. «Житие канцлера Франциска Бакона» Д. Моллета в переводе В. К. Тредиаковского, с. 180—181.
- ↑ 1 2 Курилов, 2005, С. В. Панин. «Житие канцлера Франциска Бакона» Д. Моллета в переводе В. К. Тредиаковского, с. 182.
- ↑ Курилов, 2005, С. В. Панин. «Житие канцлера Франциска Бакона» Д. Моллета в переводе В. К. Тредиаковского, с. 183.
- ↑ 1 2 Курилов, 2005, С. В. Панин. «Житие канцлера Франциска Бакона» Д. Моллета в переводе В. К. Тредиаковского, с. 185.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 214—215.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 217—218.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 218.
- ↑ Кибальник, 2012, с. 397.
- ↑ 1 2 Алексеева, 2009, с. 477.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 227.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 219.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 44—45, 218—219.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 219—220.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 220.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 221.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 246.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 229.
- ↑ Тредиаковский, 2007, Громова Т. Ю. «Тилемахида»: комментарий, с. 620—621.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 249.
- ↑ 1 2 Тредиаковский, 2007, Громова Т. Ю. «Тилемахида»: комментарий, с. 621.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 223—224.
- ↑ Тредиаковский, 2007, с. 193—194.
- ↑ Живов, 1996, с. 318—319.
- ↑ Живов, 1996, с. 319—321.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 231.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 237.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 238.
- ↑ Живов, 1996, с. 316.
- ↑ Эрмитаж Императорский // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 247.
- ↑ Гуковский Г. [istlit.ru/txt/ruslit18/21.htm «Тилемахида»]. Русская литература XVIII века. Проверено 21 июня 2016.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 225.
- ↑ Кибальник, 2012, с. 396.
- ↑ Радищев А. Н. [rvb.ru/18vek/radishchev/toc_vol_2.htm Памятник дактилохореическому витязю]. — М.—Л. : Изд. АН СССР, 1941. — Т. 2, кн. Полное собрание сочинений. — С. 201—222. — 432 с.</span>
- ↑ Курилов, 2005, Большухина Н. П. Рыцари Просвещения: Тредиаковский, Радищев, Пушкин, с. 194—216.
- ↑ Пекарский, 1873, с. 228.
- ↑ 1 2 Пекарский, 1873, с. 229.
- ↑ Серман И. З. Тредиаковский, Василий Кириллович // Краткая литературная энциклопедия. — 1972. — Т. 7. — С. 607—608.</span>
- ↑ [nekropole.info/ru/Smolenskoe-pravoslavnoe-kladbische Смоленское православное кладбище, Петербург]. Всемирная культурно-историческая энциклопедия www.nekropole.info. Проверено 21 июня 2016.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 221.
- ↑ 1 2 Сохраненкова, 1986, с. 211.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 210.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 214.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 214—215.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 215.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 216—217.
- ↑ Сохраненкова, 1986, с. 220.
- ↑ Вадим Гаврин. [magazines.russ.ru/nz/2004/38/gav13.html#_ftnref12 «Оттого-то Урания старше Клио...»: «Атрибуты учености» в русском портрете эпохи Просвещения]. Неприкосновенный запас, 6 (38) (2004). Проверено 24 июня 2016.
- ↑ Введенский, Иринарх Иванович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Тимофеев, 1963, с. 7.
- ↑ 1 2 Бухаркин, 2013, с. 66.
- ↑ Тредьяковский, Василий Кириллович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Мирский Д. С. Кантемир и Тредиаковский // Мирский Д. С. История русской литературы с древнейших времен до 1925 года / Пер. с англ. Р. Зерновой. — London: Overseas Publications Interchange Ltd, 1992. — С. 72—75.
- ↑ Пумпянский, 1941, с. 220.
- ↑ Бухаркин, 2013, с. 67.
- ↑ 1 2 Успенский, 2008, с. 378.
- ↑ Лебедева, 2003, с. 98.
</ol>
Литература
- Благой Д. Д. История русской литературы XVIII века. — М. : Учпедгиз, 1946. — 420 с.</span>
- Бухаркин П. Е. [cyberleninka.ru/article/n/v-k-trediakovskiy-literaturnyy-oblik-i-literaturnaya-reputatsiya В. К. Тредиаковский: литературный облик и литературная репутация] // Мир русского слова. — 2013. — № 4. — С. 61—67.</span>
- В. К. Тредиаковский и русская литература / Ред. А. С. Курилов. — М. : ИМЛИ РАН, 2005. — 300 с. — ISBN 5-9208-0251-0.</span>
- [books.google.ru/books?id=rsIGAQAAIAAJ&q=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&dq=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwiyhY3b4a7NAhULkywKHUK4DcoQ6AEILDAA Венок Тредиаковскому: из неопубликованных сочинений] / Сост. Н. Н. Траушкин. — Волгоград : Волгоградский педагог. ин-т, 1976. — 104 с.</span>
- Гречаная Е. П. Когда Россия говорила по-французски: русская литература на французском языке (XVIII — первая половина XIX века). — М. : ИМЛИ РАН, 2010. — 384 с. — ISBN 978-5-9208-0368-9.</span>
- Гуковский Г. А. [lib2.pushkinskijdom.ru/Media/Default/PDF/XVIII/06_tom_XVIII/Gukovskyi/Gukovskyi.pdf Тредиаковский как теоретик литературы] // Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма (XVIII век). — 1964. — Вып. 6. — С. 43—72.</span>
- Живов В. М. Язык и культура в России в XVIII веке. — М. : Языки русской культуры, 1996. — 591 с. — (Язык. Семиотика. Культура). — ISBN 5-88766-049-X.</span>
- Кибальник С. А. [www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%af%d0%b7%d1%8b%d0%ba+%d0%b8+%d0%ba%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0+%d0%b2+%d0%a0%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8+XVIII+%d0%b2%d0%b5%d0%ba%d0%b0&currBookId=14545&ln=ru Античная поэзия в России. XVIII — первая половина XIX века]. — СПб. : Петрополис, 2012. — 416 с. — ISBN 978-5-9676-0427-0.</span>
- Куник А. А. [books.google.ru/books/about/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B4%D0%BB.html?id=12o9AQAAIAAJ&redir_esc=y Сборник материалов для истории Императорской Академии Наук в XVIII веке]. — СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1865. — Т. I. — 530 с.</span>
- Лебедева О. Б. История русской литературы XVIII века: Учебник. — М. : Высшая школа, 2003. — Творчество В. К. Тредиаковского (1703—1769). — С. 95—114. — 415 с. — ISBN 5-06-004391-6.</span>
- Николаев С. И. [18vek.spb.ru/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%20%D0%A1.%20%D0%98.%20%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.pdf Тредиаковский, Василий Кириллович] / Отв. ред. А. М. Панченко // Словарь русских писателей XVIII века. — М. : Наука, 2010. — Т. 3. — С. 255—268. — ISBN 978-5-02-025203-5 (Вып. 3).</span>
- Пекарский П. П. [books.google.ru/books?id=TeRbAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false История Императорской Академии наук в Петербурге]. — СПб. : Типография Императорской Академии наук, 1873. — LVIII, 1042 с.</span>
- [rvb.ru/18vek/letters_rus_writers/toc.htm Письма русских писателей XVIII века] / Ред. Г. П. Макогоненко. — Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1980. — 472 с.</span>
- Пумпянский Л. В. [feb-web.ru/feb/irl/il0/il3/il322152.htm Тредиаковский] // История русской литературы. — М.—Л.: Изд-во АН СССР, 1941. — Т. III: Литература XVIII века. Ч. 1. — С. 215—263.
- Растягаев А. В. [www.zpu-journal.ru/zpu/2008_2/Rastiagaev.pdf Теологическая концепция поэтического творчества Тредиаковского] // Знание. Понимание. Умение. — 2008. — № 2. — С. 230—234.</span>
- Самаренко В. П. [www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/05_tom_XVIII/samarenko/samarenko.pdf В. К. Тредиаковский в Астрахани (Новые материалы к биографии В. К. Тредиаковского)] / Отв. ред. П. Н. Берков // XVIII век. Сборник 5. — 1962. — С. 358—363.</span>
- Сохраненкова Н. Н. В. К. Тредиаковский как композитор // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология: Ежегодник. — Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1986. — С. 210—221. — 575 с.</span>
- Тимофеев Л. И. Василий Кириллович Тредиаковский // [rvb.ru/18vek/trediakovsky/03article/article.htm Тредиаковский В. К. Избранные произведения]. — М.-Л.: Советский писатель, 1963. — С. 5—52. — (Библиотека поэта. Большая серия).
- Тредиаковский В. К. Лирика, «Тилемахида» и другие сочинения / Сост. Г. Г. Исаев (и др.); предисл. Г. Г. Исаева, Г. Г. Глинина; комм. Т. Ю. Громовой. — Астрахань: Издат. дом «Астраханский ун-т», 2007. — 624 с. — 1000 экз. — ISBN 5-88200-974-X.
- Тредиаковский В. К. Сочинения и переводы как стихами, так и прозою / Сост., статьи, комм. Н. Ю. Алексеевой. — СПб.: Наука, 2009. — 668 с. — (Литературные памятники). — 1000 экз. — ISBN 978-5-02-027039-8.
- Успенский Б. А. [www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=5923 Вокруг Тредиаковского. Труды по истории русского языка и русской культуры]. — М. : Индрик, 2008. — 608 с. — ISBN 978-5-91674-010-3.</span>
- Шишкин А. Б. [www.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/14_tom_XVIII/Shishkin/Shishkin.pdf Поэтическое состязание Тредиаковского, Ломоносова и Сумарокова] // XVIII век. Сборник 14. Русская литература XVIII — начала XIX века в общественно-культурном контексте. — 1983. — С. 232—246.</span>
- Эткинд Е. Г. Русские поэты-переводчики от Тредиаковского до Пушкина. — Л. : Наука, Ленинградское отделение, 1973. — 248 с.</span>
Ссылки
Издания книг и переводов В. К. Тредиаковского
- Абу-л-Гази. [dlib.rsl.ru/viewer/01004360127#?page=1 Родословная история о татарах, : Переведенная на францусской язык с рукописныя татарския книги, / Сочинения Абулгачи-Баядур-хана, ; И дополненная великим числом примечаний достоверных и любопытственных о прямом нынешнем состоянии Северныя Азии с потребными географическими ландкартами, ; А с францусскаго на российский в Академии наук [перевел В. К. Тредиаковский]]. Том 1. Петербургская Академия наук (1768). Проверено 13 июня 2016.
- [rvb.ru/18vek/trediakovsky/ Василий Кириллович Тредиаковский. Избранные произведения и письма]. Русская виртуальная библиотека. Проверено 9 июня 2016.
- Тальман Поль. [dlib.rsl.ru/viewer/01003570103#?page=1 Езда в Остров Любви / Пер. с фр. на рус. чрез студента Василья Тредиаковского]. Российская государственная библиотека (Переиздание 1834 года, воспроизводящее орфографию оригинального издания). Проверено 12 июня 2016.
- Тредиаковский В. К. [archive.org/details/trediakovskii_v_k_tri_rassuzhdeniya_o_treh_glavneishih_drevn Три рассуждения о трех главнейших древностях российских]. archive.org (Переиздание 1849 года). Проверено 13 июня 2016.
- [dlib.rsl.ru/viewer/01003862881#?page=6 Сочинения Тредьяковского. Т. 1.]. Издание А. Смирдина. Российская государственная библиотека (1849). Проверено 13 июня 2016.
- [dlib.rsl.ru/viewer/01003862880#?page=5 Сочинения Тредьяковского. Т. 2, отд. I.]. Издание А. Смирдина. Российская государственная библиотека (1849). Проверено 13 июня 2016.
- [dlib.rsl.ru/viewer/01003862879#?page=7 Сочинения Тредьяковского. Т. 2, отд. II.]. Издание А. Смирдина. Российская государственная библиотека (1849). Проверено 13 июня 2016.
- [dlib.rsl.ru/viewer/01003862878#?page=5 Сочинения Тредьяковского. Т. 3.]. Издание А. Смирдина. Российская государственная библиотека (1849). Проверено 13 июня 2016.
Биографические материалы
- Тредьяковский, Василий Кириллович // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- [memoirs.ru/texts/Trediakovski1865.htm В. К. Тредиаковский. Автобиографическая записка. Отрывок]. memoirs.ru. Проверено 10 июня 2016.
- [memoirs.ru/texts/Tred_RS90T67N8.htm В. К. Тредиаковский. Надгробная надпись]. memoirs.ru. Проверено 10 июня 2016.
- [centant.spbu.ru/spbant/db/tred.html Тредиаковский Василий Кириллович (1703—1768)]. Санкт-Петербургские антиковеды. Центр антиковедения СПбГУ. Проверено 10 июня 2016.
- Николаев С. И. [lib.pushkinskijdom.ru/Portals/3/PDF/XVIII/23_tom_XVIII/Nikolaev_338/Nikolaev_338.pdf Материалы для библиографии сочинений В. К. Тредиаковского и литературы о нём (1966—2003) (К 300-летию со дня рождения)]. Пушкинский Дом. Проверено 20 июня 2016.
- Сложеникина Ю. В., Растягаев А. В. [www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/5/Slozhenikina&Rastiagaev/ Языковая и персональная модели Тредиаковского] // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение». — 2009. — № 5 — Филология.
- [ras.ru/win/db/show_per.asp?P=.id-52405.ln-ru.dl-.pr-inf.uk-0 Тредиаковский Василий Кириллович. Профиль на сайте Российской академии наук]. Проверено 19 августа 2016.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Тредиаковский, Василий Кириллович
– Поискать… – повторил граф, видимо сожалея, что кончилась так скоро речь Семена. – Поискать? – сказал он, отворачивая полы шубки и доставая табакерку.– Намедни как от обедни во всей регалии вышли, так Михаил то Сидорыч… – Семен не договорил, услыхав ясно раздававшийся в тихом воздухе гон с подвыванием не более двух или трех гончих. Он, наклонив голову, прислушался и молча погрозился барину. – На выводок натекли… – прошептал он, прямо на Лядовской повели.
Граф, забыв стереть улыбку с лица, смотрел перед собой вдаль по перемычке и, не нюхая, держал в руке табакерку. Вслед за лаем собак послышался голос по волку, поданный в басистый рог Данилы; стая присоединилась к первым трем собакам и слышно было, как заревели с заливом голоса гончих, с тем особенным подвыванием, которое служило признаком гона по волку. Доезжачие уже не порскали, а улюлюкали, и из за всех голосов выступал голос Данилы, то басистый, то пронзительно тонкий. Голос Данилы, казалось, наполнял весь лес, выходил из за леса и звучал далеко в поле.
Прислушавшись несколько секунд молча, граф и его стремянной убедились, что гончие разбились на две стаи: одна большая, ревевшая особенно горячо, стала удаляться, другая часть стаи понеслась вдоль по лесу мимо графа, и при этой стае было слышно улюлюканье Данилы. Оба эти гона сливались, переливались, но оба удалялись. Семен вздохнул и нагнулся, чтоб оправить сворку, в которой запутался молодой кобель; граф тоже вздохнул и, заметив в своей руке табакерку, открыл ее и достал щепоть. «Назад!» крикнул Семен на кобеля, который выступил за опушку. Граф вздрогнул и уронил табакерку. Настасья Ивановна слез и стал поднимать ее.
Граф и Семен смотрели на него. Вдруг, как это часто бывает, звук гона мгновенно приблизился, как будто вот, вот перед ними самими были лающие рты собак и улюлюканье Данилы.
Граф оглянулся и направо увидал Митьку, который выкатывавшимися глазами смотрел на графа и, подняв шапку, указывал ему вперед, на другую сторону.
– Береги! – закричал он таким голосом, что видно было, что это слово давно уже мучительно просилось у него наружу. И поскакал, выпустив собак, по направлению к графу.
Граф и Семен выскакали из опушки и налево от себя увидали волка, который, мягко переваливаясь, тихим скоком подскакивал левее их к той самой опушке, у которой они стояли. Злобные собаки визгнули и, сорвавшись со свор, понеслись к волку мимо ног лошадей.
Волк приостановил бег, неловко, как больной жабой, повернул свою лобастую голову к собакам, и также мягко переваливаясь прыгнул раз, другой и, мотнув поленом (хвостом), скрылся в опушку. В ту же минуту из противоположной опушки с ревом, похожим на плач, растерянно выскочила одна, другая, третья гончая, и вся стая понеслась по полю, по тому самому месту, где пролез (пробежал) волк. Вслед за гончими расступились кусты орешника и показалась бурая, почерневшая от поту лошадь Данилы. На длинной спине ее комочком, валясь вперед, сидел Данила без шапки с седыми, встрепанными волосами над красным, потным лицом.
– Улюлюлю, улюлю!… – кричал он. Когда он увидал графа, в глазах его сверкнула молния.
– Ж… – крикнул он, грозясь поднятым арапником на графа.
– Про…ли волка то!… охотники! – И как бы не удостоивая сконфуженного, испуганного графа дальнейшим разговором, он со всей злобой, приготовленной на графа, ударил по ввалившимся мокрым бокам бурого мерина и понесся за гончими. Граф, как наказанный, стоял оглядываясь и стараясь улыбкой вызвать в Семене сожаление к своему положению. Но Семена уже не было: он, в объезд по кустам, заскакивал волка от засеки. С двух сторон также перескакивали зверя борзятники. Но волк пошел кустами и ни один охотник не перехватил его.
Николай Ростов между тем стоял на своем месте, ожидая зверя. По приближению и отдалению гона, по звукам голосов известных ему собак, по приближению, отдалению и возвышению голосов доезжачих, он чувствовал то, что совершалось в острове. Он знал, что в острове были прибылые (молодые) и матерые (старые) волки; он знал, что гончие разбились на две стаи, что где нибудь травили, и что что нибудь случилось неблагополучное. Он всякую секунду на свою сторону ждал зверя. Он делал тысячи различных предположений о том, как и с какой стороны побежит зверь и как он будет травить его. Надежда сменялась отчаянием. Несколько раз он обращался к Богу с мольбою о том, чтобы волк вышел на него; он молился с тем страстным и совестливым чувством, с которым молятся люди в минуты сильного волнения, зависящего от ничтожной причины. «Ну, что Тебе стоит, говорил он Богу, – сделать это для меня! Знаю, что Ты велик, и что грех Тебя просить об этом; но ради Бога сделай, чтобы на меня вылез матерый, и чтобы Карай, на глазах „дядюшки“, который вон оттуда смотрит, влепился ему мертвой хваткой в горло». Тысячу раз в эти полчаса упорным, напряженным и беспокойным взглядом окидывал Ростов опушку лесов с двумя редкими дубами над осиновым подседом, и овраг с измытым краем, и шапку дядюшки, чуть видневшегося из за куста направо.
«Нет, не будет этого счастья, думал Ростов, а что бы стоило! Не будет! Мне всегда, и в картах, и на войне, во всем несчастье». Аустерлиц и Долохов ярко, но быстро сменяясь, мелькали в его воображении. «Только один раз бы в жизни затравить матерого волка, больше я не желаю!» думал он, напрягая слух и зрение, оглядываясь налево и опять направо и прислушиваясь к малейшим оттенкам звуков гона. Он взглянул опять направо и увидал, что по пустынному полю навстречу к нему бежало что то. «Нет, это не может быть!» подумал Ростов, тяжело вздыхая, как вздыхает человек при совершении того, что было долго ожидаемо им. Совершилось величайшее счастье – и так просто, без шума, без блеска, без ознаменования. Ростов не верил своим глазам и сомнение это продолжалось более секунды. Волк бежал вперед и перепрыгнул тяжело рытвину, которая была на его дороге. Это был старый зверь, с седою спиной и с наеденным красноватым брюхом. Он бежал не торопливо, очевидно убежденный, что никто не видит его. Ростов не дыша оглянулся на собак. Они лежали, стояли, не видя волка и ничего не понимая. Старый Карай, завернув голову и оскалив желтые зубы, сердито отыскивая блоху, щелкал ими на задних ляжках.
– Улюлюлю! – шопотом, оттопыривая губы, проговорил Ростов. Собаки, дрогнув железками, вскочили, насторожив уши. Карай почесал свою ляжку и встал, насторожив уши и слегка мотнул хвостом, на котором висели войлоки шерсти.
– Пускать – не пускать? – говорил сам себе Николай в то время как волк подвигался к нему, отделяясь от леса. Вдруг вся физиономия волка изменилась; он вздрогнул, увидав еще вероятно никогда не виданные им человеческие глаза, устремленные на него, и слегка поворотив к охотнику голову, остановился – назад или вперед? Э! всё равно, вперед!… видно, – как будто сказал он сам себе, и пустился вперед, уже не оглядываясь, мягким, редким, вольным, но решительным скоком.
– Улюлю!… – не своим голосом закричал Николай, и сама собою стремглав понеслась его добрая лошадь под гору, перескакивая через водомоины в поперечь волку; и еще быстрее, обогнав ее, понеслись собаки. Николай не слыхал своего крика, не чувствовал того, что он скачет, не видал ни собак, ни места, по которому он скачет; он видел только волка, который, усилив свой бег, скакал, не переменяя направления, по лощине. Первая показалась вблизи зверя чернопегая, широкозадая Милка и стала приближаться к зверю. Ближе, ближе… вот она приспела к нему. Но волк чуть покосился на нее, и вместо того, чтобы наддать, как она это всегда делала, Милка вдруг, подняв хвост, стала упираться на передние ноги.
– Улюлюлюлю! – кричал Николай.
Красный Любим выскочил из за Милки, стремительно бросился на волка и схватил его за гачи (ляжки задних ног), но в ту ж секунду испуганно перескочил на другую сторону. Волк присел, щелкнул зубами и опять поднялся и поскакал вперед, провожаемый на аршин расстояния всеми собаками, не приближавшимися к нему.
– Уйдет! Нет, это невозможно! – думал Николай, продолжая кричать охрипнувшим голосом.
– Карай! Улюлю!… – кричал он, отыскивая глазами старого кобеля, единственную свою надежду. Карай из всех своих старых сил, вытянувшись сколько мог, глядя на волка, тяжело скакал в сторону от зверя, наперерез ему. Но по быстроте скока волка и медленности скока собаки было видно, что расчет Карая был ошибочен. Николай уже не далеко впереди себя видел тот лес, до которого добежав, волк уйдет наверное. Впереди показались собаки и охотник, скакавший почти на встречу. Еще была надежда. Незнакомый Николаю, муругий молодой, длинный кобель чужой своры стремительно подлетел спереди к волку и почти опрокинул его. Волк быстро, как нельзя было ожидать от него, приподнялся и бросился к муругому кобелю, щелкнул зубами – и окровавленный, с распоротым боком кобель, пронзительно завизжав, ткнулся головой в землю.
– Караюшка! Отец!.. – плакал Николай…
Старый кобель, с своими мотавшимися на ляжках клоками, благодаря происшедшей остановке, перерезывая дорогу волку, был уже в пяти шагах от него. Как будто почувствовав опасность, волк покосился на Карая, еще дальше спрятав полено (хвост) между ног и наддал скоку. Но тут – Николай видел только, что что то сделалось с Караем – он мгновенно очутился на волке и с ним вместе повалился кубарем в водомоину, которая была перед ними.
Та минута, когда Николай увидал в водомоине копошащихся с волком собак, из под которых виднелась седая шерсть волка, его вытянувшаяся задняя нога, и с прижатыми ушами испуганная и задыхающаяся голова (Карай держал его за горло), минута, когда увидал это Николай, была счастливейшею минутою его жизни. Он взялся уже за луку седла, чтобы слезть и колоть волка, как вдруг из этой массы собак высунулась вверх голова зверя, потом передние ноги стали на край водомоины. Волк ляскнул зубами (Карай уже не держал его за горло), выпрыгнул задними ногами из водомоины и, поджав хвост, опять отделившись от собак, двинулся вперед. Карай с ощетинившейся шерстью, вероятно ушибленный или раненый, с трудом вылезал из водомоины.
– Боже мой! За что?… – с отчаянием закричал Николай.
Охотник дядюшки с другой стороны скакал на перерез волку, и собаки его опять остановили зверя. Опять его окружили.
Николай, его стремянной, дядюшка и его охотник вертелись над зверем, улюлюкая, крича, всякую минуту собираясь слезть, когда волк садился на зад и всякий раз пускаясь вперед, когда волк встряхивался и подвигался к засеке, которая должна была спасти его. Еще в начале этой травли, Данила, услыхав улюлюканье, выскочил на опушку леса. Он видел, как Карай взял волка и остановил лошадь, полагая, что дело было кончено. Но когда охотники не слезли, волк встряхнулся и опять пошел на утек. Данила выпустил своего бурого не к волку, а прямой линией к засеке так же, как Карай, – на перерез зверю. Благодаря этому направлению, он подскакивал к волку в то время, как во второй раз его остановили дядюшкины собаки.
Данила скакал молча, держа вынутый кинжал в левой руке и как цепом молоча своим арапником по подтянутым бокам бурого.
Николай не видал и не слыхал Данилы до тех пор, пока мимо самого его не пропыхтел тяжело дыша бурый, и он услыхал звук паденья тела и увидал, что Данила уже лежит в середине собак на заду волка, стараясь поймать его за уши. Очевидно было и для собак, и для охотников, и для волка, что теперь всё кончено. Зверь, испуганно прижав уши, старался подняться, но собаки облепили его. Данила, привстав, сделал падающий шаг и всей тяжестью, как будто ложась отдыхать, повалился на волка, хватая его за уши. Николай хотел колоть, но Данила прошептал: «Не надо, соструним», – и переменив положение, наступил ногою на шею волку. В пасть волку заложили палку, завязали, как бы взнуздав его сворой, связали ноги, и Данила раза два с одного бока на другой перевалил волка.
С счастливыми, измученными лицами, живого, матерого волка взвалили на шарахающую и фыркающую лошадь и, сопутствуемые визжавшими на него собаками, повезли к тому месту, где должны были все собраться. Молодых двух взяли гончие и трех борзые. Охотники съезжались с своими добычами и рассказами, и все подходили смотреть матёрого волка, который свесив свою лобастую голову с закушенною палкой во рту, большими, стеклянными глазами смотрел на всю эту толпу собак и людей, окружавших его. Когда его трогали, он, вздрагивая завязанными ногами, дико и вместе с тем просто смотрел на всех. Граф Илья Андреич тоже подъехал и потрогал волка.
– О, материщий какой, – сказал он. – Матёрый, а? – спросил он у Данилы, стоявшего подле него.
– Матёрый, ваше сиятельство, – отвечал Данила, поспешно снимая шапку.
Граф вспомнил своего прозеванного волка и свое столкновение с Данилой.
– Однако, брат, ты сердит, – сказал граф. – Данила ничего не сказал и только застенчиво улыбнулся детски кроткой и приятной улыбкой.
Старый граф поехал домой; Наташа с Петей обещались сейчас же приехать. Охота пошла дальше, так как было еще рано. В середине дня гончих пустили в поросший молодым частым лесом овраг. Николай, стоя на жнивье, видел всех своих охотников.
Насупротив от Николая были зеленя и там стоял его охотник, один в яме за выдавшимся кустом орешника. Только что завели гончих, Николай услыхал редкий гон известной ему собаки – Волторна; другие собаки присоединились к нему, то замолкая, то опять принимаясь гнать. Через минуту подали из острова голос по лисе, и вся стая, свалившись, погнала по отвершку, по направлению к зеленям, прочь от Николая.
Он видел скачущих выжлятников в красных шапках по краям поросшего оврага, видел даже собак, и всякую секунду ждал того, что на той стороне, на зеленях, покажется лисица.
Охотник, стоявший в яме, тронулся и выпустил собак, и Николай увидал красную, низкую, странную лисицу, которая, распушив трубу, торопливо неслась по зеленям. Собаки стали спеть к ней. Вот приблизились, вот кругами стала вилять лисица между ними, всё чаще и чаще делая эти круги и обводя вокруг себя пушистой трубой (хвостом); и вот налетела чья то белая собака, и вслед за ней черная, и всё смешалось, и звездой, врозь расставив зады, чуть колеблясь, стали собаки. К собакам подскакали два охотника: один в красной шапке, другой, чужой, в зеленом кафтане.
«Что это такое? подумал Николай. Откуда взялся этот охотник? Это не дядюшкин».
Охотники отбили лисицу и долго, не тороча, стояли пешие. Около них на чумбурах стояли лошади с своими выступами седел и лежали собаки. Охотники махали руками и что то делали с лисицей. Оттуда же раздался звук рога – условленный сигнал драки.
– Это Илагинский охотник что то с нашим Иваном бунтует, – сказал стремянный Николая.
Николай послал стремяного подозвать к себе сестру и Петю и шагом поехал к тому месту, где доезжачие собирали гончих. Несколько охотников поскакало к месту драки.
Николай слез с лошади, остановился подле гончих с подъехавшими Наташей и Петей, ожидая сведений о том, чем кончится дело. Из за опушки выехал дравшийся охотник с лисицей в тороках и подъехал к молодому барину. Он издалека снял шапку и старался говорить почтительно; но он был бледен, задыхался, и лицо его было злобно. Один глаз был у него подбит, но он вероятно и не знал этого.
– Что у вас там было? – спросил Николай.
– Как же, из под наших гончих он травить будет! Да и сука то моя мышастая поймала. Поди, судись! За лисицу хватает! Я его лисицей ну катать. Вот она, в тороках. А этого хочешь?… – говорил охотник, указывая на кинжал и вероятно воображая, что он всё еще говорит с своим врагом.
Николай, не разговаривая с охотником, попросил сестру и Петю подождать его и поехал на то место, где была эта враждебная, Илагинская охота.
Охотник победитель въехал в толпу охотников и там, окруженный сочувствующими любопытными, рассказывал свой подвиг.
Дело было в том, что Илагин, с которым Ростовы были в ссоре и процессе, охотился в местах, по обычаю принадлежавших Ростовым, и теперь как будто нарочно велел подъехать к острову, где охотились Ростовы, и позволил травить своему охотнику из под чужих гончих.
Николай никогда не видал Илагина, но как и всегда в своих суждениях и чувствах не зная середины, по слухам о буйстве и своевольстве этого помещика, всей душой ненавидел его и считал своим злейшим врагом. Он озлобленно взволнованный ехал теперь к нему, крепко сжимая арапник в руке, в полной готовности на самые решительные и опасные действия против своего врага.
Едва он выехал за уступ леса, как он увидал подвигающегося ему навстречу толстого барина в бобровом картузе на прекрасной вороной лошади, сопутствуемого двумя стремянными.
Вместо врага Николай нашел в Илагине представительного, учтивого барина, особенно желавшего познакомиться с молодым графом. Подъехав к Ростову, Илагин приподнял бобровый картуз и сказал, что очень жалеет о том, что случилось; что велит наказать охотника, позволившего себе травить из под чужих собак, просит графа быть знакомым и предлагает ему свои места для охоты.
Наташа, боявшаяся, что брат ее наделает что нибудь ужасное, в волнении ехала недалеко за ним. Увидав, что враги дружелюбно раскланиваются, она подъехала к ним. Илагин еще выше приподнял свой бобровый картуз перед Наташей и приятно улыбнувшись, сказал, что графиня представляет Диану и по страсти к охоте и по красоте своей, про которую он много слышал.
Илагин, чтобы загладить вину своего охотника, настоятельно просил Ростова пройти в его угорь, который был в версте, который он берег для себя и в котором было, по его словам, насыпано зайцев. Николай согласился, и охота, еще вдвое увеличившаяся, тронулась дальше.
Итти до Илагинского угоря надо было полями. Охотники разровнялись. Господа ехали вместе. Дядюшка, Ростов, Илагин поглядывали тайком на чужих собак, стараясь, чтобы другие этого не замечали, и с беспокойством отыскивали между этими собаками соперниц своим собакам.
Ростова особенно поразила своей красотой небольшая чистопсовая, узенькая, но с стальными мышцами, тоненьким щипцом (мордой) и на выкате черными глазами, краснопегая сучка в своре Илагина. Он слыхал про резвость Илагинских собак, и в этой красавице сучке видел соперницу своей Милке.
В середине степенного разговора об урожае нынешнего года, который завел Илагин, Николай указал ему на его краснопегую суку.
– Хороша у вас эта сучка! – сказал он небрежным тоном. – Резва?
– Эта? Да, эта – добрая собака, ловит, – равнодушным голосом сказал Илагин про свою краснопегую Ерзу, за которую он год тому назад отдал соседу три семьи дворовых. – Так и у вас, граф, умолотом не хвалятся? – продолжал он начатый разговор. И считая учтивым отплатить молодому графу тем же, Илагин осмотрел его собак и выбрал Милку, бросившуюся ему в глаза своей шириной.
– Хороша у вас эта чернопегая – ладна! – сказал он.
– Да, ничего, скачет, – отвечал Николай. «Вот только бы побежал в поле матёрый русак, я бы тебе показал, какая эта собака!» подумал он, и обернувшись к стремянному сказал, что он дает рубль тому, кто подозрит, т. е. найдет лежачего зайца.
– Я не понимаю, – продолжал Илагин, – как другие охотники завистливы на зверя и на собак. Я вам скажу про себя, граф. Меня веселит, знаете, проехаться; вот съедешься с такой компанией… уже чего же лучше (он снял опять свой бобровый картуз перед Наташей); а это, чтобы шкуры считать, сколько привез – мне всё равно!
– Ну да.
– Или чтоб мне обидно было, что чужая собака поймает, а не моя – мне только бы полюбоваться на травлю, не так ли, граф? Потом я сужу…
– Ату – его, – послышался в это время протяжный крик одного из остановившихся борзятников. Он стоял на полубугре жнивья, подняв арапник, и еще раз повторил протяжно: – А – ту – его! (Звук этот и поднятый арапник означали то, что он видит перед собой лежащего зайца.)
– А, подозрил, кажется, – сказал небрежно Илагин. – Что же, потравим, граф!
– Да, подъехать надо… да – что ж, вместе? – отвечал Николай, вглядываясь в Ерзу и в красного Ругая дядюшки, в двух своих соперников, с которыми еще ни разу ему не удалось поровнять своих собак. «Ну что как с ушей оборвут мою Милку!» думал он, рядом с дядюшкой и Илагиным подвигаясь к зайцу.
– Матёрый? – спрашивал Илагин, подвигаясь к подозрившему охотнику, и не без волнения оглядываясь и подсвистывая Ерзу…
– А вы, Михаил Никанорыч? – обратился он к дядюшке.
Дядюшка ехал насупившись.
– Что мне соваться, ведь ваши – чистое дело марш! – по деревне за собаку плачены, ваши тысячные. Вы померяйте своих, а я посмотрю!
– Ругай! На, на, – крикнул он. – Ругаюшка! – прибавил он, невольно этим уменьшительным выражая свою нежность и надежду, возлагаемую на этого красного кобеля. Наташа видела и чувствовала скрываемое этими двумя стариками и ее братом волнение и сама волновалась.
Охотник на полугорке стоял с поднятым арапником, господа шагом подъезжали к нему; гончие, шедшие на самом горизонте, заворачивали прочь от зайца; охотники, не господа, тоже отъезжали. Всё двигалось медленно и степенно.
– Куда головой лежит? – спросил Николай, подъезжая шагов на сто к подозрившему охотнику. Но не успел еще охотник отвечать, как русак, чуя мороз к завтрашнему утру, не вылежал и вскочил. Стая гончих на смычках, с ревом, понеслась под гору за зайцем; со всех сторон борзые, не бывшие на сворах, бросились на гончих и к зайцу. Все эти медленно двигавшиеся охотники выжлятники с криком: стой! сбивая собак, борзятники с криком: ату! направляя собак – поскакали по полю. Спокойный Илагин, Николай, Наташа и дядюшка летели, сами не зная как и куда, видя только собак и зайца, и боясь только потерять хоть на мгновение из вида ход травли. Заяц попался матёрый и резвый. Вскочив, он не тотчас же поскакал, а повел ушами, прислушиваясь к крику и топоту, раздавшемуся вдруг со всех сторон. Он прыгнул раз десять не быстро, подпуская к себе собак, и наконец, выбрав направление и поняв опасность, приложил уши и понесся во все ноги. Он лежал на жнивьях, но впереди были зеленя, по которым было топко. Две собаки подозрившего охотника, бывшие ближе всех, первые воззрились и заложились за зайцем; но еще далеко не подвинулись к нему, как из за них вылетела Илагинская краснопегая Ерза, приблизилась на собаку расстояния, с страшной быстротой наддала, нацелившись на хвост зайца и думая, что она схватила его, покатилась кубарем. Заяц выгнул спину и наддал еще шибче. Из за Ерзы вынеслась широкозадая, чернопегая Милка и быстро стала спеть к зайцу.
– Милушка! матушка! – послышался торжествующий крик Николая. Казалось, сейчас ударит Милка и подхватит зайца, но она догнала и пронеслась. Русак отсел. Опять насела красавица Ерза и над самым хвостом русака повисла, как будто примеряясь как бы не ошибиться теперь, схватить за заднюю ляжку.
– Ерзанька! сестрица! – послышался плачущий, не свой голос Илагина. Ерза не вняла его мольбам. В тот самый момент, как надо было ждать, что она схватит русака, он вихнул и выкатил на рубеж между зеленями и жнивьем. Опять Ерза и Милка, как дышловая пара, выровнялись и стали спеть к зайцу; на рубеже русаку было легче, собаки не так быстро приближались к нему.
– Ругай! Ругаюшка! Чистое дело марш! – закричал в это время еще новый голос, и Ругай, красный, горбатый кобель дядюшки, вытягиваясь и выгибая спину, сравнялся с первыми двумя собаками, выдвинулся из за них, наддал с страшным самоотвержением уже над самым зайцем, сбил его с рубежа на зеленя, еще злей наддал другой раз по грязным зеленям, утопая по колена, и только видно было, как он кубарем, пачкая спину в грязь, покатился с зайцем. Звезда собак окружила его. Через минуту все стояли около столпившихся собак. Один счастливый дядюшка слез и отпазанчил. Потряхивая зайца, чтобы стекала кровь, он тревожно оглядывался, бегая глазами, не находя положения рукам и ногам, и говорил, сам не зная с кем и что.
«Вот это дело марш… вот собака… вот вытянул всех, и тысячных и рублевых – чистое дело марш!» говорил он, задыхаясь и злобно оглядываясь, как будто ругая кого то, как будто все были его враги, все его обижали, и только теперь наконец ему удалось оправдаться. «Вот вам и тысячные – чистое дело марш!»
– Ругай, на пазанку! – говорил он, кидая отрезанную лапку с налипшей землей; – заслужил – чистое дело марш!
– Она вымахалась, три угонки дала одна, – говорил Николай, тоже не слушая никого, и не заботясь о том, слушают ли его, или нет.
– Да это что же в поперечь! – говорил Илагинский стремянный.
– Да, как осеклась, так с угонки всякая дворняшка поймает, – говорил в то же время Илагин, красный, насилу переводивший дух от скачки и волнения. В то же время Наташа, не переводя духа, радостно и восторженно визжала так пронзительно, что в ушах звенело. Она этим визгом выражала всё то, что выражали и другие охотники своим единовременным разговором. И визг этот был так странен, что она сама должна бы была стыдиться этого дикого визга и все бы должны были удивиться ему, ежели бы это было в другое время.
Дядюшка сам второчил русака, ловко и бойко перекинул его через зад лошади, как бы упрекая всех этим перекидыванием, и с таким видом, что он и говорить ни с кем не хочет, сел на своего каураго и поехал прочь. Все, кроме его, грустные и оскорбленные, разъехались и только долго после могли притти в прежнее притворство равнодушия. Долго еще они поглядывали на красного Ругая, который с испачканной грязью, горбатой спиной, побрякивая железкой, с спокойным видом победителя шел за ногами лошади дядюшки.
«Что ж я такой же, как и все, когда дело не коснется до травли. Ну, а уж тут держись!» казалось Николаю, что говорил вид этой собаки.
Когда, долго после, дядюшка подъехал к Николаю и заговорил с ним, Николай был польщен тем, что дядюшка после всего, что было, еще удостоивает говорить с ним.
Когда ввечеру Илагин распростился с Николаем, Николай оказался на таком далеком расстоянии от дома, что он принял предложение дядюшки оставить охоту ночевать у него (у дядюшки), в его деревеньке Михайловке.
– И если бы заехали ко мне – чистое дело марш! – сказал дядюшка, еще бы того лучше; видите, погода мокрая, говорил дядюшка, отдохнули бы, графинечку бы отвезли в дрожках. – Предложение дядюшки было принято, за дрожками послали охотника в Отрадное; а Николай с Наташей и Петей поехали к дядюшке.
Человек пять, больших и малых, дворовых мужчин выбежало на парадное крыльцо встречать барина. Десятки женщин, старых, больших и малых, высунулись с заднего крыльца смотреть на подъезжавших охотников. Присутствие Наташи, женщины, барыни верхом, довело любопытство дворовых дядюшки до тех пределов, что многие, не стесняясь ее присутствием, подходили к ней, заглядывали ей в глаза и при ней делали о ней свои замечания, как о показываемом чуде, которое не человек, и не может слышать и понимать, что говорят о нем.
– Аринка, глянь ка, на бочькю сидит! Сама сидит, а подол болтается… Вишь рожок!
– Батюшки светы, ножик то…
– Вишь татарка!
– Как же ты не перекувыркнулась то? – говорила самая смелая, прямо уж обращаясь к Наташе.
Дядюшка слез с лошади у крыльца своего деревянного заросшего садом домика и оглянув своих домочадцев, крикнул повелительно, чтобы лишние отошли и чтобы было сделано всё нужное для приема гостей и охоты.
Всё разбежалось. Дядюшка снял Наташу с лошади и за руку провел ее по шатким досчатым ступеням крыльца. В доме, не отштукатуренном, с бревенчатыми стенами, было не очень чисто, – не видно было, чтобы цель живших людей состояла в том, чтобы не было пятен, но не было заметно запущенности.
В сенях пахло свежими яблоками, и висели волчьи и лисьи шкуры. Через переднюю дядюшка провел своих гостей в маленькую залу с складным столом и красными стульями, потом в гостиную с березовым круглым столом и диваном, потом в кабинет с оборванным диваном, истасканным ковром и с портретами Суворова, отца и матери хозяина и его самого в военном мундире. В кабинете слышался сильный запах табаку и собак. В кабинете дядюшка попросил гостей сесть и расположиться как дома, а сам вышел. Ругай с невычистившейся спиной вошел в кабинет и лег на диван, обчищая себя языком и зубами. Из кабинета шел коридор, в котором виднелись ширмы с прорванными занавесками. Из за ширм слышался женский смех и шопот. Наташа, Николай и Петя разделись и сели на диван. Петя облокотился на руку и тотчас же заснул; Наташа и Николай сидели молча. Лица их горели, они были очень голодны и очень веселы. Они поглядели друг на друга (после охоты, в комнате, Николай уже не считал нужным выказывать свое мужское превосходство перед своей сестрой); Наташа подмигнула брату и оба удерживались недолго и звонко расхохотались, не успев еще придумать предлога для своего смеха.
Немного погодя, дядюшка вошел в казакине, синих панталонах и маленьких сапогах. И Наташа почувствовала, что этот самый костюм, в котором она с удивлением и насмешкой видала дядюшку в Отрадном – был настоящий костюм, который был ничем не хуже сюртуков и фраков. Дядюшка был тоже весел; он не только не обиделся смеху брата и сестры (ему в голову не могло притти, чтобы могли смеяться над его жизнию), а сам присоединился к их беспричинному смеху.
– Вот так графиня молодая – чистое дело марш – другой такой не видывал! – сказал он, подавая одну трубку с длинным чубуком Ростову, а другой короткий, обрезанный чубук закладывая привычным жестом между трех пальцев.
– День отъездила, хоть мужчине в пору и как ни в чем не бывало!
Скоро после дядюшки отворила дверь, по звуку ног очевидно босая девка, и в дверь с большим уставленным подносом в руках вошла толстая, румяная, красивая женщина лет 40, с двойным подбородком, и полными, румяными губами. Она, с гостеприимной представительностью и привлекательностью в глазах и каждом движеньи, оглянула гостей и с ласковой улыбкой почтительно поклонилась им. Несмотря на толщину больше чем обыкновенную, заставлявшую ее выставлять вперед грудь и живот и назад держать голову, женщина эта (экономка дядюшки) ступала чрезвычайно легко. Она подошла к столу, поставила поднос и ловко своими белыми, пухлыми руками сняла и расставила по столу бутылки, закуски и угощенья. Окончив это она отошла и с улыбкой на лице стала у двери. – «Вот она и я! Теперь понимаешь дядюшку?» сказало Ростову ее появление. Как не понимать: не только Ростов, но и Наташа поняла дядюшку и значение нахмуренных бровей, и счастливой, самодовольной улыбки, которая чуть морщила его губы в то время, как входила Анисья Федоровна. На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовой мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисьей Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная.
Всё это было хозяйства, сбора и варенья Анисьи Федоровны. Всё это и пахло и отзывалось и имело вкус Анисьи Федоровны. Всё отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой.
– Покушайте, барышня графинюшка, – приговаривала она, подавая Наташе то то, то другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге, с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и Илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего нибудь, но он говорил что то непонятное, очевидно не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей в первый раз принимающих в своем доме своих знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей:
– Так то вот и доживаю свой век… Умрешь, – чистое дело марш – ничего не останется. Что ж и грешить то!
Лицо дядюшки было очень значительно и даже красиво, когда он говорил это. Ростов невольно вспомнил при этом всё, что он хорошего слыхал от отца и соседей о дядюшке. Дядюшка во всем околотке губернии имел репутацию благороднейшего и бескорыстнейшего чудака. Его призывали судить семейные дела, его делали душеприказчиком, ему поверяли тайны, его выбирали в судьи и другие должности, но от общественной службы он упорно отказывался, осень и весну проводя в полях на своем кауром мерине, зиму сидя дома, летом лежа в своем заросшем саду.
– Что же вы не служите, дядюшка?
– Служил, да бросил. Не гожусь, чистое дело марш, я ничего не разберу. Это ваше дело, а у меня ума не хватит. Вот насчет охоты другое дело, это чистое дело марш! Отворите ка дверь то, – крикнул он. – Что ж затворили! – Дверь в конце коридора (который дядюшка называл колидор) вела в холостую охотническую: так называлась людская для охотников. Босые ноги быстро зашлепали и невидимая рука отворила дверь в охотническую. Из коридора ясно стали слышны звуки балалайки, на которой играл очевидно какой нибудь мастер этого дела. Наташа уже давно прислушивалась к этим звукам и теперь вышла в коридор, чтобы слышать их яснее.
– Это у меня мой Митька кучер… Я ему купил хорошую балалайку, люблю, – сказал дядюшка. – У дядюшки было заведено, чтобы, когда он приезжает с охоты, в холостой охотнической Митька играл на балалайке. Дядюшка любил слушать эту музыку.
– Как хорошо, право отлично, – сказал Николай с некоторым невольным пренебрежением, как будто ему совестно было признаться в том, что ему очень были приятны эти звуки.
– Как отлично? – с упреком сказала Наташа, чувствуя тон, которым сказал это брат. – Не отлично, а это прелесть, что такое! – Ей так же как и грибки, мед и наливки дядюшки казались лучшими в мире, так и эта песня казалась ей в эту минуту верхом музыкальной прелести.
– Еще, пожалуйста, еще, – сказала Наташа в дверь, как только замолкла балалайка. Митька настроил и опять молодецки задребезжал Барыню с переборами и перехватами. Дядюшка сидел и слушал, склонив голову на бок с чуть заметной улыбкой. Мотив Барыни повторился раз сто. Несколько раз балалайку настраивали и опять дребезжали те же звуки, и слушателям не наскучивало, а только хотелось еще и еще слышать эту игру. Анисья Федоровна вошла и прислонилась своим тучным телом к притолке.
– Изволите слушать, – сказала она Наташе, с улыбкой чрезвычайно похожей на улыбку дядюшки. – Он у нас славно играет, – сказала она.
– Вот в этом колене не то делает, – вдруг с энергическим жестом сказал дядюшка. – Тут рассыпать надо – чистое дело марш – рассыпать…
– А вы разве умеете? – спросила Наташа. – Дядюшка не отвечая улыбнулся.
– Посмотри ка, Анисьюшка, что струны то целы что ль, на гитаре то? Давно уж в руки не брал, – чистое дело марш! забросил.
Анисья Федоровна охотно пошла своей легкой поступью исполнить поручение своего господина и принесла гитару.
Дядюшка ни на кого не глядя сдунул пыль, костлявыми пальцами стукнул по крышке гитары, настроил и поправился на кресле. Он взял (несколько театральным жестом, отставив локоть левой руки) гитару повыше шейки и подмигнув Анисье Федоровне, начал не Барыню, а взял один звучный, чистый аккорд, и мерно, спокойно, но твердо начал весьма тихим темпом отделывать известную песню: По у ли и ице мостовой. В раз, в такт с тем степенным весельем (тем самым, которым дышало всё существо Анисьи Федоровны), запел в душе у Николая и Наташи мотив песни. Анисья Федоровна закраснелась и закрывшись платочком, смеясь вышла из комнаты. Дядюшка продолжал чисто, старательно и энергически твердо отделывать песню, изменившимся вдохновенным взглядом глядя на то место, с которого ушла Анисья Федоровна. Чуть чуть что то смеялось в его лице с одной стороны под седым усом, особенно смеялось тогда, когда дальше расходилась песня, ускорялся такт и в местах переборов отрывалось что то.
– Прелесть, прелесть, дядюшка; еще, еще, – закричала Наташа, как только он кончил. Она, вскочивши с места, обняла дядюшку и поцеловала его. – Николенька, Николенька! – говорила она, оглядываясь на брата и как бы спрашивая его: что же это такое?
Николаю тоже очень нравилась игра дядюшки. Дядюшка второй раз заиграл песню. Улыбающееся лицо Анисьи Федоровны явилось опять в дверях и из за ней еще другие лица… «За холодной ключевой, кричит: девица постой!» играл дядюшка, сделал опять ловкий перебор, оторвал и шевельнул плечами.
– Ну, ну, голубчик, дядюшка, – таким умоляющим голосом застонала Наташа, как будто жизнь ее зависела от этого. Дядюшка встал и как будто в нем было два человека, – один из них серьезно улыбнулся над весельчаком, а весельчак сделал наивную и аккуратную выходку перед пляской.
– Ну, племянница! – крикнул дядюшка взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.
Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движение плечами и стала.
Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала – эта графинечка, воспитанная эмигранткой француженкой, этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел и они уже любовались ею.
Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и в бархате воспитанную графиню, которая умела понять всё то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке.
– Ну, графинечка – чистое дело марш, – радостно смеясь, сказал дядюшка, окончив пляску. – Ай да племянница! Вот только бы муженька тебе молодца выбрать, – чистое дело марш!
– Уж выбран, – сказал улыбаясь Николай.
– О? – сказал удивленно дядюшка, глядя вопросительно на Наташу. Наташа с счастливой улыбкой утвердительно кивнула головой.
– Еще какой! – сказала она. Но как только она сказала это, другой, новый строй мыслей и чувств поднялся в ней. Что значила улыбка Николая, когда он сказал: «уж выбран»? Рад он этому или не рад? Он как будто думает, что мой Болконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы всё понял. Где он теперь? подумала Наташа и лицо ее вдруг стало серьезно. Но это продолжалось только одну секунду. – Не думать, не сметь думать об этом, сказала она себе и улыбаясь, подсела опять к дядюшке, прося его сыграть еще что нибудь.
Дядюшка сыграл еще песню и вальс; потом, помолчав, прокашлялся и запел свою любимую охотническую песню.
Как со вечера пороша
Выпадала хороша…
Дядюшка пел так, как поет народ, с тем полным и наивным убеждением, что в песне все значение заключается только в словах, что напев сам собой приходит и что отдельного напева не бывает, а что напев – так только, для складу. От этого то этот бессознательный напев, как бывает напев птицы, и у дядюшки был необыкновенно хорош. Наташа была в восторге от пения дядюшки. Она решила, что не будет больше учиться на арфе, а будет играть только на гитаре. Она попросила у дядюшки гитару и тотчас же подобрала аккорды к песне.
В десятом часу за Наташей и Петей приехали линейка, дрожки и трое верховых, посланных отыскивать их. Граф и графиня не знали где они и крепко беспокоились, как сказал посланный.
Петю снесли и положили как мертвое тело в линейку; Наташа с Николаем сели в дрожки. Дядюшка укутывал Наташу и прощался с ней с совершенно новой нежностью. Он пешком проводил их до моста, который надо было объехать в брод, и велел с фонарями ехать вперед охотникам.
– Прощай, племянница дорогая, – крикнул из темноты его голос, не тот, который знала прежде Наташа, а тот, который пел: «Как со вечера пороша».
В деревне, которую проезжали, были красные огоньки и весело пахло дымом.
– Что за прелесть этот дядюшка! – сказала Наташа, когда они выехали на большую дорогу.
– Да, – сказал Николай. – Тебе не холодно?
– Нет, мне отлично, отлично. Мне так хорошо, – с недоумением даже cказала Наташа. Они долго молчали.
Ночь была темная и сырая. Лошади не видны были; только слышно было, как они шлепали по невидной грязи.
Что делалось в этой детской, восприимчивой душе, так жадно ловившей и усвоивавшей все разнообразнейшие впечатления жизни? Как это всё укладывалось в ней? Но она была очень счастлива. Уже подъезжая к дому, она вдруг запела мотив песни: «Как со вечера пороша», мотив, который она ловила всю дорогу и наконец поймала.
– Поймала? – сказал Николай.
– Ты об чем думал теперь, Николенька? – спросила Наташа. – Они любили это спрашивать друг у друга.
– Я? – сказал Николай вспоминая; – вот видишь ли, сначала я думал, что Ругай, красный кобель, похож на дядюшку и что ежели бы он был человек, то он дядюшку всё бы еще держал у себя, ежели не за скачку, так за лады, всё бы держал. Как он ладен, дядюшка! Не правда ли? – Ну а ты?
– Я? Постой, постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем и думаем, что мы едем домой, а мы Бог знает куда едем в этой темноте и вдруг приедем и увидим, что мы не в Отрадном, а в волшебном царстве. А потом еще я думала… Нет, ничего больше.
– Знаю, верно про него думала, – сказал Николай улыбаясь, как узнала Наташа по звуку его голоса.
– Нет, – отвечала Наташа, хотя действительно она вместе с тем думала и про князя Андрея, и про то, как бы ему понравился дядюшка. – А еще я всё повторяю, всю дорогу повторяю: как Анисьюшка хорошо выступала, хорошо… – сказала Наташа. И Николай услыхал ее звонкий, беспричинный, счастливый смех.
– А знаешь, – вдруг сказала она, – я знаю, что никогда уже я не буду так счастлива, спокойна, как теперь.
– Вот вздор, глупости, вранье – сказал Николай и подумал: «Что за прелесть эта моя Наташа! Такого другого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж, всё бы с ней ездили!»
«Экая прелесть этот Николай!» думала Наташа. – А! еще огонь в гостиной, – сказала она, указывая на окна дома, красиво блестевшие в мокрой, бархатной темноте ночи.
Граф Илья Андреич вышел из предводителей, потому что эта должность была сопряжена с слишком большими расходами. Но дела его всё не поправлялись. Часто Наташа и Николай видели тайные, беспокойные переговоры родителей и слышали толки о продаже богатого, родового Ростовского дома и подмосковной. Без предводительства не нужно было иметь такого большого приема, и отрадненская жизнь велась тише, чем в прежние годы; но огромный дом и флигеля всё таки были полны народом, за стол всё так же садилось больше человек. Всё это были свои, обжившиеся в доме люди, почти члены семейства или такие, которые, казалось, необходимо должны были жить в доме графа. Таковы были Диммлер – музыкант с женой, Иогель – танцовальный учитель с семейством, старушка барышня Белова, жившая в доме, и еще многие другие: учителя Пети, бывшая гувернантка барышень и просто люди, которым лучше или выгоднее было жить у графа, чем дома. Не было такого большого приезда как прежде, но ход жизни велся тот же, без которого не могли граф с графиней представить себе жизни. Та же была, еще увеличенная Николаем, охота, те же 50 лошадей и 15 кучеров на конюшне, те же дорогие подарки в именины, и торжественные на весь уезд обеды; те же графские висты и бостоны, за которыми он, распуская всем на вид карты, давал себя каждый день на сотни обыгрывать соседям, смотревшим на право составлять партию графа Ильи Андреича, как на самую выгодную аренду.
Граф, как в огромных тенетах, ходил в своих делах, стараясь не верить тому, что он запутался и с каждым шагом всё более и более запутываясь и чувствуя себя не в силах ни разорвать сети, опутавшие его, ни осторожно, терпеливо приняться распутывать их. Графиня любящим сердцем чувствовала, что дети ее разоряются, что граф не виноват, что он не может быть не таким, каким он есть, что он сам страдает (хотя и скрывает это) от сознания своего и детского разорения, и искала средств помочь делу. С ее женской точки зрения представлялось только одно средство – женитьба Николая на богатой невесте. Она чувствовала, что это была последняя надежда, и что если Николай откажется от партии, которую она нашла ему, надо будет навсегда проститься с возможностью поправить дела. Партия эта была Жюли Карагина, дочь прекрасных, добродетельных матери и отца, с детства известная Ростовым, и теперь богатая невеста по случаю смерти последнего из ее братьев.
Графиня писала прямо к Карагиной в Москву, предлагая ей брак ее дочери с своим сыном и получила от нее благоприятный ответ. Карагина отвечала, что она с своей стороны согласна, что всё будет зависеть от склонности ее дочери. Карагина приглашала Николая приехать в Москву.
Несколько раз, со слезами на глазах, графиня говорила сыну, что теперь, когда обе дочери ее пристроены – ее единственное желание состоит в том, чтобы видеть его женатым. Она говорила, что легла бы в гроб спокойной, ежели бы это было. Потом говорила, что у нее есть прекрасная девушка на примете и выпытывала его мнение о женитьбе.
В других разговорах она хвалила Жюли и советовала Николаю съездить в Москву на праздники повеселиться. Николай догадывался к чему клонились разговоры его матери, и в один из таких разговоров вызвал ее на полную откровенность. Она высказала ему, что вся надежда поправления дел основана теперь на его женитьбе на Карагиной.
– Что ж, если бы я любил девушку без состояния, неужели вы потребовали бы, maman, чтобы я пожертвовал чувством и честью для состояния? – спросил он у матери, не понимая жестокости своего вопроса и желая только выказать свое благородство.
– Нет, ты меня не понял, – сказала мать, не зная, как оправдаться. – Ты меня не понял, Николинька. Я желаю твоего счастья, – прибавила она и почувствовала, что она говорит неправду, что она запуталась. – Она заплакала.
– Маменька, не плачьте, а только скажите мне, что вы этого хотите, и вы знаете, что я всю жизнь свою, всё отдам для того, чтобы вы были спокойны, – сказал Николай. Я всем пожертвую для вас, даже своим чувством.
Но графиня не так хотела поставить вопрос: она не хотела жертвы от своего сына, она сама бы хотела жертвовать ему.
– Нет, ты меня не понял, не будем говорить, – сказала она, утирая слезы.
«Да, может быть, я и люблю бедную девушку, говорил сам себе Николай, что ж, мне пожертвовать чувством и честью для состояния? Удивляюсь, как маменька могла мне сказать это. Оттого что Соня бедна, то я и не могу любить ее, думал он, – не могу отвечать на ее верную, преданную любовь. А уж наверное с ней я буду счастливее, чем с какой нибудь куклой Жюли. Пожертвовать своим чувством я всегда могу для блага своих родных, говорил он сам себе, но приказывать своему чувству я не могу. Ежели я люблю Соню, то чувство мое сильнее и выше всего для меня».
Николай не поехал в Москву, графиня не возобновляла с ним разговора о женитьбе и с грустью, а иногда и озлоблением видела признаки всё большего и большего сближения между своим сыном и бесприданной Соней. Она упрекала себя за то, но не могла не ворчать, не придираться к Соне, часто без причины останавливая ее, называя ее «вы», и «моя милая». Более всего добрая графиня за то и сердилась на Соню, что эта бедная, черноглазая племянница была так кротка, так добра, так преданно благодарна своим благодетелям, и так верно, неизменно, с самоотвержением влюблена в Николая, что нельзя было ни в чем упрекнуть ее.
Николай доживал у родных свой срок отпуска. От жениха князя Андрея получено было 4 е письмо, из Рима, в котором он писал, что он уже давно бы был на пути в Россию, ежели бы неожиданно в теплом климате не открылась его рана, что заставляет его отложить свой отъезд до начала будущего года. Наташа была так же влюблена в своего жениха, так же успокоена этой любовью и так же восприимчива ко всем радостям жизни; но в конце четвертого месяца разлуки с ним, на нее начинали находить минуты грусти, против которой она не могла бороться. Ей жалко было самое себя, жалко было, что она так даром, ни для кого, пропадала всё это время, в продолжение которого она чувствовала себя столь способной любить и быть любимой.
В доме Ростовых было невесело.
Пришли святки, и кроме парадной обедни, кроме торжественных и скучных поздравлений соседей и дворовых, кроме на всех надетых новых платьев, не было ничего особенного, ознаменовывающего святки, а в безветренном 20 ти градусном морозе, в ярком ослепляющем солнце днем и в звездном зимнем свете ночью, чувствовалась потребность какого нибудь ознаменования этого времени.
На третий день праздника после обеда все домашние разошлись по своим комнатам. Было самое скучное время дня. Николай, ездивший утром к соседям, заснул в диванной. Старый граф отдыхал в своем кабинете. В гостиной за круглым столом сидела Соня, срисовывая узор. Графиня раскладывала карты. Настасья Ивановна шут с печальным лицом сидел у окна с двумя старушками. Наташа вошла в комнату, подошла к Соне, посмотрела, что она делает, потом подошла к матери и молча остановилась.
– Что ты ходишь, как бесприютная? – сказала ей мать. – Что тебе надо?
– Его мне надо… сейчас, сию минуту мне его надо, – сказала Наташа, блестя глазами и не улыбаясь. – Графиня подняла голову и пристально посмотрела на дочь.
– Не смотрите на меня. Мама, не смотрите, я сейчас заплачу.
– Садись, посиди со мной, – сказала графиня.
– Мама, мне его надо. За что я так пропадаю, мама?… – Голос ее оборвался, слезы брызнули из глаз, и она, чтобы скрыть их, быстро повернулась и вышла из комнаты. Она вышла в диванную, постояла, подумала и пошла в девичью. Там старая горничная ворчала на молодую девушку, запыхавшуюся, с холода прибежавшую с дворни.
– Будет играть то, – говорила старуха. – На всё время есть.
– Пусти ее, Кондратьевна, – сказала Наташа. – Иди, Мавруша, иди.
И отпустив Маврушу, Наташа через залу пошла в переднюю. Старик и два молодые лакея играли в карты. Они прервали игру и встали при входе барышни. «Что бы мне с ними сделать?» подумала Наташа. – Да, Никита, сходи пожалуста… куда бы мне его послать? – Да, сходи на дворню и принеси пожалуста петуха; да, а ты, Миша, принеси овса.
– Немного овса прикажете? – весело и охотно сказал Миша.
– Иди, иди скорее, – подтвердил старик.
– Федор, а ты мелу мне достань.
Проходя мимо буфета, она велела подавать самовар, хотя это было вовсе не время.
Буфетчик Фока был самый сердитый человек из всего дома. Наташа над ним любила пробовать свою власть. Он не поверил ей и пошел спросить, правда ли?
– Уж эта барышня! – сказал Фока, притворно хмурясь на Наташу.
Никто в доме не рассылал столько людей и не давал им столько работы, как Наташа. Она не могла равнодушно видеть людей, чтобы не послать их куда нибудь. Она как будто пробовала, не рассердится ли, не надуется ли на нее кто из них, но ничьих приказаний люди не любили так исполнять, как Наташиных. «Что бы мне сделать? Куда бы мне пойти?» думала Наташа, медленно идя по коридору.
– Настасья Ивановна, что от меня родится? – спросила она шута, который в своей куцавейке шел навстречу ей.
– От тебя блохи, стрекозы, кузнецы, – отвечал шут.
– Боже мой, Боже мой, всё одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать? – И она быстро, застучав ногами, побежала по лестнице к Фогелю, который с женой жил в верхнем этаже. У Фогеля сидели две гувернантки, на столе стояли тарелки с изюмом, грецкими и миндальными орехами. Гувернантки разговаривали о том, где дешевле жить, в Москве или в Одессе. Наташа присела, послушала их разговор с серьезным задумчивым лицом и встала. – Остров Мадагаскар, – проговорила она. – Ма да гас кар, – повторила она отчетливо каждый слог и не отвечая на вопросы m me Schoss о том, что она говорит, вышла из комнаты. Петя, брат ее, был тоже наверху: он с своим дядькой устраивал фейерверк, который намеревался пустить ночью. – Петя! Петька! – закричала она ему, – вези меня вниз. с – Петя подбежал к ней и подставил спину. Она вскочила на него, обхватив его шею руками и он подпрыгивая побежал с ней. – Нет не надо – остров Мадагаскар, – проговорила она и, соскочив с него, пошла вниз.
Как будто обойдя свое царство, испытав свою власть и убедившись, что все покорны, но что всё таки скучно, Наташа пошла в залу, взяла гитару, села в темный угол за шкапчик и стала в басу перебирать струны, выделывая фразу, которую она запомнила из одной оперы, слышанной в Петербурге вместе с князем Андреем. Для посторонних слушателей у ней на гитаре выходило что то, не имевшее никакого смысла, но в ее воображении из за этих звуков воскресал целый ряд воспоминаний. Она сидела за шкапчиком, устремив глаза на полосу света, падавшую из буфетной двери, слушала себя и вспоминала. Она находилась в состоянии воспоминания.
Соня прошла в буфет с рюмкой через залу. Наташа взглянула на нее, на щель в буфетной двери и ей показалось, что она вспоминает то, что из буфетной двери в щель падал свет и что Соня прошла с рюмкой. «Да и это было точь в точь также», подумала Наташа. – Соня, что это? – крикнула Наташа, перебирая пальцами на толстой струне.
– Ах, ты тут! – вздрогнув, сказала Соня, подошла и прислушалась. – Не знаю. Буря? – сказала она робко, боясь ошибиться.
«Ну вот точно так же она вздрогнула, точно так же подошла и робко улыбнулась тогда, когда это уж было», подумала Наташа, «и точно так же… я подумала, что в ней чего то недостает».
– Нет, это хор из Водоноса, слышишь! – И Наташа допела мотив хора, чтобы дать его понять Соне.
– Ты куда ходила? – спросила Наташа.
– Воду в рюмке переменить. Я сейчас дорисую узор.
– Ты всегда занята, а я вот не умею, – сказала Наташа. – А Николай где?
– Спит, кажется.
– Соня, ты поди разбуди его, – сказала Наташа. – Скажи, что я его зову петь. – Она посидела, подумала о том, что это значит, что всё это было, и, не разрешив этого вопроса и нисколько не сожалея о том, опять в воображении своем перенеслась к тому времени, когда она была с ним вместе, и он влюбленными глазами смотрел на нее.
«Ах, поскорее бы он приехал. Я так боюсь, что этого не будет! А главное: я стареюсь, вот что! Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет. Может быть приехал и сидит там в гостиной. Может быть, он вчера еще приехал и я забыла». Она встала, положила гитару и пошла в гостиную. Все домашние, учителя, гувернантки и гости сидели уж за чайным столом. Люди стояли вокруг стола, – а князя Андрея не было, и была всё прежняя жизнь.
– А, вот она, – сказал Илья Андреич, увидав вошедшую Наташу. – Ну, садись ко мне. – Но Наташа остановилась подле матери, оглядываясь кругом, как будто она искала чего то.
– Мама! – проговорила она. – Дайте мне его , дайте, мама, скорее, скорее, – и опять она с трудом удержала рыдания.
Она присела к столу и послушала разговоры старших и Николая, который тоже пришел к столу. «Боже мой, Боже мой, те же лица, те же разговоры, так же папа держит чашку и дует точно так же!» думала Наташа, с ужасом чувствуя отвращение, подымавшееся в ней против всех домашних за то, что они были всё те же.
После чая Николай, Соня и Наташа пошли в диванную, в свой любимый угол, в котором всегда начинались их самые задушевные разговоры.
– Бывает с тобой, – сказала Наташа брату, когда они уселись в диванной, – бывает с тобой, что тебе кажется, что ничего не будет – ничего; что всё, что хорошее, то было? И не то что скучно, а грустно?
– Еще как! – сказал он. – У меня бывало, что всё хорошо, все веселы, а мне придет в голову, что всё это уж надоело и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гулянье, а там играла музыка… и так мне вдруг скучно стало…
– Ах, я это знаю. Знаю, знаю, – подхватила Наташа. – Я еще маленькая была, так со мной это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали и вы все танцовали, а я сидела в классной и рыдала, никогда не забуду: мне и грустно было и жалко было всех, и себя, и всех всех жалко. И, главное, я не виновата была, – сказала Наташа, – ты помнишь?
– Помню, – сказал Николай. – Я помню, что я к тебе пришел потом и мне хотелось тебя утешить и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка болванчик и я его тебе отдать хотел. Ты помнишь?
– А помнишь ты, – сказала Наташа с задумчивой улыбкой, как давно, давно, мы еще совсем маленькие были, дяденька нас позвал в кабинет, еще в старом доме, а темно было – мы это пришли и вдруг там стоит…
– Арап, – докончил Николай с радостной улыбкой, – как же не помнить? Я и теперь не знаю, что это был арап, или мы во сне видели, или нам рассказывали.
– Он серый был, помнишь, и белые зубы – стоит и смотрит на нас…
– Вы помните, Соня? – спросил Николай…
– Да, да я тоже помню что то, – робко отвечала Соня…
– Я ведь спрашивала про этого арапа у папа и у мама, – сказала Наташа. – Они говорят, что никакого арапа не было. А ведь вот ты помнишь!
– Как же, как теперь помню его зубы.
– Как это странно, точно во сне было. Я это люблю.
– А помнишь, как мы катали яйца в зале и вдруг две старухи, и стали по ковру вертеться. Это было, или нет? Помнишь, как хорошо было?
– Да. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья. – Они перебирали улыбаясь с наслаждением воспоминания, не грустного старческого, а поэтического юношеского воспоминания, те впечатления из самого дальнего прошедшего, где сновидение сливается с действительностью, и тихо смеялись, радуясь чему то.
Соня, как и всегда, отстала от них, хотя воспоминания их были общие.
Соня не помнила многого из того, что они вспоминали, а и то, что она помнила, не возбуждало в ней того поэтического чувства, которое они испытывали. Она только наслаждалась их радостью, стараясь подделаться под нее.
Она приняла участие только в том, когда они вспоминали первый приезд Сони. Соня рассказала, как она боялась Николая, потому что у него на курточке были снурки, и ей няня сказала, что и ее в снурки зашьют.
– А я помню: мне сказали, что ты под капустою родилась, – сказала Наташа, – и помню, что я тогда не смела не поверить, но знала, что это не правда, и так мне неловко было.
Во время этого разговора из задней двери диванной высунулась голова горничной. – Барышня, петуха принесли, – шопотом сказала девушка.
– Не надо, Поля, вели отнести, – сказала Наташа.
В середине разговоров, шедших в диванной, Диммлер вошел в комнату и подошел к арфе, стоявшей в углу. Он снял сукно, и арфа издала фальшивый звук.
– Эдуард Карлыч, сыграйте пожалуста мой любимый Nocturiene мосье Фильда, – сказал голос старой графини из гостиной.
Диммлер взял аккорд и, обратясь к Наташе, Николаю и Соне, сказал: – Молодежь, как смирно сидит!
– Да мы философствуем, – сказала Наташа, на минуту оглянувшись, и продолжала разговор. Разговор шел теперь о сновидениях.
Диммлер начал играть. Наташа неслышно, на цыпочках, подошла к столу, взяла свечу, вынесла ее и, вернувшись, тихо села на свое место. В комнате, особенно на диване, на котором они сидели, было темно, но в большие окна падал на пол серебряный свет полного месяца.
– Знаешь, я думаю, – сказала Наташа шопотом, придвигаясь к Николаю и Соне, когда уже Диммлер кончил и всё сидел, слабо перебирая струны, видимо в нерешительности оставить, или начать что нибудь новое, – что когда так вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довоспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете…
– Это метампсикова, – сказала Соня, которая всегда хорошо училась и все помнила. – Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных.
– Нет, знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных, – сказала Наташа тем же шопотом, хотя музыка и кончилась, – а я знаю наверное, что мы были ангелами там где то и здесь были, и от этого всё помним…
– Можно мне присоединиться к вам? – сказал тихо подошедший Диммлер и подсел к ним.
– Ежели бы мы были ангелами, так за что же мы попали ниже? – сказал Николай. – Нет, это не может быть!
– Не ниже, кто тебе сказал, что ниже?… Почему я знаю, чем я была прежде, – с убеждением возразила Наташа. – Ведь душа бессмертна… стало быть, ежели я буду жить всегда, так я и прежде жила, целую вечность жила.
– Да, но трудно нам представить вечность, – сказал Диммлер, который подошел к молодым людям с кроткой презрительной улыбкой, но теперь говорил так же тихо и серьезно, как и они.
– Отчего же трудно представить вечность? – сказала Наташа. – Нынче будет, завтра будет, всегда будет и вчера было и третьего дня было…
– Наташа! теперь твой черед. Спой мне что нибудь, – послышался голос графини. – Что вы уселись, точно заговорщики.
– Мама! мне так не хочется, – сказала Наташа, но вместе с тем встала.
Всем им, даже и немолодому Диммлеру, не хотелось прерывать разговор и уходить из уголка диванного, но Наташа встала, и Николай сел за клавикорды. Как всегда, став на средину залы и выбрав выгоднейшее место для резонанса, Наташа начала петь любимую пьесу своей матери.
Она сказала, что ей не хотелось петь, но она давно прежде, и долго после не пела так, как она пела в этот вечер. Граф Илья Андреич из кабинета, где он беседовал с Митинькой, слышал ее пенье, и как ученик, торопящийся итти играть, доканчивая урок, путался в словах, отдавая приказания управляющему и наконец замолчал, и Митинька, тоже слушая, молча с улыбкой, стоял перед графом. Николай не спускал глаз с сестры, и вместе с нею переводил дыхание. Соня, слушая, думала о том, какая громадная разница была между ей и ее другом и как невозможно было ей хоть на сколько нибудь быть столь обворожительной, как ее кузина. Старая графиня сидела с счастливо грустной улыбкой и слезами на глазах, изредка покачивая головой. Она думала и о Наташе, и о своей молодости, и о том, как что то неестественное и страшное есть в этом предстоящем браке Наташи с князем Андреем.
Диммлер, подсев к графине и закрыв глаза, слушал.
– Нет, графиня, – сказал он наконец, – это талант европейский, ей учиться нечего, этой мягкости, нежности, силы…
– Ах! как я боюсь за нее, как я боюсь, – сказала графиня, не помня, с кем она говорит. Ее материнское чутье говорило ей, что чего то слишком много в Наташе, и что от этого она не будет счастлива. Наташа не кончила еще петь, как в комнату вбежал восторженный четырнадцатилетний Петя с известием, что пришли ряженые.
Наташа вдруг остановилась.
– Дурак! – закричала она на брата, подбежала к стулу, упала на него и зарыдала так, что долго потом не могла остановиться.
– Ничего, маменька, право ничего, так: Петя испугал меня, – говорила она, стараясь улыбаться, но слезы всё текли и всхлипывания сдавливали горло.
Наряженные дворовые, медведи, турки, трактирщики, барыни, страшные и смешные, принеся с собою холод и веселье, сначала робко жались в передней; потом, прячась один за другого, вытеснялись в залу; и сначала застенчиво, а потом всё веселее и дружнее начались песни, пляски, хоровые и святочные игры. Графиня, узнав лица и посмеявшись на наряженных, ушла в гостиную. Граф Илья Андреич с сияющей улыбкой сидел в зале, одобряя играющих. Молодежь исчезла куда то.
Через полчаса в зале между другими ряжеными появилась еще старая барыня в фижмах – это был Николай. Турчанка был Петя. Паяс – это был Диммлер, гусар – Наташа и черкес – Соня, с нарисованными пробочными усами и бровями.
После снисходительного удивления, неузнавания и похвал со стороны не наряженных, молодые люди нашли, что костюмы так хороши, что надо было их показать еще кому нибудь.
Николай, которому хотелось по отличной дороге прокатить всех на своей тройке, предложил, взяв с собой из дворовых человек десять наряженных, ехать к дядюшке.
– Нет, ну что вы его, старика, расстроите! – сказала графиня, – да и негде повернуться у него. Уж ехать, так к Мелюковым.
Мелюкова была вдова с детьми разнообразного возраста, также с гувернантками и гувернерами, жившая в четырех верстах от Ростовых.
– Вот, ma chere, умно, – подхватил расшевелившийся старый граф. – Давай сейчас наряжусь и поеду с вами. Уж я Пашету расшевелю.
Но графиня не согласилась отпустить графа: у него все эти дни болела нога. Решили, что Илье Андреевичу ехать нельзя, а что ежели Луиза Ивановна (m me Schoss) поедет, то барышням можно ехать к Мелюковой. Соня, всегда робкая и застенчивая, настоятельнее всех стала упрашивать Луизу Ивановну не отказать им.
Наряд Сони был лучше всех. Ее усы и брови необыкновенно шли к ней. Все говорили ей, что она очень хороша, и она находилась в несвойственном ей оживленно энергическом настроении. Какой то внутренний голос говорил ей, что нынче или никогда решится ее судьба, и она в своем мужском платье казалась совсем другим человеком. Луиза Ивановна согласилась, и через полчаса четыре тройки с колокольчиками и бубенчиками, визжа и свистя подрезами по морозному снегу, подъехали к крыльцу.
Наташа первая дала тон святочного веселья, и это веселье, отражаясь от одного к другому, всё более и более усиливалось и дошло до высшей степени в то время, когда все вышли на мороз, и переговариваясь, перекликаясь, смеясь и крича, расселись в сани.
Две тройки были разгонные, третья тройка старого графа с орловским рысаком в корню; четвертая собственная Николая с его низеньким, вороным, косматым коренником. Николай в своем старушечьем наряде, на который он надел гусарский, подпоясанный плащ, стоял в середине своих саней, подобрав вожжи.
Было так светло, что он видел отблескивающие на месячном свете бляхи и глаза лошадей, испуганно оглядывавшихся на седоков, шумевших под темным навесом подъезда.
В сани Николая сели Наташа, Соня, m me Schoss и две девушки. В сани старого графа сели Диммлер с женой и Петя; в остальные расселись наряженные дворовые.
– Пошел вперед, Захар! – крикнул Николай кучеру отца, чтобы иметь случай перегнать его на дороге.
Тройка старого графа, в которую сел Диммлер и другие ряженые, визжа полозьями, как будто примерзая к снегу, и побрякивая густым колокольцом, тронулась вперед. Пристяжные жались на оглобли и увязали, выворачивая как сахар крепкий и блестящий снег.
Николай тронулся за первой тройкой; сзади зашумели и завизжали остальные. Сначала ехали маленькой рысью по узкой дороге. Пока ехали мимо сада, тени от оголенных деревьев ложились часто поперек дороги и скрывали яркий свет луны, но как только выехали за ограду, алмазно блестящая, с сизым отблеском, снежная равнина, вся облитая месячным сиянием и неподвижная, открылась со всех сторон. Раз, раз, толконул ухаб в передних санях; точно так же толконуло следующие сани и следующие и, дерзко нарушая закованную тишину, одни за другими стали растягиваться сани.
– След заячий, много следов! – прозвучал в морозном скованном воздухе голос Наташи.
– Как видно, Nicolas! – сказал голос Сони. – Николай оглянулся на Соню и пригнулся, чтоб ближе рассмотреть ее лицо. Какое то совсем новое, милое, лицо, с черными бровями и усами, в лунном свете, близко и далеко, выглядывало из соболей.
«Это прежде была Соня», подумал Николай. Он ближе вгляделся в нее и улыбнулся.
– Вы что, Nicolas?
– Ничего, – сказал он и повернулся опять к лошадям.
Выехав на торную, большую дорогу, примасленную полозьями и всю иссеченную следами шипов, видными в свете месяца, лошади сами собой стали натягивать вожжи и прибавлять ходу. Левая пристяжная, загнув голову, прыжками подергивала свои постромки. Коренной раскачивался, поводя ушами, как будто спрашивая: «начинать или рано еще?» – Впереди, уже далеко отделившись и звеня удаляющимся густым колокольцом, ясно виднелась на белом снегу черная тройка Захара. Слышны были из его саней покрикиванье и хохот и голоса наряженных.
– Ну ли вы, разлюбезные, – крикнул Николай, с одной стороны подергивая вожжу и отводя с кнутом pуку. И только по усилившемуся как будто на встречу ветру, и по подергиванью натягивающих и всё прибавляющих скоку пристяжных, заметно было, как шибко полетела тройка. Николай оглянулся назад. С криком и визгом, махая кнутами и заставляя скакать коренных, поспевали другие тройки. Коренной стойко поколыхивался под дугой, не думая сбивать и обещая еще и еще наддать, когда понадобится.
Николай догнал первую тройку. Они съехали с какой то горы, выехали на широко разъезженную дорогу по лугу около реки.
«Где это мы едем?» подумал Николай. – «По косому лугу должно быть. Но нет, это что то новое, чего я никогда не видал. Это не косой луг и не Дёмкина гора, а это Бог знает что такое! Это что то новое и волшебное. Ну, что бы там ни было!» И он, крикнув на лошадей, стал объезжать первую тройку.
Захар сдержал лошадей и обернул свое уже объиндевевшее до бровей лицо.
Николай пустил своих лошадей; Захар, вытянув вперед руки, чмокнул и пустил своих.
– Ну держись, барин, – проговорил он. – Еще быстрее рядом полетели тройки, и быстро переменялись ноги скачущих лошадей. Николай стал забирать вперед. Захар, не переменяя положения вытянутых рук, приподнял одну руку с вожжами.
– Врешь, барин, – прокричал он Николаю. Николай в скок пустил всех лошадей и перегнал Захара. Лошади засыпали мелким, сухим снегом лица седоков, рядом с ними звучали частые переборы и путались быстро движущиеся ноги, и тени перегоняемой тройки. Свист полозьев по снегу и женские взвизги слышались с разных сторон.
Опять остановив лошадей, Николай оглянулся кругом себя. Кругом была всё та же пропитанная насквозь лунным светом волшебная равнина с рассыпанными по ней звездами.
«Захар кричит, чтобы я взял налево; а зачем налево? думал Николай. Разве мы к Мелюковым едем, разве это Мелюковка? Мы Бог знает где едем, и Бог знает, что с нами делается – и очень странно и хорошо то, что с нами делается». Он оглянулся в сани.
– Посмотри, у него и усы и ресницы, всё белое, – сказал один из сидевших странных, хорошеньких и чужих людей с тонкими усами и бровями.
«Этот, кажется, была Наташа, подумал Николай, а эта m me Schoss; а может быть и нет, а это черкес с усами не знаю кто, но я люблю ее».
– Не холодно ли вам? – спросил он. Они не отвечали и засмеялись. Диммлер из задних саней что то кричал, вероятно смешное, но нельзя было расслышать, что он кричал.
– Да, да, – смеясь отвечали голоса.
– Однако вот какой то волшебный лес с переливающимися черными тенями и блестками алмазов и с какой то анфиладой мраморных ступеней, и какие то серебряные крыши волшебных зданий, и пронзительный визг каких то зверей. «А ежели и в самом деле это Мелюковка, то еще страннее то, что мы ехали Бог знает где, и приехали в Мелюковку», думал Николай.
Действительно это была Мелюковка, и на подъезд выбежали девки и лакеи со свечами и радостными лицами.
– Кто такой? – спрашивали с подъезда.
– Графские наряженные, по лошадям вижу, – отвечали голоса.
Пелагея Даниловна Мелюкова, широкая, энергическая женщина, в очках и распашном капоте, сидела в гостиной, окруженная дочерьми, которым она старалась не дать скучать. Они тихо лили воск и смотрели на тени выходивших фигур, когда зашумели в передней шаги и голоса приезжих.
Гусары, барыни, ведьмы, паясы, медведи, прокашливаясь и обтирая заиндевевшие от мороза лица в передней, вошли в залу, где поспешно зажигали свечи. Паяц – Диммлер с барыней – Николаем открыли пляску. Окруженные кричавшими детьми, ряженые, закрывая лица и меняя голоса, раскланивались перед хозяйкой и расстанавливались по комнате.
– Ах, узнать нельзя! А Наташа то! Посмотрите, на кого она похожа! Право, напоминает кого то. Эдуард то Карлыч как хорош! Я не узнала. Да как танцует! Ах, батюшки, и черкес какой то; право, как идет Сонюшке. Это еще кто? Ну, утешили! Столы то примите, Никита, Ваня. А мы так тихо сидели!
– Ха ха ха!… Гусар то, гусар то! Точно мальчик, и ноги!… Я видеть не могу… – слышались голоса.
Наташа, любимица молодых Мелюковых, с ними вместе исчезла в задние комнаты, куда была потребована пробка и разные халаты и мужские платья, которые в растворенную дверь принимали от лакея оголенные девичьи руки. Через десять минут вся молодежь семейства Мелюковых присоединилась к ряженым.
Пелагея Даниловна, распорядившись очисткой места для гостей и угощениями для господ и дворовых, не снимая очков, с сдерживаемой улыбкой, ходила между ряжеными, близко глядя им в лица и никого не узнавая. Она не узнавала не только Ростовых и Диммлера, но и никак не могла узнать ни своих дочерей, ни тех мужниных халатов и мундиров, которые были на них.
– А это чья такая? – говорила она, обращаясь к своей гувернантке и глядя в лицо своей дочери, представлявшей казанского татарина. – Кажется, из Ростовых кто то. Ну и вы, господин гусар, в каком полку служите? – спрашивала она Наташу. – Турке то, турке пастилы подай, – говорила она обносившему буфетчику: – это их законом не запрещено.
Иногда, глядя на странные, но смешные па, которые выделывали танцующие, решившие раз навсегда, что они наряженные, что никто их не узнает и потому не конфузившиеся, – Пелагея Даниловна закрывалась платком, и всё тучное тело ее тряслось от неудержимого доброго, старушечьего смеха. – Сашинет то моя, Сашинет то! – говорила она.
После русских плясок и хороводов Пелагея Даниловна соединила всех дворовых и господ вместе, в один большой круг; принесли кольцо, веревочку и рублик, и устроились общие игры.
Через час все костюмы измялись и расстроились. Пробочные усы и брови размазались по вспотевшим, разгоревшимся и веселым лицам. Пелагея Даниловна стала узнавать ряженых, восхищалась тем, как хорошо были сделаны костюмы, как шли они особенно к барышням, и благодарила всех за то, что так повеселили ее. Гостей позвали ужинать в гостиную, а в зале распорядились угощением дворовых.
– Нет, в бане гадать, вот это страшно! – говорила за ужином старая девушка, жившая у Мелюковых.
– Отчего же? – спросила старшая дочь Мелюковых.
– Да не пойдете, тут надо храбрость…
– Я пойду, – сказала Соня.
– Расскажите, как это было с барышней? – сказала вторая Мелюкова.
– Да вот так то, пошла одна барышня, – сказала старая девушка, – взяла петуха, два прибора – как следует, села. Посидела, только слышит, вдруг едет… с колокольцами, с бубенцами подъехали сани; слышит, идет. Входит совсем в образе человеческом, как есть офицер, пришел и сел с ней за прибор.
– А! А!… – закричала Наташа, с ужасом выкатывая глаза.
– Да как же, он так и говорит?
– Да, как человек, всё как должно быть, и стал, и стал уговаривать, а ей бы надо занять его разговором до петухов; а она заробела; – только заробела и закрылась руками. Он ее и подхватил. Хорошо, что тут девушки прибежали…
– Ну, что пугать их! – сказала Пелагея Даниловна.
– Мамаша, ведь вы сами гадали… – сказала дочь.
– А как это в амбаре гадают? – спросила Соня.
– Да вот хоть бы теперь, пойдут к амбару, да и слушают. Что услышите: заколачивает, стучит – дурно, а пересыпает хлеб – это к добру; а то бывает…
– Мама расскажите, что с вами было в амбаре?
Пелагея Даниловна улыбнулась.
– Да что, я уж забыла… – сказала она. – Ведь вы никто не пойдете?
– Нет, я пойду; Пепагея Даниловна, пустите меня, я пойду, – сказала Соня.
– Ну что ж, коли не боишься.
– Луиза Ивановна, можно мне? – спросила Соня.
Играли ли в колечко, в веревочку или рублик, разговаривали ли, как теперь, Николай не отходил от Сони и совсем новыми глазами смотрел на нее. Ему казалось, что он нынче только в первый раз, благодаря этим пробочным усам, вполне узнал ее. Соня действительно этот вечер была весела, оживлена и хороша, какой никогда еще не видал ее Николай.
«Так вот она какая, а я то дурак!» думал он, глядя на ее блестящие глаза и счастливую, восторженную, из под усов делающую ямочки на щеках, улыбку, которой он не видал прежде.
– Я ничего не боюсь, – сказала Соня. – Можно сейчас? – Она встала. Соне рассказали, где амбар, как ей молча стоять и слушать, и подали ей шубку. Она накинула ее себе на голову и взглянула на Николая.
«Что за прелесть эта девочка!» подумал он. «И об чем я думал до сих пор!»
Соня вышла в коридор, чтобы итти в амбар. Николай поспешно пошел на парадное крыльцо, говоря, что ему жарко. Действительно в доме было душно от столпившегося народа.
На дворе был тот же неподвижный холод, тот же месяц, только было еще светлее. Свет был так силен и звезд на снеге было так много, что на небо не хотелось смотреть, и настоящих звезд было незаметно. На небе было черно и скучно, на земле было весело.
«Дурак я, дурак! Чего ждал до сих пор?» подумал Николай и, сбежав на крыльцо, он обошел угол дома по той тропинке, которая вела к заднему крыльцу. Он знал, что здесь пойдет Соня. На половине дороги стояли сложенные сажени дров, на них был снег, от них падала тень; через них и с боку их, переплетаясь, падали тени старых голых лип на снег и дорожку. Дорожка вела к амбару. Рубленная стена амбара и крыша, покрытая снегом, как высеченная из какого то драгоценного камня, блестели в месячном свете. В саду треснуло дерево, и опять всё совершенно затихло. Грудь, казалось, дышала не воздухом, а какой то вечно молодой силой и радостью.
С девичьего крыльца застучали ноги по ступенькам, скрыпнуло звонко на последней, на которую был нанесен снег, и голос старой девушки сказал:
– Прямо, прямо, вот по дорожке, барышня. Только не оглядываться.
– Я не боюсь, – отвечал голос Сони, и по дорожке, по направлению к Николаю, завизжали, засвистели в тоненьких башмачках ножки Сони.
Соня шла закутавшись в шубку. Она была уже в двух шагах, когда увидала его; она увидала его тоже не таким, каким она знала и какого всегда немножко боялась. Он был в женском платье со спутанными волосами и с счастливой и новой для Сони улыбкой. Соня быстро подбежала к нему.
«Совсем другая, и всё та же», думал Николай, глядя на ее лицо, всё освещенное лунным светом. Он продел руки под шубку, прикрывавшую ее голову, обнял, прижал к себе и поцеловал в губы, над которыми были усы и от которых пахло жженой пробкой. Соня в самую середину губ поцеловала его и, выпростав маленькие руки, с обеих сторон взяла его за щеки.
– Соня!… Nicolas!… – только сказали они. Они подбежали к амбару и вернулись назад каждый с своего крыльца.
Когда все поехали назад от Пелагеи Даниловны, Наташа, всегда всё видевшая и замечавшая, устроила так размещение, что Луиза Ивановна и она сели в сани с Диммлером, а Соня села с Николаем и девушками.
Николай, уже не перегоняясь, ровно ехал в обратный путь, и всё вглядываясь в этом странном, лунном свете в Соню, отыскивал при этом всё переменяющем свете, из под бровей и усов свою ту прежнюю и теперешнюю Соню, с которой он решил уже никогда не разлучаться. Он вглядывался, и когда узнавал всё ту же и другую и вспоминал, слышав этот запах пробки, смешанный с чувством поцелуя, он полной грудью вдыхал в себя морозный воздух и, глядя на уходящую землю и блестящее небо, он чувствовал себя опять в волшебном царстве.
– Соня, тебе хорошо? – изредка спрашивал он.
– Да, – отвечала Соня. – А тебе ?
На середине дороги Николай дал подержать лошадей кучеру, на минутку подбежал к саням Наташи и стал на отвод.
– Наташа, – сказал он ей шопотом по французски, – знаешь, я решился насчет Сони.
– Ты ей сказал? – спросила Наташа, вся вдруг просияв от радости.
– Ах, какая ты странная с этими усами и бровями, Наташа! Ты рада?
– Я так рада, так рада! Я уж сердилась на тебя. Я тебе не говорила, но ты дурно с ней поступал. Это такое сердце, Nicolas. Как я рада! Я бываю гадкая, но мне совестно было быть одной счастливой без Сони, – продолжала Наташа. – Теперь я так рада, ну, беги к ней.
– Нет, постой, ах какая ты смешная! – сказал Николай, всё всматриваясь в нее, и в сестре тоже находя что то новое, необыкновенное и обворожительно нежное, чего он прежде не видал в ней. – Наташа, что то волшебное. А?
– Да, – отвечала она, – ты прекрасно сделал.
«Если б я прежде видел ее такою, какою она теперь, – думал Николай, – я бы давно спросил, что сделать и сделал бы всё, что бы она ни велела, и всё бы было хорошо».
– Так ты рада, и я хорошо сделал?
– Ах, так хорошо! Я недавно с мамашей поссорилась за это. Мама сказала, что она тебя ловит. Как это можно говорить? Я с мама чуть не побранилась. И никому никогда не позволю ничего дурного про нее сказать и подумать, потому что в ней одно хорошее.
– Так хорошо? – сказал Николай, еще раз высматривая выражение лица сестры, чтобы узнать, правда ли это, и, скрыпя сапогами, он соскочил с отвода и побежал к своим саням. Всё тот же счастливый, улыбающийся черкес, с усиками и блестящими глазами, смотревший из под собольего капора, сидел там, и этот черкес был Соня, и эта Соня была наверное его будущая, счастливая и любящая жена.
Приехав домой и рассказав матери о том, как они провели время у Мелюковых, барышни ушли к себе. Раздевшись, но не стирая пробочных усов, они долго сидели, разговаривая о своем счастьи. Они говорили о том, как они будут жить замужем, как их мужья будут дружны и как они будут счастливы.
На Наташином столе стояли еще с вечера приготовленные Дуняшей зеркала. – Только когда всё это будет? Я боюсь, что никогда… Это было бы слишком хорошо! – сказала Наташа вставая и подходя к зеркалам.
– Садись, Наташа, может быть ты увидишь его, – сказала Соня. Наташа зажгла свечи и села. – Какого то с усами вижу, – сказала Наташа, видевшая свое лицо.
– Не надо смеяться, барышня, – сказала Дуняша.
Наташа нашла с помощью Сони и горничной положение зеркалу; лицо ее приняло серьезное выражение, и она замолкла. Долго она сидела, глядя на ряд уходящих свечей в зеркалах, предполагая (соображаясь с слышанными рассказами) то, что она увидит гроб, то, что увидит его, князя Андрея, в этом последнем, сливающемся, смутном квадрате. Но как ни готова она была принять малейшее пятно за образ человека или гроба, она ничего не видала. Она часто стала мигать и отошла от зеркала.
– Отчего другие видят, а я ничего не вижу? – сказала она. – Ну садись ты, Соня; нынче непременно тебе надо, – сказала она. – Только за меня… Мне так страшно нынче!
Соня села за зеркало, устроила положение, и стала смотреть.
– Вот Софья Александровна непременно увидят, – шопотом сказала Дуняша; – а вы всё смеетесь.
Соня слышала эти слова, и слышала, как Наташа шопотом сказала:
– И я знаю, что она увидит; она и прошлого года видела.
Минуты три все молчали. «Непременно!» прошептала Наташа и не докончила… Вдруг Соня отсторонила то зеркало, которое она держала, и закрыла глаза рукой.
– Ах, Наташа! – сказала она.
– Видела? Видела? Что видела? – вскрикнула Наташа, поддерживая зеркало.
Соня ничего не видала, она только что хотела замигать глазами и встать, когда услыхала голос Наташи, сказавшей «непременно»… Ей не хотелось обмануть ни Дуняшу, ни Наташу, и тяжело было сидеть. Она сама не знала, как и вследствие чего у нее вырвался крик, когда она закрыла глаза рукою.
– Его видела? – спросила Наташа, хватая ее за руку.
– Да. Постой… я… видела его, – невольно сказала Соня, еще не зная, кого разумела Наташа под словом его: его – Николая или его – Андрея.
«Но отчего же мне не сказать, что я видела? Ведь видят же другие! И кто же может уличить меня в том, что я видела или не видала?» мелькнуло в голове Сони.
– Да, я его видела, – сказала она.
– Как же? Как же? Стоит или лежит?
– Нет, я видела… То ничего не было, вдруг вижу, что он лежит.
– Андрей лежит? Он болен? – испуганно остановившимися глазами глядя на подругу, спрашивала Наташа.
– Нет, напротив, – напротив, веселое лицо, и он обернулся ко мне, – и в ту минуту как она говорила, ей самой казалось, что она видела то, что говорила.
– Ну а потом, Соня?…
– Тут я не рассмотрела, что то синее и красное…
– Соня! когда он вернется? Когда я увижу его! Боже мой, как я боюсь за него и за себя, и за всё мне страшно… – заговорила Наташа, и не отвечая ни слова на утешения Сони, легла в постель и долго после того, как потушили свечу, с открытыми глазами, неподвижно лежала на постели и смотрела на морозный, лунный свет сквозь замерзшие окна.
Вскоре после святок Николай объявил матери о своей любви к Соне и о твердом решении жениться на ней. Графиня, давно замечавшая то, что происходило между Соней и Николаем, и ожидавшая этого объяснения, молча выслушала его слова и сказала сыну, что он может жениться на ком хочет; но что ни она, ни отец не дадут ему благословения на такой брак. В первый раз Николай почувствовал, что мать недовольна им, что несмотря на всю свою любовь к нему, она не уступит ему. Она, холодно и не глядя на сына, послала за мужем; и, когда он пришел, графиня хотела коротко и холодно в присутствии Николая сообщить ему в чем дело, но не выдержала: заплакала слезами досады и вышла из комнаты. Старый граф стал нерешительно усовещивать Николая и просить его отказаться от своего намерения. Николай отвечал, что он не может изменить своему слову, и отец, вздохнув и очевидно смущенный, весьма скоро перервал свою речь и пошел к графине. При всех столкновениях с сыном, графа не оставляло сознание своей виноватости перед ним за расстройство дел, и потому он не мог сердиться на сына за отказ жениться на богатой невесте и за выбор бесприданной Сони, – он только при этом случае живее вспоминал то, что, ежели бы дела не были расстроены, нельзя было для Николая желать лучшей жены, чем Соня; и что виновен в расстройстве дел только один он с своим Митенькой и с своими непреодолимыми привычками.
Отец с матерью больше не говорили об этом деле с сыном; но несколько дней после этого, графиня позвала к себе Соню и с жестокостью, которой не ожидали ни та, ни другая, графиня упрекала племянницу в заманивании сына и в неблагодарности. Соня, молча с опущенными глазами, слушала жестокие слова графини и не понимала, чего от нее требуют. Она всем готова была пожертвовать для своих благодетелей. Мысль о самопожертвовании была любимой ее мыслью; но в этом случае она не могла понять, кому и чем ей надо жертвовать. Она не могла не любить графиню и всю семью Ростовых, но и не могла не любить Николая и не знать, что его счастие зависело от этой любви. Она была молчалива и грустна, и не отвечала. Николай не мог, как ему казалось, перенести долее этого положения и пошел объясниться с матерью. Николай то умолял мать простить его и Соню и согласиться на их брак, то угрожал матери тем, что, ежели Соню будут преследовать, то он сейчас же женится на ней тайно.
Графиня с холодностью, которой никогда не видал сын, отвечала ему, что он совершеннолетний, что князь Андрей женится без согласия отца, и что он может то же сделать, но что никогда она не признает эту интригантку своей дочерью.
Взорванный словом интригантка , Николай, возвысив голос, сказал матери, что он никогда не думал, чтобы она заставляла его продавать свои чувства, и что ежели это так, то он последний раз говорит… Но он не успел сказать того решительного слова, которого, судя по выражению его лица, с ужасом ждала мать и которое может быть навсегда бы осталось жестоким воспоминанием между ними. Он не успел договорить, потому что Наташа с бледным и серьезным лицом вошла в комнату от двери, у которой она подслушивала.
– Николинька, ты говоришь пустяки, замолчи, замолчи! Я тебе говорю, замолчи!.. – почти кричала она, чтобы заглушить его голос.
– Мама, голубчик, это совсем не оттого… душечка моя, бедная, – обращалась она к матери, которая, чувствуя себя на краю разрыва, с ужасом смотрела на сына, но, вследствие упрямства и увлечения борьбы, не хотела и не могла сдаться.
– Николинька, я тебе растолкую, ты уйди – вы послушайте, мама голубушка, – говорила она матери.
Слова ее были бессмысленны; но они достигли того результата, к которому она стремилась.
Графиня тяжело захлипав спрятала лицо на груди дочери, а Николай встал, схватился за голову и вышел из комнаты.
Наташа взялась за дело примирения и довела его до того, что Николай получил обещание от матери в том, что Соню не будут притеснять, и сам дал обещание, что он ничего не предпримет тайно от родителей.
С твердым намерением, устроив в полку свои дела, выйти в отставку, приехать и жениться на Соне, Николай, грустный и серьезный, в разладе с родными, но как ему казалось, страстно влюбленный, в начале января уехал в полк.
После отъезда Николая в доме Ростовых стало грустнее чем когда нибудь. Графиня от душевного расстройства сделалась больна.
Соня была печальна и от разлуки с Николаем и еще более от того враждебного тона, с которым не могла не обращаться с ней графиня. Граф более чем когда нибудь был озабочен дурным положением дел, требовавших каких нибудь решительных мер. Необходимо было продать московский дом и подмосковную, а для продажи дома нужно было ехать в Москву. Но здоровье графини заставляло со дня на день откладывать отъезд.
Наташа, легко и даже весело переносившая первое время разлуки с своим женихом, теперь с каждым днем становилась взволнованнее и нетерпеливее. Мысль о том, что так, даром, ни для кого пропадает ее лучшее время, которое бы она употребила на любовь к нему, неотступно мучила ее. Письма его большей частью сердили ее. Ей оскорбительно было думать, что тогда как она живет только мыслью о нем, он живет настоящею жизнью, видит новые места, новых людей, которые для него интересны. Чем занимательнее были его письма, тем ей было досаднее. Ее же письма к нему не только не доставляли ей утешения, но представлялись скучной и фальшивой обязанностью. Она не умела писать, потому что не могла постигнуть возможности выразить в письме правдиво хоть одну тысячную долю того, что она привыкла выражать голосом, улыбкой и взглядом. Она писала ему классически однообразные, сухие письма, которым сама не приписывала никакого значения и в которых, по брульонам, графиня поправляла ей орфографические ошибки.
Здоровье графини все не поправлялось; но откладывать поездку в Москву уже не было возможности. Нужно было делать приданое, нужно было продать дом, и притом князя Андрея ждали сперва в Москву, где в эту зиму жил князь Николай Андреич, и Наташа была уверена, что он уже приехал.
Графиня осталась в деревне, а граф, взяв с собой Соню и Наташу, в конце января поехал в Москву.
Пьер после сватовства князя Андрея и Наташи, без всякой очевидной причины, вдруг почувствовал невозможность продолжать прежнюю жизнь. Как ни твердо он был убежден в истинах, открытых ему его благодетелем, как ни радостно ему было то первое время увлечения внутренней работой самосовершенствования, которой он предался с таким жаром, после помолвки князя Андрея с Наташей и после смерти Иосифа Алексеевича, о которой он получил известие почти в то же время, – вся прелесть этой прежней жизни вдруг пропала для него. Остался один остов жизни: его дом с блестящею женой, пользовавшеюся теперь милостями одного важного лица, знакомство со всем Петербургом и служба с скучными формальностями. И эта прежняя жизнь вдруг с неожиданной мерзостью представилась Пьеру. Он перестал писать свой дневник, избегал общества братьев, стал опять ездить в клуб, стал опять много пить, опять сблизился с холостыми компаниями и начал вести такую жизнь, что графиня Елена Васильевна сочла нужным сделать ему строгое замечание. Пьер почувствовав, что она была права, и чтобы не компрометировать свою жену, уехал в Москву.
В Москве, как только он въехал в свой огромный дом с засохшими и засыхающими княжнами, с громадной дворней, как только он увидал – проехав по городу – эту Иверскую часовню с бесчисленными огнями свеч перед золотыми ризами, эту Кремлевскую площадь с незаезженным снегом, этих извозчиков и лачужки Сивцева Вражка, увидал стариков московских, ничего не желающих и никуда не спеша доживающих свой век, увидал старушек, московских барынь, московские балы и Московский Английский клуб, – он почувствовал себя дома, в тихом пристанище. Ему стало в Москве покойно, тепло, привычно и грязно, как в старом халате.
Московское общество всё, начиная от старух до детей, как своего давно жданного гостя, которого место всегда было готово и не занято, – приняло Пьера. Для московского света, Пьер был самым милым, добрым, умным веселым, великодушным чудаком, рассеянным и душевным, русским, старого покроя, барином. Кошелек его всегда был пуст, потому что открыт для всех.
Бенефисы, дурные картины, статуи, благотворительные общества, цыгане, школы, подписные обеды, кутежи, масоны, церкви, книги – никто и ничто не получало отказа, и ежели бы не два его друга, занявшие у него много денег и взявшие его под свою опеку, он бы всё роздал. В клубе не было ни обеда, ни вечера без него. Как только он приваливался на свое место на диване после двух бутылок Марго, его окружали, и завязывались толки, споры, шутки. Где ссорились, он – одной своей доброй улыбкой и кстати сказанной шуткой, мирил. Масонские столовые ложи были скучны и вялы, ежели его не было.
Когда после холостого ужина он, с доброй и сладкой улыбкой, сдаваясь на просьбы веселой компании, поднимался, чтобы ехать с ними, между молодежью раздавались радостные, торжественные крики. На балах он танцовал, если не доставало кавалера. Молодые дамы и барышни любили его за то, что он, не ухаживая ни за кем, был со всеми одинаково любезен, особенно после ужина. «Il est charmant, il n'a pas de seхе», [Он очень мил, но не имеет пола,] говорили про него.
Пьер был тем отставным добродушно доживающим свой век в Москве камергером, каких были сотни.
Как бы он ужаснулся, ежели бы семь лет тому назад, когда он только приехал из за границы, кто нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита, определена предвечно, и что, как он ни вертись, он будет тем, чем были все в его положении. Он не мог бы поверить этому! Разве не он всей душой желал, то произвести республику в России, то самому быть Наполеоном, то философом, то тактиком, победителем Наполеона? Разве не он видел возможность и страстно желал переродить порочный род человеческий и самого себя довести до высшей степени совершенства? Разве не он учреждал и школы и больницы и отпускал своих крестьян на волю?
А вместо всего этого, вот он, богатый муж неверной жены, камергер в отставке, любящий покушать, выпить и расстегнувшись побранить легко правительство, член Московского Английского клуба и всеми любимый член московского общества. Он долго не мог помириться с той мыслью, что он есть тот самый отставной московский камергер, тип которого он так глубоко презирал семь лет тому назад.
Иногда он утешал себя мыслями, что это только так, покамест, он ведет эту жизнь; но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь и в этот клуб и выходили оттуда без одного зуба и волоса.
В минуты гордости, когда он думал о своем положении, ему казалось, что он совсем другой, особенный от тех отставных камергеров, которых он презирал прежде, что те были пошлые и глупые, довольные и успокоенные своим положением, «а я и теперь всё недоволен, всё мне хочется сделать что то для человечества», – говорил он себе в минуты гордости. «А может быть и все те мои товарищи, точно так же, как и я, бились, искали какой то новой, своей дороги в жизни, и так же как и я силой обстановки, общества, породы, той стихийной силой, против которой не властен человек, были приведены туда же, куда и я», говорил он себе в минуты скромности, и поживши в Москве несколько времени, он не презирал уже, а начинал любить, уважать и жалеть, так же как и себя, своих по судьбе товарищей.
На Пьера не находили, как прежде, минуты отчаяния, хандры и отвращения к жизни; но та же болезнь, выражавшаяся прежде резкими припадками, была вогнана внутрь и ни на мгновенье не покидала его. «К чему? Зачем? Что такое творится на свете?» спрашивал он себя с недоумением по нескольку раз в день, невольно начиная вдумываться в смысл явлений жизни; но опытом зная, что на вопросы эти не было ответов, он поспешно старался отвернуться от них, брался за книгу, или спешил в клуб, или к Аполлону Николаевичу болтать о городских сплетнях.
«Елена Васильевна, никогда ничего не любившая кроме своего тела и одна из самых глупых женщин в мире, – думал Пьер – представляется людям верхом ума и утонченности, и перед ней преклоняются. Наполеон Бонапарт был презираем всеми до тех пор, пока он был велик, и с тех пор как он стал жалким комедиантом – император Франц добивается предложить ему свою дочь в незаконные супруги. Испанцы воссылают мольбы Богу через католическое духовенство в благодарность за то, что они победили 14 го июня французов, а французы воссылают мольбы через то же католическое духовенство о том, что они 14 го июня победили испанцев. Братья мои масоны клянутся кровью в том, что они всем готовы жертвовать для ближнего, а не платят по одному рублю на сборы бедных и интригуют Астрея против Ищущих манны, и хлопочут о настоящем Шотландском ковре и об акте, смысла которого не знает и тот, кто писал его, и которого никому не нужно. Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церквей, а вчера засекли кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью». Так думал Пьер, и эта вся, общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что то новое, всякий раз изумляла его. – «Я понимаю эту ложь и путаницу, думал он, – но как мне рассказать им всё, что я понимаю? Я пробовал и всегда находил, что и они в глубине души понимают то же, что и я, но стараются только не видеть ее . Стало быть так надо! Но мне то, мне куда деваться?» думал Пьер. Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей, – способность видеть и верить в возможность добра и правды, и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьезное участие. Всякая область труда в глазах его соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности. А между тем надо было жить, надо было быть заняту. Слишком страшно было быть под гнетом этих неразрешимых вопросов жизни, и он отдавался первым увлечениям, чтобы только забыть их. Он ездил во всевозможные общества, много пил, покупал картины и строил, а главное читал.
Он читал и читал всё, что попадалось под руку, и читал так что, приехав домой, когда лакеи еще раздевали его, он, уже взяв книгу, читал – и от чтения переходил ко сну, и от сна к болтовне в гостиных и клубе, от болтовни к кутежу и женщинам, от кутежа опять к болтовне, чтению и вину. Пить вино для него становилось всё больше и больше физической и вместе нравственной потребностью. Несмотря на то, что доктора говорили ему, что с его корпуленцией, вино для него опасно, он очень много пил. Ему становилось вполне хорошо только тогда, когда он, сам не замечая как, опрокинув в свой большой рот несколько стаканов вина, испытывал приятную теплоту в теле, нежность ко всем своим ближним и готовность ума поверхностно отзываться на всякую мысль, не углубляясь в сущность ее. Только выпив бутылку и две вина, он смутно сознавал, что тот запутанный, страшный узел жизни, который ужасал его прежде, не так страшен, как ему казалось. С шумом в голове, болтая, слушая разговоры или читая после обеда и ужина, он беспрестанно видел этот узел, какой нибудь стороной его. Но только под влиянием вина он говорил себе: «Это ничего. Это я распутаю – вот у меня и готово объяснение. Но теперь некогда, – я после обдумаю всё это!» Но это после никогда не приходило.
Натощак, поутру, все прежние вопросы представлялись столь же неразрешимыми и страшными, и Пьер торопливо хватался за книгу и радовался, когда кто нибудь приходил к нему.
Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятие, для того чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни: кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. «Нет ни ничтожного, ни важного, всё равно: только бы спастись от нее как умею»! думал Пьер. – «Только бы не видать ее , эту страшную ее ».
В начале зимы, князь Николай Андреич Болконский с дочерью приехали в Москву. По своему прошедшему, по своему уму и оригинальности, в особенности по ослаблению на ту пору восторга к царствованию императора Александра, и по тому анти французскому и патриотическому направлению, которое царствовало в то время в Москве, князь Николай Андреич сделался тотчас же предметом особенной почтительности москвичей и центром московской оппозиции правительству.
Князь очень постарел в этот год. В нем появились резкие признаки старости: неожиданные засыпанья, забывчивость ближайших по времени событий и памятливость к давнишним, и детское тщеславие, с которым он принимал роль главы московской оппозиции. Несмотря на то, когда старик, особенно по вечерам, выходил к чаю в своей шубке и пудренном парике, и начинал, затронутый кем нибудь, свои отрывистые рассказы о прошедшем, или еще более отрывистые и резкие суждения о настоящем, он возбуждал во всех своих гостях одинаковое чувство почтительного уважения. Для посетителей весь этот старинный дом с огромными трюмо, дореволюционной мебелью, этими лакеями в пудре, и сам прошлого века крутой и умный старик с его кроткою дочерью и хорошенькой француженкой, которые благоговели перед ним, – представлял величественно приятное зрелище. Но посетители не думали о том, что кроме этих двух трех часов, во время которых они видели хозяев, было еще 22 часа в сутки, во время которых шла тайная внутренняя жизнь дома.
В последнее время в Москве эта внутренняя жизнь сделалась очень тяжела для княжны Марьи. Она была лишена в Москве тех своих лучших радостей – бесед с божьими людьми и уединения, – которые освежали ее в Лысых Горах, и не имела никаких выгод и радостей столичной жизни. В свет она не ездила; все знали, что отец не пускает ее без себя, а сам он по нездоровью не мог ездить, и ее уже не приглашали на обеды и вечера. Надежду на замужество княжна Марья совсем оставила. Она видела ту холодность и озлобление, с которыми князь Николай Андреич принимал и спроваживал от себя молодых людей, могущих быть женихами, иногда являвшихся в их дом. Друзей у княжны Марьи не было: в этот приезд в Москву она разочаровалась в своих двух самых близких людях. М lle Bourienne, с которой она и прежде не могла быть вполне откровенна, теперь стала ей неприятна и она по некоторым причинам стала отдаляться от нее. Жюли, которая была в Москве и к которой княжна Марья писала пять лет сряду, оказалась совершенно чужою ей, когда княжна Марья вновь сошлась с нею лично. Жюли в это время, по случаю смерти братьев сделавшись одной из самых богатых невест в Москве, находилась во всем разгаре светских удовольствий. Она была окружена молодыми людьми, которые, как она думала, вдруг оценили ее достоинства. Жюли находилась в том периоде стареющейся светской барышни, которая чувствует, что наступил последний шанс замужества, и теперь или никогда должна решиться ее участь. Княжна Марья с грустной улыбкой вспоминала по четвергам, что ей теперь писать не к кому, так как Жюли, Жюли, от присутствия которой ей не было никакой радости, была здесь и виделась с нею каждую неделю. Она, как старый эмигрант, отказавшийся жениться на даме, у которой он проводил несколько лет свои вечера, жалела о том, что Жюли была здесь и ей некому писать. Княжне Марье в Москве не с кем было поговорить, некому поверить своего горя, а горя много прибавилось нового за это время. Срок возвращения князя Андрея и его женитьбы приближался, а его поручение приготовить к тому отца не только не было исполнено, но дело напротив казалось совсем испорчено, и напоминание о графине Ростовой выводило из себя старого князя, и так уже большую часть времени бывшего не в духе. Новое горе, прибавившееся в последнее время для княжны Марьи, были уроки, которые она давала шестилетнему племяннику. В своих отношениях с Николушкой она с ужасом узнавала в себе свойство раздражительности своего отца. Сколько раз она ни говорила себе, что не надо позволять себе горячиться уча племянника, почти всякий раз, как она садилась с указкой за французскую азбуку, ей так хотелось поскорее, полегче перелить из себя свое знание в ребенка, уже боявшегося, что вот вот тетя рассердится, что она при малейшем невнимании со стороны мальчика вздрагивала, торопилась, горячилась, возвышала голос, иногда дергала его за руку и ставила в угол. Поставив его в угол, она сама начинала плакать над своей злой, дурной натурой, и Николушка, подражая ей рыданьями, без позволенья выходил из угла, подходил к ней и отдергивал от лица ее мокрые руки, и утешал ее. Но более, более всего горя доставляла княжне раздражительность ее отца, всегда направленная против дочери и дошедшая в последнее время до жестокости. Ежели бы он заставлял ее все ночи класть поклоны, ежели бы он бил ее, заставлял таскать дрова и воду, – ей бы и в голову не пришло, что ее положение трудно; но этот любящий мучитель, самый жестокий от того, что он любил и за то мучил себя и ее, – умышленно умел не только оскорбить, унизить ее, но и доказать ей, что она всегда и во всем была виновата. В последнее время в нем появилась новая черта, более всего мучившая княжну Марью – это было его большее сближение с m lle Bourienne. Пришедшая ему, в первую минуту по получении известия о намерении своего сына, мысль шутка о том, что ежели Андрей женится, то и он сам женится на Bourienne, – видимо понравилась ему, и он с упорством последнее время (как казалось княжне Марье) только для того, чтобы ее оскорбить, выказывал особенную ласку к m lle Bоurienne и выказывал свое недовольство к дочери выказываньем любви к Bourienne.
Однажды в Москве, в присутствии княжны Марьи (ей казалось, что отец нарочно при ней это сделал), старый князь поцеловал у m lle Bourienne руку и, притянув ее к себе, обнял лаская. Княжна Марья вспыхнула и выбежала из комнаты. Через несколько минут m lle Bourienne вошла к княжне Марье, улыбаясь и что то весело рассказывая своим приятным голосом. Княжна Марья поспешно отерла слезы, решительными шагами подошла к Bourienne и, видимо сама того не зная, с гневной поспешностью и взрывами голоса, начала кричать на француженку: «Это гадко, низко, бесчеловечно пользоваться слабостью…» Она не договорила. «Уйдите вон из моей комнаты», прокричала она и зарыдала.
На другой день князь ни слова не сказал своей дочери; но она заметила, что за обедом он приказал подавать кушанье, начиная с m lle Bourienne. В конце обеда, когда буфетчик, по прежней привычке, опять подал кофе, начиная с княжны, князь вдруг пришел в бешенство, бросил костылем в Филиппа и тотчас же сделал распоряжение об отдаче его в солдаты. «Не слышат… два раза сказал!… не слышат!»
«Она – первый человек в этом доме; она – мой лучший друг, – кричал князь. – И ежели ты позволишь себе, – закричал он в гневе, в первый раз обращаясь к княжне Марье, – еще раз, как вчера ты осмелилась… забыться перед ней, то я тебе покажу, кто хозяин в доме. Вон! чтоб я не видал тебя; проси у ней прощенья!»
Княжна Марья просила прощенья у Амальи Евгеньевны и у отца за себя и за Филиппа буфетчика, который просил заступы.
В такие минуты в душе княжны Марьи собиралось чувство, похожее на гордость жертвы. И вдруг в такие то минуты, при ней, этот отец, которого она осуждала, или искал очки, ощупывая подле них и не видя, или забывал то, что сейчас было, или делал слабевшими ногами неверный шаг и оглядывался, не видал ли кто его слабости, или, что было хуже всего, он за обедом, когда не было гостей, возбуждавших его, вдруг задремывал, выпуская салфетку, и склонялся над тарелкой, трясущейся головой. «Он стар и слаб, а я смею осуждать его!» думала она с отвращением к самой себе в такие минуты.
В 1811 м году в Москве жил быстро вошедший в моду французский доктор, огромный ростом, красавец, любезный, как француз и, как говорили все в Москве, врач необыкновенного искусства – Метивье. Он был принят в домах высшего общества не как доктор, а как равный.
Князь Николай Андреич, смеявшийся над медициной, последнее время, по совету m lle Bourienne, допустил к себе этого доктора и привык к нему. Метивье раза два в неделю бывал у князя.
В Николин день, в именины князя, вся Москва была у подъезда его дома, но он никого не велел принимать; а только немногих, список которых он передал княжне Марье, велел звать к обеду.
Метивье, приехавший утром с поздравлением, в качестве доктора, нашел приличным de forcer la consigne [нарушить запрет], как он сказал княжне Марье, и вошел к князю. Случилось так, что в это именинное утро старый князь был в одном из своих самых дурных расположений духа. Он целое утро ходил по дому, придираясь ко всем и делая вид, что он не понимает того, что ему говорят, и что его не понимают. Княжна Марья твердо знала это состояние духа тихой и озабоченной ворчливости, которая обыкновенно разрешалась взрывом бешенства, и как перед заряженным, с взведенными курками, ружьем, ходила всё это утро, ожидая неизбежного выстрела. Утро до приезда доктора прошло благополучно. Пропустив доктора, княжна Марья села с книгой в гостиной у двери, от которой она могла слышать всё то, что происходило в кабинете.
Сначала она слышала один голос Метивье, потом голос отца, потом оба голоса заговорили вместе, дверь распахнулась и на пороге показалась испуганная, красивая фигура Метивье с его черным хохлом, и фигура князя в колпаке и халате с изуродованным бешенством лицом и опущенными зрачками глаз.
– Не понимаешь? – кричал князь, – а я понимаю! Французский шпион, Бонапартов раб, шпион, вон из моего дома – вон, я говорю, – и он захлопнул дверь.
Метивье пожимая плечами подошел к mademoiselle Bourienne, прибежавшей на крик из соседней комнаты.
– Князь не совсем здоров, – la bile et le transport au cerveau. Tranquillisez vous, je repasserai demain, [желчь и прилив к мозгу. Успокойтесь, я завтра зайду,] – сказал Метивье и, приложив палец к губам, поспешно вышел.
За дверью слышались шаги в туфлях и крики: «Шпионы, изменники, везде изменники! В своем доме нет минуты покоя!»
После отъезда Метивье старый князь позвал к себе дочь и вся сила его гнева обрушилась на нее. Она была виновата в том, что к нему пустили шпиона. .Ведь он сказал, ей сказал, чтобы она составила список, и тех, кого не было в списке, чтобы не пускали. Зачем же пустили этого мерзавца! Она была причиной всего. С ней он не мог иметь ни минуты покоя, не мог умереть спокойно, говорил он.
– Нет, матушка, разойтись, разойтись, это вы знайте, знайте! Я теперь больше не могу, – сказал он и вышел из комнаты. И как будто боясь, чтобы она не сумела как нибудь утешиться, он вернулся к ней и, стараясь принять спокойный вид, прибавил: – И не думайте, чтобы я это сказал вам в минуту сердца, а я спокоен, и я обдумал это; и это будет – разойтись, поищите себе места!… – Но он не выдержал и с тем озлоблением, которое может быть только у человека, который любит, он, видимо сам страдая, затряс кулаками и прокричал ей:
– И хоть бы какой нибудь дурак взял ее замуж! – Он хлопнул дверью, позвал к себе m lle Bourienne и затих в кабинете.
В два часа съехались избранные шесть персон к обеду. Гости – известный граф Ростопчин, князь Лопухин с своим племянником, генерал Чатров, старый, боевой товарищ князя, и из молодых Пьер и Борис Друбецкой – ждали его в гостиной.
На днях приехавший в Москву в отпуск Борис пожелал быть представленным князю Николаю Андреевичу и сумел до такой степени снискать его расположение, что князь для него сделал исключение из всех холостых молодых людей, которых он не принимал к себе.
Дом князя был не то, что называется «свет», но это был такой маленький кружок, о котором хотя и не слышно было в городе, но в котором лестнее всего было быть принятым. Это понял Борис неделю тому назад, когда при нем Ростопчин сказал главнокомандующему, звавшему графа обедать в Николин день, что он не может быть:
– В этот день уж я всегда езжу прикладываться к мощам князя Николая Андреича.
– Ах да, да, – отвечал главнокомандующий. – Что он?..
Небольшое общество, собравшееся в старомодной, высокой, с старой мебелью, гостиной перед обедом, было похоже на собравшийся, торжественный совет судилища. Все молчали и ежели говорили, то говорили тихо. Князь Николай Андреич вышел серьезен и молчалив. Княжна Марья еще более казалась тихою и робкою, чем обыкновенно. Гости неохотно обращались к ней, потому что видели, что ей было не до их разговоров. Граф Ростопчин один держал нить разговора, рассказывая о последних то городских, то политических новостях.
Лопухин и старый генерал изредка принимали участие в разговоре. Князь Николай Андреич слушал, как верховный судья слушает доклад, который делают ему, только изредка молчанием или коротким словцом заявляя, что он принимает к сведению то, что ему докладывают. Тон разговора был такой, что понятно было, никто не одобрял того, что делалось в политическом мире. Рассказывали о событиях, очевидно подтверждающих то, что всё шло хуже и хуже; но во всяком рассказе и суждении было поразительно то, как рассказчик останавливался или бывал останавливаем всякий раз на той границе, где суждение могло относиться к лицу государя императора.
За обедом разговор зашел о последней политической новости, о захвате Наполеоном владений герцога Ольденбургского и о русской враждебной Наполеону ноте, посланной ко всем европейским дворам.
– Бонапарт поступает с Европой как пират на завоеванном корабле, – сказал граф Ростопчин, повторяя уже несколько раз говоренную им фразу. – Удивляешься только долготерпению или ослеплению государей. Теперь дело доходит до папы, и Бонапарт уже не стесняясь хочет низвергнуть главу католической религии, и все молчат! Один наш государь протестовал против захвата владений герцога Ольденбургского. И то… – Граф Ростопчин замолчал, чувствуя, что он стоял на том рубеже, где уже нельзя осуждать.
– Предложили другие владения заместо Ольденбургского герцогства, – сказал князь Николай Андреич. – Точно я мужиков из Лысых Гор переселял в Богучарово и в рязанские, так и он герцогов.
– Le duc d'Oldenbourg supporte son malheur avec une force de caractere et une resignation admirable, [Герцог Ольденбургский переносит свое несчастие с замечательной силой воли и покорностью судьбе,] – сказал Борис, почтительно вступая в разговор. Он сказал это потому, что проездом из Петербурга имел честь представляться герцогу. Князь Николай Андреич посмотрел на молодого человека так, как будто он хотел бы ему сказать кое что на это, но раздумал, считая его слишком для того молодым.
– Я читал наш протест об Ольденбургском деле и удивлялся плохой редакции этой ноты, – сказал граф Ростопчин, небрежным тоном человека, судящего о деле ему хорошо знакомом.
Пьер с наивным удивлением посмотрел на Ростопчина, не понимая, почему его беспокоила плохая редакция ноты.
– Разве не всё равно, как написана нота, граф? – сказал он, – ежели содержание ее сильно.
– Mon cher, avec nos 500 mille hommes de troupes, il serait facile d'avoir un beau style, [Мой милый, с нашими 500 ми тысячами войска легко, кажется, выражаться хорошим слогом,] – сказал граф Ростопчин. Пьер понял, почему графа Ростопчина беспокоила pедакция ноты.
– Кажется, писак довольно развелось, – сказал старый князь: – там в Петербурге всё пишут, не только ноты, – новые законы всё пишут. Мой Андрюша там для России целый волюм законов написал. Нынче всё пишут! – И он неестественно засмеялся.
Разговор замолк на минуту; старый генерал прокашливаньем обратил на себя внимание.
– Изволили слышать о последнем событии на смотру в Петербурге? как себя новый французский посланник показал!
– Что? Да, я слышал что то; он что то неловко сказал при Его Величестве.
– Его Величество обратил его внимание на гренадерскую дивизию и церемониальный марш, – продолжал генерал, – и будто посланник никакого внимания не обратил и будто позволил себе сказать, что мы у себя во Франции на такие пустяки не обращаем внимания. Государь ничего не изволил сказать. На следующем смотру, говорят, государь ни разу не изволил обратиться к нему.
Все замолчали: на этот факт, относившийся лично до государя, нельзя было заявлять никакого суждения.
– Дерзки! – сказал князь. – Знаете Метивье? Я нынче выгнал его от себя. Он здесь был, пустили ко мне, как я ни просил никого не пускать, – сказал князь, сердито взглянув на дочь. И он рассказал весь свой разговор с французским доктором и причины, почему он убедился, что Метивье шпион. Хотя причины эти были очень недостаточны и не ясны, никто не возражал.
За жарким подали шампанское. Гости встали с своих мест, поздравляя старого князя. Княжна Марья тоже подошла к нему.
Он взглянул на нее холодным, злым взглядом и подставил ей сморщенную, выбритую щеку. Всё выражение его лица говорило ей, что утренний разговор им не забыт, что решенье его осталось в прежней силе, и что только благодаря присутствию гостей он не говорит ей этого теперь.
Когда вышли в гостиную к кофе, старики сели вместе.
Князь Николай Андреич более оживился и высказал свой образ мыслей насчет предстоящей войны.
Он сказал, что войны наши с Бонапартом до тех пор будут несчастливы, пока мы будем искать союзов с немцами и будем соваться в европейские дела, в которые нас втянул Тильзитский мир. Нам ни за Австрию, ни против Австрии не надо было воевать. Наша политика вся на востоке, а в отношении Бонапарта одно – вооружение на границе и твердость в политике, и никогда он не посмеет переступить русскую границу, как в седьмом году.
– И где нам, князь, воевать с французами! – сказал граф Ростопчин. – Разве мы против наших учителей и богов можем ополчиться? Посмотрите на нашу молодежь, посмотрите на наших барынь. Наши боги – французы, наше царство небесное – Париж.
Он стал говорить громче, очевидно для того, чтобы его слышали все. – Костюмы французские, мысли французские, чувства французские! Вы вот Метивье в зашей выгнали, потому что он француз и негодяй, а наши барыни за ним ползком ползают. Вчера я на вечере был, так из пяти барынь три католички и, по разрешенью папы, в воскресенье по канве шьют. А сами чуть не голые сидят, как вывески торговых бань, с позволенья сказать. Эх, поглядишь на нашу молодежь, князь, взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры, да по русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила!
Все замолчали. Старый князь с улыбкой на лице смотрел на Ростопчина и одобрительно покачивал головой.
– Ну, прощайте, ваше сиятельство, не хворайте, – сказал Ростопчин, с свойственными ему быстрыми движениями поднимаясь и протягивая руку князю.
– Прощай, голубчик, – гусли, всегда заслушаюсь его! – сказал старый князь, удерживая его за руку и подставляя ему для поцелуя щеку. С Ростопчиным поднялись и другие.
Княжна Марья, сидя в гостиной и слушая эти толки и пересуды стариков, ничего не понимала из того, что она слышала; она думала только о том, не замечают ли все гости враждебных отношений ее отца к ней. Она даже не заметила особенного внимания и любезностей, которые ей во всё время этого обеда оказывал Друбецкой, уже третий раз бывший в их доме.
Княжна Марья с рассеянным, вопросительным взглядом обратилась к Пьеру, который последний из гостей, с шляпой в руке и с улыбкой на лице, подошел к ней после того, как князь вышел, и они одни оставались в гостиной.
– Можно еще посидеть? – сказал он, своим толстым телом валясь в кресло подле княжны Марьи.
– Ах да, – сказала она. «Вы ничего не заметили?» сказал ее взгляд.
Пьер находился в приятном, после обеденном состоянии духа. Он глядел перед собою и тихо улыбался.
– Давно вы знаете этого молодого человека, княжна? – сказал он.
– Какого?
– Друбецкого?
– Нет, недавно…
– Что он вам нравится?
– Да, он приятный молодой человек… Отчего вы меня это спрашиваете? – сказала княжна Марья, продолжая думать о своем утреннем разговоре с отцом.
– Оттого, что я сделал наблюдение, – молодой человек обыкновенно из Петербурга приезжает в Москву в отпуск только с целью жениться на богатой невесте.
– Вы сделали это наблюденье! – сказала княжна Марья.
– Да, – продолжал Пьер с улыбкой, – и этот молодой человек теперь себя так держит, что, где есть богатые невесты, – там и он. Я как по книге читаю в нем. Он теперь в нерешительности, кого ему атаковать: вас или mademoiselle Жюли Карагин. Il est tres assidu aupres d'elle. [Он очень к ней внимателен.]
– Он ездит к ним?
– Да, очень часто. И знаете вы новую манеру ухаживать? – с веселой улыбкой сказал Пьер, видимо находясь в том веселом духе добродушной насмешки, за который он так часто в дневнике упрекал себя.
– Нет, – сказала княжна Марья.
– Теперь чтобы понравиться московским девицам – il faut etre melancolique. Et il est tres melancolique aupres de m lle Карагин, [надо быть меланхоличным. И он очень меланхоличен с m elle Карагин,] – сказал Пьер.
– Vraiment? [Право?] – сказала княжна Марья, глядя в доброе лицо Пьера и не переставая думать о своем горе. – «Мне бы легче было, думала она, ежели бы я решилась поверить кому нибудь всё, что я чувствую. И я бы желала именно Пьеру сказать всё. Он так добр и благороден. Мне бы легче стало. Он мне подал бы совет!»
– Пошли бы вы за него замуж? – спросил Пьер.
– Ах, Боже мой, граф, есть такие минуты, что я пошла бы за всякого, – вдруг неожиданно для самой себя, со слезами в голосе, сказала княжна Марья. – Ах, как тяжело бывает любить человека близкого и чувствовать, что… ничего (продолжала она дрожащим голосом), не можешь для него сделать кроме горя, когда знаешь, что не можешь этого переменить. Тогда одно – уйти, а куда мне уйти?…
– Что вы, что с вами, княжна?
Но княжна, не договорив, заплакала.
– Я не знаю, что со мной нынче. Не слушайте меня, забудьте, что я вам сказала.
Вся веселость Пьера исчезла. Он озабоченно расспрашивал княжну, просил ее высказать всё, поверить ему свое горе; но она только повторила, что просит его забыть то, что она сказала, что она не помнит, что она сказала, и что у нее нет горя, кроме того, которое он знает – горя о том, что женитьба князя Андрея угрожает поссорить отца с сыном.
– Слышали ли вы про Ростовых? – спросила она, чтобы переменить разговор. – Мне говорили, что они скоро будут. Andre я тоже жду каждый день. Я бы желала, чтоб они увиделись здесь.
– А как он смотрит теперь на это дело? – спросил Пьер, под он разумея старого князя. Княжна Марья покачала головой.
– Но что же делать? До года остается только несколько месяцев. И это не может быть. Я бы только желала избавить брата от первых минут. Я желала бы, чтобы они скорее приехали. Я надеюсь сойтись с нею. Вы их давно знаете, – сказала княжна Марья, – скажите мне, положа руку на сердце, всю истинную правду, что это за девушка и как вы находите ее? Но всю правду; потому что, вы понимаете, Андрей так много рискует, делая это против воли отца, что я бы желала знать…
Неясный инстинкт сказал Пьеру, что в этих оговорках и повторяемых просьбах сказать всю правду, выражалось недоброжелательство княжны Марьи к своей будущей невестке, что ей хотелось, чтобы Пьер не одобрил выбора князя Андрея; но Пьер сказал то, что он скорее чувствовал, чем думал.
– Я не знаю, как отвечать на ваш вопрос, – сказал он, покраснев, сам не зная от чего. – Я решительно не знаю, что это за девушка; я никак не могу анализировать ее. Она обворожительна. А отчего, я не знаю: вот всё, что можно про нее сказать. – Княжна Марья вздохнула и выражение ее лица сказало: «Да, я этого ожидала и боялась».
– Умна она? – спросила княжна Марья. Пьер задумался.
– Я думаю нет, – сказал он, – а впрочем да. Она не удостоивает быть умной… Да нет, она обворожительна, и больше ничего. – Княжна Марья опять неодобрительно покачала головой.
– Ах, я так желаю любить ее! Вы ей это скажите, ежели увидите ее прежде меня.
– Я слышал, что они на днях будут, – сказал Пьер.
Княжна Марья сообщила Пьеру свой план о том, как она, только что приедут Ростовы, сблизится с будущей невесткой и постарается приучить к ней старого князя.
Женитьба на богатой невесте в Петербурге не удалась Борису и он с этой же целью приехал в Москву. В Москве Борис находился в нерешительности между двумя самыми богатыми невестами – Жюли и княжной Марьей. Хотя княжна Марья, несмотря на свою некрасивость, и казалась ему привлекательнее Жюли, ему почему то неловко было ухаживать за Болконской. В последнее свое свиданье с ней, в именины старого князя, на все его попытки заговорить с ней о чувствах, она отвечала ему невпопад и очевидно не слушала его.
Жюли, напротив, хотя и особенным, одной ей свойственным способом, но охотно принимала его ухаживанье.
Жюли было 27 лет. После смерти своих братьев, она стала очень богата. Она была теперь совершенно некрасива; но думала, что она не только так же хороша, но еще гораздо больше привлекательна, чем была прежде. В этом заблуждении поддерживало ее то, что во первых она стала очень богатой невестой, а во вторых то, что чем старее она становилась, тем она была безопаснее для мужчин, тем свободнее было мужчинам обращаться с нею и, не принимая на себя никаких обязательств, пользоваться ее ужинами, вечерами и оживленным обществом, собиравшимся у нее. Мужчина, который десять лет назад побоялся бы ездить каждый день в дом, где была 17 ти летняя барышня, чтобы не компрометировать ее и не связать себя, теперь ездил к ней смело каждый день и обращался с ней не как с барышней невестой, а как с знакомой, не имеющей пола.
Дом Карагиных был в эту зиму в Москве самым приятным и гостеприимным домом. Кроме званых вечеров и обедов, каждый день у Карагиных собиралось большое общество, в особенности мужчин, ужинающих в 12 м часу ночи и засиживающихся до 3 го часу. Не было бала, гулянья, театра, который бы пропускала Жюли. Туалеты ее были всегда самые модные. Но, несмотря на это, Жюли казалась разочарована во всем, говорила всякому, что она не верит ни в дружбу, ни в любовь, ни в какие радости жизни, и ожидает успокоения только там . Она усвоила себе тон девушки, понесшей великое разочарованье, девушки, как будто потерявшей любимого человека или жестоко обманутой им. Хотя ничего подобного с ней не случилось, на нее смотрели, как на такую, и сама она даже верила, что она много пострадала в жизни. Эта меланхолия, не мешавшая ей веселиться, не мешала бывавшим у нее молодым людям приятно проводить время. Каждый гость, приезжая к ним, отдавал свой долг меланхолическому настроению хозяйки и потом занимался и светскими разговорами, и танцами, и умственными играми, и турнирами буриме, которые были в моде у Карагиных. Только некоторые молодые люди, в числе которых был и Борис, более углублялись в меланхолическое настроение Жюли, и с этими молодыми людьми она имела более продолжительные и уединенные разговоры о тщете всего мирского, и им открывала свои альбомы, исписанные грустными изображениями, изречениями и стихами.
Жюли была особенно ласкова к Борису: жалела о его раннем разочаровании в жизни, предлагала ему те утешения дружбы, которые она могла предложить, сама так много пострадав в жизни, и открыла ему свой альбом. Борис нарисовал ей в альбом два дерева и написал: Arbres rustiques, vos sombres rameaux secouent sur moi les tenebres et la melancolie. [Сельские деревья, ваши темные сучья стряхивают на меня мрак и меланхолию.]
В другом месте он нарисовал гробницу и написал:
«La mort est secourable et la mort est tranquille
«Ah! contre les douleurs il n'y a pas d'autre asile».
[Смерть спасительна и смерть спокойна;
О! против страданий нет другого убежища.]
Жюли сказала, что это прелестно.
– II y a quelque chose de si ravissant dans le sourire de la melancolie, [Есть что то бесконечно обворожительное в улыбке меланхолии,] – сказала она Борису слово в слово выписанное это место из книги.
– C'est un rayon de lumiere dans l'ombre, une nuance entre la douleur et le desespoir, qui montre la consolation possible. [Это луч света в тени, оттенок между печалью и отчаянием, который указывает на возможность утешения.] – На это Борис написал ей стихи:
«Aliment de poison d'une ame trop sensible,
«Toi, sans qui le bonheur me serait impossible,
«Tendre melancolie, ah, viens me consoler,
«Viens calmer les tourments de ma sombre retraite
«Et mele une douceur secrete
«A ces pleurs, que je sens couler».
[Ядовитая пища слишком чувствительной души,
Ты, без которой счастье было бы для меня невозможно,
Нежная меланхолия, о, приди, меня утешить,
Приди, утиши муки моего мрачного уединения
И присоедини тайную сладость
К этим слезам, которых я чувствую течение.]
Жюли играла Борису нa арфе самые печальные ноктюрны. Борис читал ей вслух Бедную Лизу и не раз прерывал чтение от волнения, захватывающего его дыханье. Встречаясь в большом обществе, Жюли и Борис смотрели друг на друга как на единственных людей в мире равнодушных, понимавших один другого.
Анна Михайловна, часто ездившая к Карагиным, составляя партию матери, между тем наводила верные справки о том, что отдавалось за Жюли (отдавались оба пензенские именья и нижегородские леса). Анна Михайловна, с преданностью воле провидения и умилением, смотрела на утонченную печаль, которая связывала ее сына с богатой Жюли.
– Toujours charmante et melancolique, cette chere Julieie, [Она все так же прелестна и меланхолична, эта милая Жюли.] – говорила она дочери. – Борис говорит, что он отдыхает душой в вашем доме. Он так много понес разочарований и так чувствителен, – говорила она матери.
– Ах, мой друг, как я привязалась к Жюли последнее время, – говорила она сыну, – не могу тебе описать! Да и кто может не любить ее? Это такое неземное существо! Ах, Борис, Борис! – Она замолкала на минуту. – И как мне жалко ее maman, – продолжала она, – нынче она показывала мне отчеты и письма из Пензы (у них огромное имение) и она бедная всё сама одна: ее так обманывают!
Борис чуть заметно улыбался, слушая мать. Он кротко смеялся над ее простодушной хитростью, но выслушивал и иногда выспрашивал ее внимательно о пензенских и нижегородских имениях.
Жюли уже давно ожидала предложенья от своего меланхолического обожателя и готова была принять его; но какое то тайное чувство отвращения к ней, к ее страстному желанию выйти замуж, к ее ненатуральности, и чувство ужаса перед отречением от возможности настоящей любви еще останавливало Бориса. Срок его отпуска уже кончался. Целые дни и каждый божий день он проводил у Карагиных, и каждый день, рассуждая сам с собою, Борис говорил себе, что он завтра сделает предложение. Но в присутствии Жюли, глядя на ее красное лицо и подбородок, почти всегда осыпанный пудрой, на ее влажные глаза и на выражение лица, изъявлявшего всегдашнюю готовность из меланхолии тотчас же перейти к неестественному восторгу супружеского счастия, Борис не мог произнести решительного слова: несмотря на то, что он уже давно в воображении своем считал себя обладателем пензенских и нижегородских имений и распределял употребление с них доходов. Жюли видела нерешительность Бориса и иногда ей приходила мысль, что она противна ему; но тотчас же женское самообольщение представляло ей утешение, и она говорила себе, что он застенчив только от любви. Меланхолия ее однако начинала переходить в раздражительность, и не задолго перед отъездом Бориса, она предприняла решительный план. В то самое время как кончался срок отпуска Бориса, в Москве и, само собой разумеется, в гостиной Карагиных, появился Анатоль Курагин, и Жюли, неожиданно оставив меланхолию, стала очень весела и внимательна к Курагину.
– Mon cher, – сказала Анна Михайловна сыну, – je sais de bonne source que le Prince Basile envoie son fils a Moscou pour lui faire epouser Julieie. [Мой милый, я знаю из верных источников, что князь Василий присылает своего сына в Москву, для того чтобы женить его на Жюли.] Я так люблю Жюли, что мне жалко бы было ее. Как ты думаешь, мой друг? – сказала Анна Михайловна.
Мысль остаться в дураках и даром потерять весь этот месяц тяжелой меланхолической службы при Жюли и видеть все расписанные уже и употребленные как следует в его воображении доходы с пензенских имений в руках другого – в особенности в руках глупого Анатоля, оскорбляла Бориса. Он поехал к Карагиным с твердым намерением сделать предложение. Жюли встретила его с веселым и беззаботным видом, небрежно рассказывала о том, как ей весело было на вчерашнем бале, и спрашивала, когда он едет. Несмотря на то, что Борис приехал с намерением говорить о своей любви и потому намеревался быть нежным, он раздражительно начал говорить о женском непостоянстве: о том, как женщины легко могут переходить от грусти к радости и что у них расположение духа зависит только от того, кто за ними ухаживает. Жюли оскорбилась и сказала, что это правда, что для женщины нужно разнообразие, что всё одно и то же надоест каждому.
– Для этого я бы советовал вам… – начал было Борис, желая сказать ей колкость; но в ту же минуту ему пришла оскорбительная мысль, что он может уехать из Москвы, не достигнув своей цели и даром потеряв свои труды (чего с ним никогда ни в чем не бывало). Он остановился в середине речи, опустил глаза, чтоб не видать ее неприятно раздраженного и нерешительного лица и сказал: – Я совсем не с тем, чтобы ссориться с вами приехал сюда. Напротив… – Он взглянул на нее, чтобы увериться, можно ли продолжать. Всё раздражение ее вдруг исчезло, и беспокойные, просящие глаза были с жадным ожиданием устремлены на него. «Я всегда могу устроиться так, чтобы редко видеть ее», подумал Борис. «А дело начато и должно быть сделано!» Он вспыхнул румянцем, поднял на нее глаза и сказал ей: – «Вы знаете мои чувства к вам!» Говорить больше не нужно было: лицо Жюли сияло торжеством и самодовольством; но она заставила Бориса сказать ей всё, что говорится в таких случаях, сказать, что он любит ее, и никогда ни одну женщину не любил более ее. Она знала, что за пензенские имения и нижегородские леса она могла требовать этого и она получила то, что требовала.
Жених с невестой, не поминая более о деревьях, обсыпающих их мраком и меланхолией, делали планы о будущем устройстве блестящего дома в Петербурге, делали визиты и приготавливали всё для блестящей свадьбы.
Граф Илья Андреич в конце января с Наташей и Соней приехал в Москву. Графиня всё была нездорова, и не могла ехать, – а нельзя было ждать ее выздоровления: князя Андрея ждали в Москву каждый день; кроме того нужно было закупать приданое, нужно было продавать подмосковную и нужно было воспользоваться присутствием старого князя в Москве, чтобы представить ему его будущую невестку. Дом Ростовых в Москве был не топлен; кроме того они приехали на короткое время, графини не было с ними, а потому Илья Андреич решился остановиться в Москве у Марьи Дмитриевны Ахросимовой, давно предлагавшей графу свое гостеприимство.
Поздно вечером четыре возка Ростовых въехали во двор Марьи Дмитриевны в старой Конюшенной. Марья Дмитриевна жила одна. Дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе.
Она держалась всё так же прямо, говорила также прямо, громко и решительно всем свое мнение, и всем своим существом как будто упрекала других людей за всякие слабости, страсти и увлечения, которых возможности она не признавала. С раннего утра в куцавейке, она занималась домашним хозяйством, потом ездила: по праздникам к обедни и от обедни в остроги и тюрьмы, где у нее бывали дела, о которых она никому не говорила, а по будням, одевшись, дома принимала просителей разных сословий, которые каждый день приходили к ней, и потом обедала; за обедом сытным и вкусным всегда бывало человека три четыре гостей, после обеда делала партию в бостон; на ночь заставляла себе читать газеты и новые книги, а сама вязала. Редко она делала исключения для выездов, и ежели выезжала, то ездила только к самым важным лицам в городе.
Она еще не ложилась, когда приехали Ростовы, и в передней завизжала дверь на блоке, пропуская входивших с холода Ростовых и их прислугу. Марья Дмитриевна, с очками спущенными на нос, закинув назад голову, стояла в дверях залы и с строгим, сердитым видом смотрела на входящих. Можно бы было подумать, что она озлоблена против приезжих и сейчас выгонит их, ежели бы она не отдавала в это время заботливых приказаний людям о том, как разместить гостей и их вещи.
– Графские? – сюда неси, говорила она, указывая на чемоданы и ни с кем не здороваясь. – Барышни, сюда налево. Ну, вы что лебезите! – крикнула она на девок. – Самовар чтобы согреть! – Пополнела, похорошела, – проговорила она, притянув к себе за капор разрумянившуюся с мороза Наташу. – Фу, холодная! Да раздевайся же скорее, – крикнула она на графа, хотевшего подойти к ее руке. – Замерз, небось. Рому к чаю подать! Сонюшка, bonjour, – сказала она Соне, этим французским приветствием оттеняя свое слегка презрительное и ласковое отношение к Соне.
Когда все, раздевшись и оправившись с дороги, пришли к чаю, Марья Дмитриевна по порядку перецеловала всех.
– Душой рада, что приехали и что у меня остановились, – говорила она. – Давно пора, – сказала она, значительно взглянув на Наташу… – старик здесь и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. Ну да об этом после поговорим, – прибавила она, оглянув Соню взглядом, показывавшим, что она при ней не желает говорить об этом. – Теперь слушай, – обратилась она к графу, – завтра что же тебе надо? За кем пошлешь? Шиншина? – она загнула один палец; – плаксу Анну Михайловну? – два. Она здесь с сыном. Женится сын то! Потом Безухова чтоль? И он здесь с женой. Он от нее убежал, а она за ним прискакала. Он обедал у меня в середу. Ну, а их – она указала на барышень – завтра свожу к Иверской, а потом и к Обер Шельме заедем. Ведь, небось, всё новое делать будете? С меня не берите, нынче рукава, вот что! Намедни княжна Ирина Васильевна молодая ко мне приехала: страх глядеть, точно два боченка на руки надела. Ведь нынче, что день – новая мода. Да у тебя то у самого какие дела? – обратилась она строго к графу.
– Всё вдруг подошло, – отвечал граф. – Тряпки покупать, а тут еще покупатель на подмосковную и на дом. Уж ежели милость ваша будет, я времечко выберу, съезжу в Маринское на денек, вам девчат моих прикину.
– Хорошо, хорошо, у меня целы будут. У меня как в Опекунском совете. Я их и вывезу куда надо, и побраню, и поласкаю, – сказала Марья Дмитриевна, дотрогиваясь большой рукой до щеки любимицы и крестницы своей Наташи.
На другой день утром Марья Дмитриевна свозила барышень к Иверской и к m me Обер Шальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти всё приданое. Вернувшись она выгнала всех кроме Наташи из комнаты и подозвала свою любимицу к своему креслу.
– Ну теперь поговорим. Поздравляю тебя с женишком. Подцепила молодца! Я рада за тебя; и его с таких лет знаю (она указала на аршин от земли). – Наташа радостно краснела. – Я его люблю и всю семью его. Теперь слушай. Ты ведь знаешь, старик князь Николай очень не желал, чтоб сын женился. Нравный старик! Оно, разумеется, князь Андрей не дитя, и без него обойдется, да против воли в семью входить нехорошо. Надо мирно, любовно. Ты умница, сумеешь обойтись как надо. Ты добренько и умненько обойдись. Вот всё и хорошо будет.
Наташа молчала, как думала Марья Дмитриевна от застенчивости, но в сущности Наташе было неприятно, что вмешивались в ее дело любви князя Андрея, которое представлялось ей таким особенным от всех людских дел, что никто, по ее понятиям, не мог понимать его. Она любила и знала одного князя Андрея, он любил ее и должен был приехать на днях и взять ее. Больше ей ничего не нужно было.
– Ты видишь ли, я его давно знаю, и Машеньку, твою золовку, люблю. Золовки – колотовки, ну а уж эта мухи не обидит. Она меня просила ее с тобой свести. Ты завтра с отцом к ней поедешь, да приласкайся хорошенько: ты моложе ее. Как твой то приедет, а уж ты и с сестрой и с отцом знакома, и тебя полюбили. Так или нет? Ведь лучше будет?
– Лучше, – неохотно отвечала Наташа.
На другой день, по совету Марьи Дмитриевны, граф Илья Андреич поехал с Наташей к князю Николаю Андреичу. Граф с невеселым духом собирался на этот визит: в душе ему было страшно. Последнее свидание во время ополчения, когда граф в ответ на свое приглашение к обеду выслушал горячий выговор за недоставление людей, было памятно графу Илье Андреичу. Наташа, одевшись в свое лучшее платье, была напротив в самом веселом расположении духа. «Не может быть, чтобы они не полюбили меня, думала она: меня все всегда любили. И я так готова сделать для них всё, что они пожелают, так готова полюбить его – за то, что он отец, а ее за то, что она сестра, что не за что им не полюбить меня!»
Они подъехали к старому, мрачному дому на Вздвиженке и вошли в сени.
– Ну, Господи благослови, – проговорил граф, полу шутя, полу серьезно; но Наташа заметила, что отец ее заторопился, входя в переднюю, и робко, тихо спросил, дома ли князь и княжна. После доклада о их приезде между прислугой князя произошло смятение. Лакей, побежавший докладывать о них, был остановлен другим лакеем в зале и они шептали о чем то. В залу выбежала горничная девушка, и торопливо тоже говорила что то, упоминая о княжне. Наконец один старый, с сердитым видом лакей вышел и доложил Ростовым, что князь принять не может, а княжна просит к себе. Первая навстречу гостям вышла m lle Bourienne. Она особенно учтиво встретила отца с дочерью и проводила их к княжне. Княжна с взволнованным, испуганным и покрытым красными пятнами лицом выбежала, тяжело ступая, навстречу к гостям, и тщетно пытаясь казаться свободной и радушной. Наташа с первого взгляда не понравилась княжне Марье. Она ей показалась слишком нарядной, легкомысленно веселой и тщеславной. Княжна Марья не знала, что прежде, чем она увидала свою будущую невестку, она уже была дурно расположена к ней по невольной зависти к ее красоте, молодости и счастию и по ревности к любви своего брата. Кроме этого непреодолимого чувства антипатии к ней, княжна Марья в эту минуту была взволнована еще тем, что при докладе о приезде Ростовых, князь закричал, что ему их не нужно, что пусть княжна Марья принимает, если хочет, а чтоб к нему их не пускали. Княжна Марья решилась принять Ростовых, но всякую минуту боялась, как бы князь не сделал какую нибудь выходку, так как он казался очень взволнованным приездом Ростовых.
– Ну вот, я вам, княжна милая, привез мою певунью, – сказал граф, расшаркиваясь и беспокойно оглядываясь, как будто он боялся, не взойдет ли старый князь. – Уж как я рад, что вы познакомились… Жаль, жаль, что князь всё нездоров, – и сказав еще несколько общих фраз он встал. – Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил, тут два шага, на Собачью Площадку, к Анне Семеновне, и заеду за ней.
Илья Андреич придумал эту дипломатическую хитрость для того, чтобы дать простор будущей золовке объясниться с своей невесткой (как он сказал это после дочери) и еще для того, чтобы избежать возможности встречи с князем, которого он боялся. Он не сказал этого дочери, но Наташа поняла этот страх и беспокойство своего отца и почувствовала себя оскорбленною. Она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что покраснела и смелым, вызывающим взглядом, говорившим про то, что она никого не боится, взглянула на княжну. Княжна сказала графу, что очень рада и просит его только пробыть подольше у Анны Семеновны, и Илья Андреич уехал.
M lle Bourienne, несмотря на беспокойные, бросаемые на нее взгляды княжны Марьи, желавшей с глазу на глаз поговорить с Наташей, не выходила из комнаты и держала твердо разговор о московских удовольствиях и театрах. Наташа была оскорблена замешательством, происшедшим в передней, беспокойством своего отца и неестественным тоном княжны, которая – ей казалось – делала милость, принимая ее. И потом всё ей было неприятно. Княжна Марья ей не нравилась. Она казалась ей очень дурной собою, притворной и сухою. Наташа вдруг нравственно съёжилась и приняла невольно такой небрежный тон, который еще более отталкивал от нее княжну Марью. После пяти минут тяжелого, притворного разговора, послышались приближающиеся быстрые шаги в туфлях. Лицо княжны Марьи выразило испуг, дверь комнаты отворилась и вошел князь в белом колпаке и халате.
– Ах, сударыня, – заговорил он, – сударыня, графиня… графиня Ростова, коли не ошибаюсь… прошу извинить, извинить… не знал, сударыня. Видит Бог не знал, что вы удостоили нас своим посещением, к дочери зашел в таком костюме. Извинить прошу… видит Бог не знал, – повторил он так не натурально, ударяя на слово Бог и так неприятно, что княжна Марья стояла, опустив глаза, не смея взглянуть ни на отца, ни на Наташу. Наташа, встав и присев, тоже не знала, что ей делать. Одна m lle Bourienne приятно улыбалась.
– Прошу извинить, прошу извинить! Видит Бог не знал, – пробурчал старик и, осмотрев с головы до ног Наташу, вышел. M lle Bourienne первая нашлась после этого появления и начала разговор про нездоровье князя. Наташа и княжна Марья молча смотрели друг на друга, и чем дольше они молча смотрели друг на друга, не высказывая того, что им нужно было высказать, тем недоброжелательнее они думали друг о друге.
Когда граф вернулся, Наташа неучтиво обрадовалась ему и заторопилась уезжать: она почти ненавидела в эту минуту эту старую сухую княжну, которая могла поставить ее в такое неловкое положение и провести с ней полчаса, ничего не сказав о князе Андрее. «Ведь я не могла же начать первая говорить о нем при этой француженке», думала Наташа. Княжна Марья между тем мучилась тем же самым. Она знала, что ей надо было сказать Наташе, но она не могла этого сделать и потому, что m lle Bourienne мешала ей, и потому, что она сама не знала, отчего ей так тяжело было начать говорить об этом браке. Когда уже граф выходил из комнаты, княжна Марья быстрыми шагами подошла к Наташе, взяла ее за руки и, тяжело вздохнув, сказала: «Постойте, мне надо…» Наташа насмешливо, сама не зная над чем, смотрела на княжну Марью.
– Милая Натали, – сказала княжна Марья, – знайте, что я рада тому, что брат нашел счастье… – Она остановилась, чувствуя, что она говорит неправду. Наташа заметила эту остановку и угадала причину ее.
– Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом, – сказала Наташа с внешним достоинством и холодностью и с слезами, которые она чувствовала в горле.
«Что я сказала, что я сделала!» подумала она, как только вышла из комнаты.
Долго ждали в этот день Наташу к обеду. Она сидела в своей комнате и рыдала, как ребенок, сморкаясь и всхлипывая. Соня стояла над ней и целовала ее в волосы.
– Наташа, об чем ты? – говорила она. – Что тебе за дело до них? Всё пройдет, Наташа.
– Нет, ежели бы ты знала, как это обидно… точно я…
– Не говори, Наташа, ведь ты не виновата, так что тебе за дело? Поцелуй меня, – сказала Соня.
Наташа подняла голову, и в губы поцеловав свою подругу, прижала к ней свое мокрое лицо.
– Я не могу сказать, я не знаю. Никто не виноват, – говорила Наташа, – я виновата. Но всё это больно ужасно. Ах, что он не едет!…
Она с красными глазами вышла к обеду. Марья Дмитриевна, знавшая о том, как князь принял Ростовых, сделала вид, что она не замечает расстроенного лица Наташи и твердо и громко шутила за столом с графом и другими гостями.
В этот вечер Ростовы поехали в оперу, на которую Марья Дмитриевна достала билет.
Наташе не хотелось ехать, но нельзя было отказаться от ласковости Марьи Дмитриевны, исключительно для нее предназначенной. Когда она, одетая, вышла в залу, дожидаясь отца и поглядевшись в большое зеркало, увидала, что она хороша, очень хороша, ей еще более стало грустно; но грустно сладостно и любовно.
«Боже мой, ежели бы он был тут; тогда бы я не так как прежде, с какой то глупой робостью перед чем то, а по новому, просто, обняла бы его, прижалась бы к нему, заставила бы его смотреть на меня теми искательными, любопытными глазами, которыми он так часто смотрел на меня и потом заставила бы его смеяться, как он смеялся тогда, и глаза его – как я вижу эти глаза! думала Наташа. – И что мне за дело до его отца и сестры: я люблю его одного, его, его, с этим лицом и глазами, с его улыбкой, мужской и вместе детской… Нет, лучше не думать о нем, не думать, забыть, совсем забыть на это время. Я не вынесу этого ожидания, я сейчас зарыдаю», – и она отошла от зеркала, делая над собой усилия, чтоб не заплакать. – «И как может Соня так ровно, так спокойно любить Николиньку, и ждать так долго и терпеливо»! подумала она, глядя на входившую, тоже одетую, с веером в руках Соню.
«Нет, она совсем другая. Я не могу»!
Наташа чувствовала себя в эту минуту такой размягченной и разнеженной, что ей мало было любить и знать, что она любима: ей нужно теперь, сейчас нужно было обнять любимого человека и говорить и слышать от него слова любви, которыми было полно ее сердце. Пока она ехала в карете, сидя рядом с отцом, и задумчиво глядела на мелькавшие в мерзлом окне огни фонарей, она чувствовала себя еще влюбленнее и грустнее и забыла с кем и куда она едет. Попав в вереницу карет, медленно визжа колесами по снегу карета Ростовых подъехала к театру. Поспешно выскочили Наташа и Соня, подбирая платья; вышел граф, поддерживаемый лакеями, и между входившими дамами и мужчинами и продающими афиши, все трое пошли в коридор бенуара. Из за притворенных дверей уже слышались звуки музыки.
– Nathalie, vos cheveux, [Натали, твои волосы,] – прошептала Соня. Капельдинер учтиво и поспешно проскользнул перед дамами и отворил дверь ложи. Музыка ярче стала слышна в дверь, блеснули освещенные ряды лож с обнаженными плечами и руками дам, и шумящий и блестящий мундирами партер. Дама, входившая в соседний бенуар, оглянула Наташу женским, завистливым взглядом. Занавесь еще не поднималась и играли увертюру. Наташа, оправляя платье, прошла вместе с Соней и села, оглядывая освещенные ряды противуположных лож. Давно не испытанное ею ощущение того, что сотни глаз смотрят на ее обнаженные руки и шею, вдруг и приятно и неприятно охватило ее, вызывая целый рой соответствующих этому ощущению воспоминаний, желаний и волнений.
Две замечательно хорошенькие девушки, Наташа и Соня, с графом Ильей Андреичем, которого давно не видно было в Москве, обратили на себя общее внимание. Кроме того все знали смутно про сговор Наташи с князем Андреем, знали, что с тех пор Ростовы жили в деревне, и с любопытством смотрели на невесту одного из лучших женихов России.
Наташа похорошела в деревне, как все ей говорили, а в этот вечер, благодаря своему взволнованному состоянию, была особенно хороша. Она поражала полнотой жизни и красоты, в соединении с равнодушием ко всему окружающему. Ее черные глаза смотрели на толпу, никого не отыскивая, а тонкая, обнаженная выше локтя рука, облокоченная на бархатную рампу, очевидно бессознательно, в такт увертюры, сжималась и разжималась, комкая афишу.
– Посмотри, вот Аленина – говорила Соня, – с матерью кажется!
– Батюшки! Михаил Кирилыч то еще потолстел, – говорил старый граф.
– Смотрите! Анна Михайловна наша в токе какой!
– Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой. – Друбецкой сделал предложение!
– Как же, нынче узнал, – сказал Шиншин, входивший в ложу Ростовых.
- Родившиеся 5 марта
- Родившиеся в 1703 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Астрахани
- Умершие 17 августа
- Умершие в 1769 году
- Умершие в Санкт-Петербурге
- Писатели по алфавиту
- Поэты России XVIII века
- Писатели России XVIII века
- Русские писатели XVIII века
- Действительные члены Санкт-Петербургской академии наук
- Выпускники Славяно-греко-латинской академии
- Похороненные на Смоленском православном кладбище
- Василий Тредиаковский