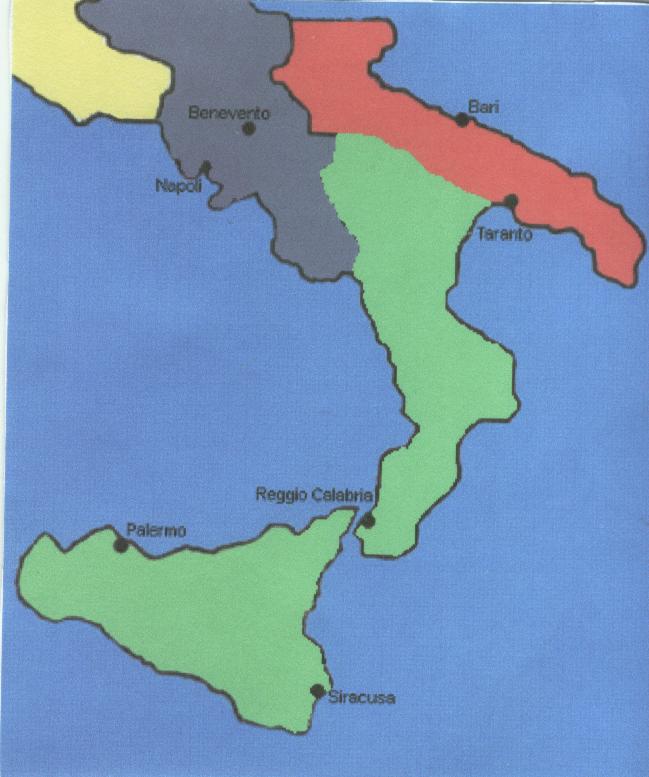Мануил I Комнин
| Мануил I Комнин греч. Μανουήλ Α' Κομνηνός<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Миниатюра с портретом Мануила I Комнина</td></tr> | ||
| ||
|---|---|---|
| 5 апреля 1143 года — 24 сентября 1180 года | ||
| Предшественник: | Иоанн II | |
| Преемник: | Алексей II | |
| Рождение: | 28 ноября 1118 Константинополь | |
| Смерть: | 24 сентября 1180 (61 год) Константинополь | |
| Род: | Комнины | |
| Отец: | Иоанн II | |
| Мать: | Ирина | |
| Супруга: | 1) Берта Зульцбахская 2) Мария Антиохийская | |
| Дети: | 1) Мария Комнина 2) Алексей II Комнин | |
Мануи́л I Комни́н (др.-греч. Μανουήλ Α' Κομνηνός; 28 ноября 1118 — 24 сентября 1180) — византийский император, чьё правление пришлось на поворотный момент истории как Византии, так и всего Средиземноморья. Мануил стал последним представителем Комниновского возрождения, благодаря которому страна смогла восстановить свою военную и финансовую мощь.
Своей активной и амбициозной политикой он стремился восстановить былую славу и статус Византии. За своё правление Мануил сотрудничал с Папой Римским и воевал в Южной Италии, а также обеспечил продвижение по землям империи воинов второго крестового похода. Защищая Святую землю от мусульман, Мануил объединил усилия с Иерусалимским королевством и совершил поход в фатимидский Египет[1].
Император изменил политическую карту Балкан и Восточного Средиземноморья, обеспечив византийский протекторат над венгерским королевством и ближневосточными государствами крестоносцев, а также гарантировал безопасность на западной и восточной границах империи. Однако к концу правления успехи на востоке были скомпрометированы поражением при Мириокефале, состоявшемся в значительной степени из-за неосмотрительной атаки укреплённых сельджукских позиций[2].
К Мануилу, прозванному греками «o Megas» (греч. ὁ Μέγας — «Великим»), подданные относились с большой преданностью. Также он является героем историй, написанных личным секретарём — Иоанном Киннамом, где ему приписаны многие добродетели. После контактов с крестоносцами император наслаждался репутацией «благословенного императора Константинополя» в некоторых частях латинского мира[3].
Фигура Мануила вызывает противоречия среди историков. Некоторые из них считают, что величие империи — не его личная заслуга, оно основывалось на достижениях предыдущих представителей правящей династии Комнинов, а его правление — причина дальнейшей смуты[4].
Содержание
- 1 Приход к власти
- 2 Ближневосточная политика во время второго крестового похода
- 3 Войны в Италии
- 4 Балканская политика
- 5 Отношения с Русью
- 6 Египетский поход
- 7 Отношения с Кылыч-Арсланом II: Мириокефал
- 8 Внутренняя политика Мануила Комнина
- 9 Церковные вопросы (1156—1180)
- 10 Смерть
- 11 Личность
- 12 Семья
- 13 Оценки
- 14 Мануил I Комнин в литературе
- 15 Примечания
- 16 Источники и литература
Приход к власти
Мануил Комнин был четвёртым сыном византийского императора Иоанна II и его жены Пирошки, являвшейся дочерью венгерского короля Ласло I[5]. Таким образом, он имел небольшие шансы на ромейский престол, но в 1142 году от горячки умерли два старших брата Мануила — Алексей и Андроник, а в 1143 году Иоанн II выбрал его своим наследником, в обход старшего брата — Исаака. Он заслужил это доверие благодаря тому, что с детства сопровождал отца в военных походах против сельджуков, где проявил себя смелым и решительным воином. После того как 8 апреля 1143 года Иоанн II умер во время военного похода в Киликию, Мануил по его воле был провозглашён императором[1]. Только организовав похороны отца, и по традиции повелев основать монастырь у места его гибели, Мануил переключился на упрочнение своего нового статуса.
После погребения Мануил отправил в столицу великого доместика Иоанна Аксуха с приказом арестовать своих двух наиболее опасных родственников: дядю (севастократора), и старшего брата, оба по имени Исаак. Последний жил в Большом дворце и имел доступ к сокровищнице и царским регалиям. Аксух прибыл в столицу до известий о смерти императора и успел быстро завоевать расположение столичной элиты. Прибывший в августе 1143 года Мануил был коронован новым константинопольским патриархом Михаилом II Оксеитом. Спустя несколько дней Мануил освободил своих родственников из-под стражи[6]. Кроме этого, он приказал подарить каждому домовладельцу в Константинополе по 2 золотых монеты и 200 фунтов золота (включая 200 серебряных монет) — византийской церкви[7].
Империя, полученная Мануилом Комнином в наследство от предыдущих базилевсов, сильно изменилась с момента своего основания в 395 году. В правление Юстиниана I (527—565) Византия приобрела некоторые провинции Западной Римской империи: Италию, Африку и часть Испании. Но в VII столетии страну постигли серьёзные перемены: арабы завоевали Египет, Палестину и Сирию, а позже с развитием своей экспансии присоединили Северную Африку и Испанию. Но и после этого императоры управляли довольно большим государством, занимавшим территорию Малой Азии и Балкан. В конце XI столетия Византийская империя вступила в период политического и военного упадка, который смогла большей частью преодолеть с помощью деда и отца Мануила. Но всё равно, к началу его правления перед Византией стояли большие проблемы. В Сицилии норманнам удалось изгнать ромеев, турки-сельджуки проводили схожую политику в Анатолии, в то время как в Леванте существовала новая сила — государства крестоносцев. Таким образом, задача обеспечить безопасность империи была как никогда сложна[8].
Ближневосточная политика во время второго крестового похода
Антиохийский князь
Впервые Мануилу пришлось заняться внешней политикой в 1144 году, когда правитель Антиохийского княжества Раймунд решил расширить свои владения за счёт византийской Киликии, где уже успел завоевать несколько замков. Этими действиями он нагло нарушил клятву верности, данную им Иоанну II в 1137 году[9].
Император отправил на фронт флот под командованием Димитрия Врана и армию, ведомую Просухом. Полководцы с успехом выполнили задачу: корабли опустошили приморские владения Раймунда, а воины изгнали агрессора из Киликии[1].
Однако спустя год сосед крестоносца — Эдесское графство — был захвачен воинами мосульского эмира Имад ад-Дина Занги. Князь осознал, что восточная угроза становится реальностью, а помощи из Западной Европы будет недостаточно. Вследствие этого Раймунд совершил визит в Константинополь, где после принесения клятвы получил от Мануила гарантии по защите[10].
Нападение на Конью
В 1146 году император собрал армию на военной базе Лопадия, откуда началась экспедиция в Конийский султанат. Причиной для военных действий являлось то, что султан Масуд I совершал набеги на западную Анатолию и Киликию[11]. Хотя целью этого похода и не являлись завоевания, воины Мануила разбили турок при Акроине, а также разрушили укреплённый город Филомилия[2]. Подойдя к Конье, ромеи только разграбили окрестности столицы, после чего начали отступление.
Это можно объяснить несколькими причинами: султан Масуд отправил значительный отряд в тыл византийцам, поход был нужен Мануилу для демонстрации собственной воинской доблести своей супруге[10], Мануил получил письмо от французского короля Людовика VII, который сообщал о выдвижении крестоносцев.
Прибытие крестоносцев
Комнину пришлось покинуть восточную границу, так как интересы империи требовали его присутствия на Балканах. В 1147 году он предоставил право на проход через свои владения двум армиям крестоносцев, ведомых германским императором Конрадом III и французским королём Людовиком VII.
В это время ещё были живы члены императорского двора, помнившие участников первого крестового похода, чьё прибытие также описала Анна Комнина[12]. Многие византийцы с недоверием относились к крестовому походу, чьи участники запомнились своим мародёрством и актами насилия во время своего прохода через империю. Войска ромеев следовали за иноземцами с целью защиты местного населения и последующей охраны столицы. Однако это не помогло избежать конфликтов: крестоносцы жаловались на несвоевременную доставку припасов и фуража, получая в ответ обвинения в грабеже. Ожидая этого, Мануил предусмотрительно подготовился к приёму: он отремонтировал городские стены и заключил оборонительный союз со своим бывшим врагом — конийским султаном.
Армия Конрада первой прошла через земли Византии летом 1147 года, и в записях местных авторов ей было уделено большее внимание, чем французам. Немцы избрали маршрут через Дорилей, Иконий, Ираклию. В битве при Дорилее их войско было разбито турками, и выжившие возвратились с королём в Никею, где дожидались французов. Те же, находясь в Константинополе, поверили слухам, что Конрад одерживает победы над неверными. Переправившись через Босфор, французы узнали об истинной доле своих союзников, после чего решили продолжать путь вместе с ними[1].
После окончания крестового похода отношения между Мануилом и Конрадом III улучшились: базилевс женился на родственнице императора — Берте Зульцбах (бывшей его свояченицей), также был заключён союз против сицилийского короля Рожера II[13]. Но в 1152 году Конрад III умер, а взаимопонимания с его преемником — Фридрихом Барбароссой — достигнуть не удалось.
Набег на Кипр и возмездие
 Базилевсу снова пришлось обратить свой взор в сторону Антиохии в 1156 году: новый правитель княжества Рено де Шатильон обвинил его в невыплате обещанной денежной суммы и обещал атаковать византийский Кипр[14]. При нападении на остров крестоносцы пленили губернатора Иоанна Комнина (племянника Мануила) и Михаила Врану, командовавшего местной армией[15] . Латинский историк Вильгельм Тирский весьма сожалел об этой атаке, описав совершённые при ней зверства[16]. Разграбив остров, воины Рено заставили выживших выкупить своё имущество по завышенным ценам, после чего отплыли домой[17]. Антиохийский князь отправил нескольких изуродованных местных жителей в Константинополь, чтоб продемонстрировать свои независимость и презрение к Мануилу[15].
Базилевсу снова пришлось обратить свой взор в сторону Антиохии в 1156 году: новый правитель княжества Рено де Шатильон обвинил его в невыплате обещанной денежной суммы и обещал атаковать византийский Кипр[14]. При нападении на остров крестоносцы пленили губернатора Иоанна Комнина (племянника Мануила) и Михаила Врану, командовавшего местной армией[15] . Латинский историк Вильгельм Тирский весьма сожалел об этой атаке, описав совершённые при ней зверства[16]. Разграбив остров, воины Рено заставили выживших выкупить своё имущество по завышенным ценам, после чего отплыли домой[17]. Антиохийский князь отправил нескольких изуродованных местных жителей в Константинополь, чтоб продемонстрировать свои независимость и презрение к Мануилу[15].
Ответ не заставил себя ждать. Зимой 1158—1159 годов войска ромеев неожиданно вторглись в Киликийское царство, чей правитель Торос II открыто поддерживал Рено де Шатильона. Император возглавлял свои войска, находясь в авангарде с 500 всадниками[18]. Население Киликии быстро признало господство Византии, а её бывший хозяин укрылся в горах.
Он был на коне, в царском парадном облачении, со скипетром в руках и со стеммой на голове. Узду его коня и его стремя держали князь Рейнальд и латинские князья и рыцари. У ворот города процессия была встречена патриархом и духовенством, откуда направилась по разукрашенным улицам к соборному храму. В течение восьми дней в Антиохии один за другим следовали блестящие празднества, происходили турниры и давались увеселения для народа. Царь не щадил денег на подарки вельможам и на раздачу народу и принимал личное участие в праздниках[2].
Известия об успехах византийцев достигли Антиохии. Осознав, что в сражении его воины будут разбиты, Рено также понимал, что помощи ждать неоткуда (Балдуин III Иерусалимский недавно женился на Феодоре — дочери севастократора Исаака Комнина — и отрицательно относился к набегу своего соседа). Брошенный всеми, антиохийский князь явился к Мануилу в Мопсуестию, с непокрытой головой, босой, с обнажёнными руками и с верёвкой на шее, держа в руках меч острием к себе. Император сначала демонстративно отказывался принять его, продолжая общаться с придворными. Вильгельм Тирский писал о том, что эта сцена продолжалась так долго, что в итоге вызвала у всех «отвращение» и «сделала латинян презираемыми во всей Азии»[19]. В итоге, Мануил простил Рено при условии того, что Антиохия становилась вассальной территорией Византии и обязывалась поставлять воинов для службы в византийских войсках[5].
12 апреля 1159 года состоялся триумфальный въезд ромейской армии в Антиохию. В мае, во главе объединённого войска, Мануил начал поход на Эдессу. Но вскоре он отказался от этого, так как эмир Сирии Нур ад-Дин освободил 6000 христианских пленников, томившихся в его тюрьмах со времён второго крестового похода[20].
На обратном пути в Константинополь Мануил держал путь через владения иконийского султана, и близ Котиэя, в долине Тембрис, на его армию напали турки. Но неожиданное нападение было отбито, и враг бежал, хотя ромеи понесли серьёзные потери. В следующем году император возглавил поход против сельджуков в Исаврии[21].
Войны в Италии
Рожер II Сицилийский
В 1147 году Мануил впервые столкнулся с Рожером II, чей флот стал грабить берега Иллирии, Далмации и Южной Греции (Коринф, Эвбею и Фивы), а также захватил Корфу, заключив при этом союз с африканскими мусульманами[1]. Однако, несмотря на набег половцев на Балканы, в 1148 году базилевс заключил союз с Конрадом III и Венецианской республикой, чья мощная флотилия одолела норманнов. В 1149 году остров Корфу был отвоёван назад, и Рожер II в отместку отправил Георгия Антиохийского с 40 кораблями в набег на Константинополь[22]. Тем временем Мануил уже договорился с Конрадом о совместных боевых действиях в Южной Италии и Сицилии. Альянс со Священной Римской империей являлся для него важнейшей целью во внешней политике, хотя после смерти Конрада отношения между государствами постепенно охладились[23].
В феврале 1154 года сицилийский король умер, и ему наследовал Вильгельм I. Его воцарение, ознаменовавшееся восстаниями против его правления в Сицилии и Апулии, и неспособность Фридриха Барбароссы договориться с норманнами подтолкнули Мануила начать вторжение на Итальянский полуостров[24]. Он отправил двух генералов в ранге себаста — Михаила Палеолога и Иоанна Дуку — с войском и флотом из 10 судов, а также большим количеством золота, прибывшим в Апулию в 1155 году[25]. Им было поручено оказание поддержки Барбароссы, чья армия находилась к югу от Альп, однако император повернул назад, уступая желанию собственного войска. Но и без поддержки союзника, ромеи смогли достигнуть больших успехов: вся Южная Италия восстала против норманнов, против Вильгельма выступила местная знать, и в их числе Роберт III Лорителло[13]. Кроме этого, многие крепости вышли из-под власти сицилийской короны — как силой, так и путём золота.
Папско-византийский альянс
Город Бари, бывший столицей византийского Катепаната Италии на протяжении столетий до прибытия норманнов, открыл свои ворота императорской армии, а его население разрушило местную цитадель. После этого, города Трани, Джовинаццо, Андрия, Таранто и Бриндизи также сдались, а войско Вильгельма (включавшее 2000 рыцарей) было разбито[26].
Воодушевлённый такими успехами, Мануил начал мечтать о восстановлении Римской империи, пусть и ценой унии православной и католической церквей, на чём настаивали посланцы папского государства для заключения альянса[19]. Римские папы постоянно не ладили с норманнами, исключая угрозу прямых военных действий, и поэтому иметь соседом на своих южных границах «цивилизованную» Восточную римскую империю было для них явно предпочтительнее. Папа Адриан IV с интересом отнёсся к возможному альянсу, который поспособствовал бы увеличению его влияния на православных христиан. Мануил также обещал большую сумму денег на снабжение войск святого престола, прося о признании Папой власти Византии над тремя приморскими городами в обмен на помощь в изгнании норманнов с Сицилии. Мануил также обещал выплатить 5000 фунтов золота лично Адриану и папской курии[27]. Переговоры быстро закончились, и альянс был заключён[24].
В этот момент в военных действиях начался перелом. Михаил Палеолог был отозван с руководящей должности в Константинополь из-за требований местной знати, особенно Роберта Лорителло, отказавшегося говорить с ним. С его уходом инициатива перешла в руки Вильгельма. В битве при Бриндизи сицилийцы контратаковали с моря и суши. При их приближении византийские наёмники потребовали выплаты золота, но после отказа, покинули бывших хозяев. Местные бароны также утратили былой энтузиазм, и вскоре Иоанн Дука остался в меньшинстве. Прибытие Алексея Комнина Вриенния не исправило положения, и в морской битве сицилийцы пленили командиров ромейской армии[28]. Мануил отправил Иоанна Аксуха в Анкону для управления новой армией, но к тому времени Вильгельм отвоевал всю Апулию.
Поражение при Бриндизи прекратило византийское владычество в Южной Италии; в 1158 году императорская армия покинула её и больше не возвращалась[29]. Никита Хониат и Киннам считали, что условия заключённого мира позволили Мануилу выйти из войны с достоинством, хотя в 1156 году сицилийский флот из 164 судов (и десятитысячным десантом) осуществил набег на Эвбею и Альмиру.
Отказ от церковной унии
Во время войны в Южной Италии, да и впоследствии, Мануил предлагал Святому Престолу унию Восточной и Западной церквей. В 1155 году папа Адриан поддержал эту идею, но тут союзники натолкнулись на ряд проблем. Адриан IV, как и его преемники, требовали признания своего религиозного авторитета всеми христианами, к их числу относился и византийский император, который не должен был повторять политику своего западного соседа[19]. Мануил же желал признания своей светской власти на Востоке и Западе[25]. Исходящие требования не удовлетворяли ни одну из сторон. Если прозападный император и принял бы условия унии, греческое население и духовенство империи сказало бы своё твёрдое «нет», что и произошло почти триста лет спустя. Несмотря на дружбу с Папой, Мануил не был удостоен титула Август. Дважды (в 1167 и 1169 годах) отправленное посольство к папе Александру III, предлагавшее объединение церквей, натолкнулось на отказ с его стороны, ибо он боялся последствий такого решения. В итоге уния так и не состоялась, православная и католическая церковь остались разъединенными.
Итальянская кампания не стала триумфом для Комнина. Анкона стала византийской базой, сицилийские норманны получили серьёзный ущерб, из-за чего мир с ними продержался вплоть до смерти Мануила. Хотя сила империи и была продемонстрирована, затраченные на войну денежные средства (порядка 2 160 000 иперпир или 30 000 фунтов золота) так и не окупились[30][31].
Византийская политика в Италии после 1158 года
В новой политической обстановке цели Византии изменились. Мануил решил организовать сопротивление попыткам Гогенштауфенов присоединить Италию. Когда началось противостояние между Фридрихом Барбароссой и северными городами Италии, базилевс активно помогал деньгами Ломбардской лиге. Стены Милана, разрушенные немцами, были восстановлены на деньги византийского императора[19]. Поражение Фридриха в битве при Леньяно 29 мая 1176 года усилило ромейские позиции. Согласно Киннаму, Кремона, Павия и множество других лигурийских городов уважительно относились к Мануилу[32]; к нему стали лучше относиться Генуя, Пиза, но не Венеция. 12 марта 1171 года византийское правительство приказало арестовать всех венецианцев, находившихся на территории империи (20 000 человек), а также конфисковать их имущество[33]. Республика Святого Марка в ответ направила флотилию из 120 судов, которая из-за эпидемии и противодействия 150 ромейских кораблей возвратилась назад[34]. Мануил решился подтвердить за Венецией все прежние права с прибавкой вознаграждения пострадавшим только в 1175 году, испугавшись объединения республики с норманнами[19].
В 1177 году в Венеции послы германского императора и его итальянских противников подписали мирный договор. После этого византийская политика в этом направлении оказалась в тупике, так как империи здесь больше не на кого было опереться[35].
Балканская политика
 На Балканском полуострове Мануил стремился сохранить позиции империи, достигнутые при Василии II более 100 лет назад. С 1129 года отношения с венграми и сербами были хорошими. Но в 1149 году великий жупан Урош II по наущению Рожера II отказал Мануилу в повиновении[5].
На Балканском полуострове Мануил стремился сохранить позиции империи, достигнутые при Василии II более 100 лет назад. С 1129 года отношения с венграми и сербами были хорошими. Но в 1149 году великий жупан Урош II по наущению Рожера II отказал Мануилу в повиновении[5].
Император совершил поход в Старую Сербию (1150—1152) и заставил жупана признать свой вассальный статус[36]. После этого базилевс провёл ряд атак на венгров с целью аннексии территорий в районе реки Савы. В 1151—1153 и 1163—1168 годах Мануил осуществил походы в Венгрию, где собрал большие трофеи, и в 1167 году продолжил военные действия, отправив в эту страну 15 000 человек под началом Андроника Контостефана[37]. Полководец разбил венгров в битве при Сирмиуме, и по заключённому мирному договору к Византии отходили Срем, Босния и Далмация. Таким образом, к 1168 году практически всё восточное побережье Адриатики принадлежало Мануилу[38].
Византия стремилась присоединить Венгрию не только путём силы, но и дипломатией. Наследник Бела III, младший брат венгерского короля Иштвана III, был отправлен в Константинополь для получения образования при дворе Мануила, желавшего выдать за него собственную дочь Марию и сделать его собственным наследником, под чьей властью были бы оба государства. В столице Бела получил имя Алексей и титул деспота, которым именовался только византийский император. Однако замысленному не суждено было осуществиться. В 1169 году жена императора Мария Антиохийская родила Мануилу сына Алексея, моментально ставшего его наследником, а в 1172 году со смертью Иштвана Бела отправился домой. Но перед уездом он поклялся Мануилу в том, что всегда будет «учитывать интересы императора и ромеев». Бела III сдержал своё слово: пока царствовал Мануил, он не пытался вернуть Хорватию[38].
Отношения с Русью
Мануил Комнин стремился привлечь русских князей на свою сторону в конфликтах с Венгрией и, в меньшей степени, Сицилией. В конце 1140-х за власть в Киевской Руси боролись три князя: киевский князь Изяслав Мстиславич, связанный с венгерским королём Гезой II, был враждебен империи; князь Ростово-Суздальский Юрий Долгорукий был союзником Мануила (symmachos), в то время, как галицкий князь Владимир Володаревич (Владимирко) считался вассалом базилевса (hypospondos). Расположенная на севере и северо-востоке Венгрии Галиция играла важную роль во время войн между Византией и Венгрией. Со смертями Изяслава и Владимирко ситуация изменилась: Киев захватил Юрий, а новый галицкий князь Ярослав стал союзником венгров.
В 1164—1165 годах двоюродный брат Мануила — Андроник Комнин — сбежал из Византии, оказавшись при дворе Ярослава Галицкого. Эта ситуация создавала серьёзную угрозу для императорского престола, и Мануил решил помиловать своего кузена, разрешив тому вернуться в Константинополь (1165). С киевским князем Ростиславом был заключён договор о выставлении для нужд империи воинского отряда, а Ярослав согласился вернуться под ромейскую опеку. Галицкий князь позже помог Византии своим участием в войне с половцами[39].
Дружба с Галицией была выгодна Мануилу, отправившему в 1166 году две армии в поход против венгров. Первое войско вошло в королевство через Южные Карпаты, когда второе с помощью Ярослава продвигалось через Карпаты. Так как противник сосредоточил свои войска под Стремом и Белградом, византийцы полностью разорили Трансильванию[40].
Египетский поход
Альянс с Иерусалимским королевством
Король Амори I Иерусалимский решил присоединить к своему государству фатимидский Египет, в котором происходили бесконечные войны за власть между визирями[41]. В 1165 году он во главе посольства отправился к византийскому двору с предложением о браке (Мануил в 1161 году женился на кузине Амори — Марии Антиохийской)[42]. Спустя 2 года король Иерусалима женился на внучатой племяннице императора — Марии Комнине. Альянс был заключён в 1168 году, и новые союзники поделили Египет: Мануил получал прибрежные земли, Амори — оставшиеся. Осенью 1169 году базилевс отправил экспедицию из 20 военных кораблей, 150 галер и 60 транспортников, находившуюся под командованием его племянника и великого дуки Андроника Контостефана и Амори, в Аскалон[42][43]. Вильгельм Тирский, участвовавший в переговорах, был поражён присутствием больших транспортников, применявшихся для перевозки лошадей[44].
Мануил этим походом стремился поддержать баланс сил на Ближнем Востоке, так как контроль над Египтом в борьбе крестоносцев и мусульман играл важную роль в этом регионе. Успешная атака давала Византии преимущества: данные земли со времён Римской империи были важными экспортёрами зерна, часть которого отправлялась в Константинополь вплоть до завоевания Египта арабами в VII веке. Ожидаемые доходы манили к себе завоевателей, и этой войной также закладывалась основа для долгосрочного союза ромеев и крестоносцев[41].
Провал экспедиции
 Объединённое войско христиан осадило Дамиетту 27 октября 1169 года, но эта военная операция ничем не закончилась. К моменту их прихода в Египте власть захватили ставленники сирийского эмира: Асад ад-Дин Ширкух ибн Шади и Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, укрепившие гарнизон крепости и снабдившие его провиантом. Между крестоносцами и византийцами начались раздоры. По версии последних, европейцы не желали делиться трофеями, а они сами страдали из-за голода[45]. Контостефан отдал приказ начать приступ, а король сепаратно заключил мир с осаждёнными. С другой стороны, Вильгельм Тирский отметил, что ромеи также были не безупречны[46]. После заключения мира имперский флот, возвращаясь домой, попал в шторм, потопивший часть кораблей[47].
Объединённое войско христиан осадило Дамиетту 27 октября 1169 года, но эта военная операция ничем не закончилась. К моменту их прихода в Египте власть захватили ставленники сирийского эмира: Асад ад-Дин Ширкух ибн Шади и Салах ад-Дин Юсуф ибн Айюб, укрепившие гарнизон крепости и снабдившие его провиантом. Между крестоносцами и византийцами начались раздоры. По версии последних, европейцы не желали делиться трофеями, а они сами страдали из-за голода[45]. Контостефан отдал приказ начать приступ, а король сепаратно заключил мир с осаждёнными. С другой стороны, Вильгельм Тирский отметил, что ромеи также были не безупречны[46]. После заключения мира имперский флот, возвращаясь домой, попал в шторм, потопивший часть кораблей[47].
Несмотря на неудачу, Амори пытался повторить поход и продолжал поддерживать хорошие отношения с Византией[48]. В 1171 году он прибыл в Константинополь, когда Египет перешёл под власть Саладина. Мануил организовал для короля приём, продемонстрировавший его вассальную зависимость от империи[49]. В 1177 году флот из 150 кораблей отправился к Египту, но вернулся обратно, так как часть знати королевства Иерусалим была против новой войны[50].
Отношения с Кылыч-Арсланом II: Мириокефал
Между 1158—1161 годами византийцы провели ряд военных походов против сельджукского Конийского султаната, закончившихся заключением мирного договора в 1162 году. По нему некоторые пограничные районы, включая Сивас, переходили под власть империи в обмен на денежные выплаты[51]. Однако султан Кылыч-Арслан II по-своему исполнял условия договора: от сдачи городов он отказался, при этом набегами туркменской конницы оттеснял греческое население к берегу Чёрного моря и Босфора[52]. Стоит отметить, что Мануил соблюдал мирный договор с рыцарским благородством, что было весьма необычно для византийской дипломатии. За это время Арслан смог одолеть оставшихся соперников. Только в 1176 году император решил преподать урок своему вероломному соседу и собрал имперскую армию для захвата столицы султаната — Коньи. Для этого он решил сперва отвоевать города Дорилей и Сувлей, откуда и должно было начаться вторжение[53].
Поход начался жарким летом, хотя более выгодным временем была бы весна. Византийское войско, насчитывавшее 35 000 человек, было весьма громоздким, в письме к английскому королю Генриху II Мануил сообщил, что длина его армии составляет 16 километров[54]. Маршрут проходил через Лаодикею, Келен, Аполлонию и Антиохию (Фригийскую). Недалеко от Мириокефала войско встретили послы султана, предложившие мир на условиях предыдущих договоров. Старые генералы советовали воспользоваться этим благоприятным случаем и заключить мир с султаном. Но более молодые придворные уговорили императора дать решительный ответ, что только под стенами Икония он согласится вступить в переговоры.[2]
Мануил за время похода совершил ряд тактических ошибок, например, не приказав провести разведку дальнейшего пути[55]. Из-за этого 17 сентября 1176 года византийцы были разбиты сельджуками Кылыч-Арслана, попав в засаду при переходе узкого горного перехода[56]. По данным ромейских авторов, Мануил был готов покинуть своих воинов, однако Андронику Контостефану удалось уговорить остаться в лагере. После битвы император до самой смерти не мог забыть этот разгром[57].
Арслан согласился предоставить путь для отступления на следующих условиях: разрушить укрепления Дорилея и Сувлея. Однако воины Мануила разрушили только последнюю крепость, так как сам султан не соблюдал условия мира 1162 года[58]. Тем не менее, мириокефальское поражение отрицательно сказалось на престиже Византии. Комнины сделали многое, чтобы преодолеть уроки битвы при Манцикерте, но и спустя 105 лет ромеи были побеждены сельджуками. В Западной Европе после этого Мануила стали именовать не императором ромеев, а королём греков[56].
Однако Мириокефал не нанёс империи такой урон, как это представлялось Мануилу и европейцам. Византийская армия не была полностью уничтожена[56]. Больше всего понесло потери правое крыло, где находились союзники: венгры, сербы, воины Рено Антиохийского, а также обоз, бывший главной целью нападения[53]. Поэтому спустя год Иоанн Ватац смог отбить вторжение сельджуков с помощью столичных и местных войск[53]. После этой победы сам Мануил во главе небольшого отряда выгнал противника из города Баназ, южнее Кютахьи[58]. Однако военные действия в дальнейшем шли с переменным успехом[5].
Внутренняя политика Мануила Комнина
В самой стране Мануил продолжал политику, чью основу заложили ещё его дед и отец. При его правлении в Византию активно прибывали иностранные рыцари, желавшие заработать золото и славу на службе империи. Кроме этого Константинополь наводнили иностранные купцы, большей частью из Венеции, Генуи и Пизы[59].
Комнины опирались на крупную земельную знать, и Мануил придерживался этой тактики. В 1143 году он издал новеллу, по которой вводился запрет на передачу земли, пожалованной императором, лицам, не принадлежащие сенатскому и военному сословиям. Она была весьма важна для базилевса, и он повторил её в 1155 и 1170 годах. С её помощью упрочнялась система проний — византийского аналога феодальных ленов[60].
При Мануиле своего расцвета достигла откупная система. По ней в провинцию направлялись правители и администраторы, получавшие оплату своих услуг за счёт местного населения. Само собой, что от этого процветала коррупция и правовой беспредел, но аристократы, получавшие эти должности становились вернейшими сторонниками Комнина[61]. К тому же, император часто переводил свободных граждан в париков, становившихся слугами и работниками частных лиц.
В то же время, в 1158 году был издан хрисовул, подтвердивший за большинством монастырей права на земельные владения, но и запретивший приобретение новых. Тем самым император боролся с увеличением силы церкви, которая в прошлом весьма сильно влияла на жизнь государства[59].
Церковные вопросы (1156—1180)
В правление Мануила Комнина было три богословских разночтения. В 1156—1157 годах возник вопрос, предложил ли Иисус себя в жертву за грехи всего мира во имя Отца и Святого Духа, или ещё и Логоса (т.e. во имя себя)[62]. Константинопольский собор 1157 года постановил, что Иисус пожертвовал собой ради Святой Троицы, хотя такая компромиссная трактовка вызвала протест у антиохийского патриарха Сатириха Пантевгена, низложенного за это[5].
Спустя 10 лет противоречия вызвала фраза Христа: «Отец Мой более Меня», ссылавшаяся на Его Божественную и человеческую природу или на их союз[62]. Деметрий Лампе, византийский дипломат, возвратившийся с запада, не соглашался с трактовкой, что Христос уступал Своему Отцу по человечеству, но был равен Ему по Божеству - единству Божественной природы как Единородный Сын (Халкидонский орос). Мануил, не исключавший тогда возможной церковной унии, указал на верность формулы, и 2 марта 1166 года синод высказался в поддержку его позиции[5]. Отказавшиеся признать решение синода были сосланы, а их имущество конфисковано. Среди противников императорской концепции был и его племянник — Алексей Контостефан[63].
Третий религиозный вопрос возник в 1180 году, когда базилевс высказался против формулы отречения, которую произносили новообращённые мусульмане. Анафема была направлена на мусульманское представление о Боге и включала в себя 112-ю суру Корана в византийском переводе:

|
Анафема богу Мухаммеда, о котором он говорит, что он есть бог, который не рождал, не был рожден, которому никто не подобен[64] | 
|
Однако император посчитал, что таким образом подвергался анафеме истинный Бог. Мануил созвал собор, ожидая получить от архиереев и патриарха одобрение на изъятие формулировки из огласительных книг всех церквей. Однако церковные иерархи встретили это предложение отрицательно. В итоге был принят компромиссный вариант, в котором взамен изъятой формулы была добавлена новая анафема против Мухаммеда и его учения[64].
Смерть
К концу жизни император охладел к политике и увлекся вместо неё астрологией[35], за что был осуждаем многими церковными иерархами и историками. Иоанн Каматир посвятил императору астрологическую дидактическую поэму «О круге зодиака».
Мануил I заболел в марте 1180 года и окончательно оставил управление страной. Отпраздновав свадьбу своего сына Алексея II с дочерью французского короля[65], Мануил умер в присутствии своего сына и двора. Но перед смертью он отрёкся от астрологической науки и повелел постричь себя в монахи под именем Матфея[66]. Прах императора был захоронен в часовне монастыря Пантократор.
Личность
...Светловолосый, как и все Комнины, и очень красивый, он, сын мадьярской принцессы, отличался настолько темной кожей, что однажды венецианцы, после ссоры с греками при осаде Корфу, насмехаясь над Мануилом, посадили на галеру разряженного под императора негра и возили его под шутовские славословия.[35].
Мануил Комнин был представителем нового поколения императоров Византии, являвшим собой своеобразный симбиоз двух разнонаправленных культур: западноевропейской и ромейской.
Он был физически крепким, организовывал и принимал участие в рыцарских турнирах, что сильно удивляло его подданных, а также обладал весёлым нравом. Император был обворожительным, привлекал симпатии других. Но при этом он имел литературное образование, считал себя знатоком в богословии, с удовольствием принимая участие в догматических спорах[1].
 Мануил Комнин описывается византийскими литературными источниками как весьма мужественный человек. Рассказы о нём, схожие с европейскими рыцарскими романами, упоминали о его силе, ловкости и бесстрашии. Согласно им, на турнире он победил двух сильнейших итальянских рыцарей, а у Рено Антиохийского не получалось поднять его копьё и щит. В одном бою император собственноручно убил сорок турок, а в схватке с венграми — схватил их знамя, первым преодолев мост, отделявший его армию от врага. В другой раз Мануил невредимым пробился через пятьсот турок, до этого попав в засаду, когда его сопровождали только родной брат Исаак и Иоанн Аксух[67].
Мануил Комнин описывается византийскими литературными источниками как весьма мужественный человек. Рассказы о нём, схожие с европейскими рыцарскими романами, упоминали о его силе, ловкости и бесстрашии. Согласно им, на турнире он победил двух сильнейших итальянских рыцарей, а у Рено Антиохийского не получалось поднять его копьё и щит. В одном бою император собственноручно убил сорок турок, а в схватке с венграми — схватил их знамя, первым преодолев мост, отделявший его армию от врага. В другой раз Мануил невредимым пробился через пятьсот турок, до этого попав в засаду, когда его сопровождали только родной брат Исаак и Иоанн Аксух[67].
Помимо Византии, фигура Мануила была популярна и в средневековой Руси. Ему был посвящён целый сонм былин и легенд. По одной из них, 1 августа 1164 года князь владимирский Андрей Боголюбский победил булгар, и в этот же день Мануил совершил победоносный поход на сарацин. Узнав о таком совпадении, правители решили установить празднование этой даты. В Великом Новгороде базилевс стал героем сказания «О чудном видении Спасова образа Мануилу, царю греческому» («О Спасе Мануила»). Согласно ему, икона новгородского Софийского собора Спас на престоле была написана самим Мануилом и явила ему чудо. Наказав за неподобающее поведение греческого священника, император стал жертвой Спаса, повелевшего ангелам отплатить императору той же монетой. Обнаружив утром на своём теле раны и наказующий жест на иконе, базилевс перестал вмешиваться в церковные дела[68].
Семья
Жёны и дети
Мануил Комнин был дважды женат. Его первой супругой в 1146 году была Берта Зульцбахская, свояченица Конрада III. Она умерла в 1159 году, оставив двух дочерей:
- Мария Комнина (1152—1182), жена Ренье Монферратского.
- Анна Комнина (1154—1158)[69].
Вторая супруга — Мария Антиохийская, дочь Раймунда и Констанции Антиохийской, вышла замуж в 1161 году. Она родила базилевсу сына:
- Алексей Комнин, наследовавший престол в 1180 году[70].
Император имел также и незаконнорождённых детей:
От Феодоры Вататцины:
- Алексей Комнин (родился в начале 1160-х), признанный своим отцом и получивший титул себастократора. Был кратковременно женат на Ирине Комнине, незаконнорождённой дочери Андроника Комнина в 1183—1184 годах. Затем был ослеплён своим свёкром, жил по крайне мере до 1191 года. Известен благодаря Хониату[71].
От Марии Таронитиссы, жены протовестиария Иоанна Комнина:
- Алексей Комнин, кравчий, бежавший из Константинополя в 1184 году и позже участвовавший в норманнском вторжении и осаде Фессалоник 1185 года.
От других любовниц:
- Дочь, чьё имя неизвестно. Родилась в 1150 году и вышла замуж за Феодора Маврозома до 1170 года. Некоторые из её потомков правили Конийским султанатом[72].
- Дочь, чьё имя неизвестно, родилась около 1155 года. Была бабушкой писателя Димитрия Торника[73].
Предки
Оценки
Внешняя политика
Мануил стремился восстановить с помощью армии былое величие Византийской империи в Средиземноморье. Когда он умер в 1180 году, прошло 37 лет с тех пор, как в Киликии отец провозгласил его будущим императором. Прошедшее время Мануил был занят войнами со всеми своими соседями. Его отец и дед сделали многое, чтобы ромеи забыли унижения Манцикерта, и благодаря им он получил государство в лучшем состоянии за весь XII век. Хотя и очевидно, что он использовал полученное в полном объёме, так и неясно насколько эффективно он это сделал[4].
Мануил Комнин показал себя энергичным государем, чей оптимистичный взгляд сформировал внешнюю политику. Однако, несмотря на военный талант базилевса, он так и не смог восстановить престиж своей родины. Некоторые историки критиковали Мануила за нереалистичные идеи, приводя в пример его египетский поход, которым он желал показать достигнутую мощь. Его самая большая кампания, направленная против сельджукского Конийского султаната, закончилась унизительным перемирием. Дипломатические усилия императора также ничего не принесли, когда папа Александр III помирился с императором Священной Римской империи Фридрихом Барбароссой.
Внутренняя политика
Никита Хониат упрекал Мануила Комнина за рост налогов, доход от которых он щедро тратил. Греческие и латинские летописи отмечают, что император тратил средства во всех сферах и был готов сэкономить на одном, направив деньги в другое[21]. Мануил не экономил на армии, флоте, дипломатии, церемониях, строительстве дворцов, своей семье и тех, кто искал его патронажа. Все его расходы ложились тяжёлым бременем на экономику Византии, например, затраты на итальянские войны, подарки крестоносцам и финансирование провальных экспедиций 1155—1156, 1169 и 1176 годов.
Эти убытки, однако, удачно нивелировались политикой на Балканах, где базилевс смог расширить границы империи и обеспечить безопасность Греции и Болгарии. При большей удаче он управлял бы не только богатыми сельским хозяйством районами Восточного Средиземноморья и Адриатики, но и контролировал бы торговые пути этого региона. Но и без этого, его войны с венграми дали контроль над побережьем Далмации и торговым маршрутом по реке Дунай от Венгрии до Чёрного моря. Балканские походы принесли большое количество трофеев, рабов и скота[74]; Киннам был впечатлён тем, сколько оружия ромеи забрали у убитых венгров в 1167 году[75]. Даже провальные войны против турок были окуплены захваченным имуществом[74].
Благодаря этому, экономический подъём западных провинций, стартовавший при Алексее Комнине, продолжался вплоть до конца XII столетия. В стране было отмечено активное строительство, восстанавливались старые города, разрушенные сельджуками, и строились новые[59]. Торговля также процветала, и население Константинополя — крупнейшего торгового центра империи — при Мануиле находилось между 500 000 и 1 000 000 человек, что делало его крупнейшим в Европе. Основным источником богатства императора был коммеркион — таможенная пошлина, взимаемая с импортных и экспортных товаров. Этот сбор давал Комнину 20 000 иперпир каждый день[76].
Кроме этого, византийская столица подверглась европейской миграции. Сама космополитичная природа города объясняла присутствие итальянских купцов, а также наличие крестоносцев, стремившихся достичь Святой Земли. Венецианцы, генуэзцы и другие торговцы начали использовать эгейские порты для торговых операций, доставляя товары из государства крестоносцев и Египта на запад, параллельно ведя торговлю в Константинополе[77]. Эти купцы стимулировали спрос в городах Греции, Македонии и Ионических островов, создавая новые источники богатств в стране с преимущественно аграрной экономикой[78]. Фессалоники — второй город империи, проводили летом ярмарку, на которую приезжали балканские торговцы, а в Коринфе было налажено шёлковое производство. Всё это красноречиво свидетельствует о том, что императоры династии Комнинов смогли обеспечить успешное экономическое развитие своего государства[40].
Наследие
Для своих придворных Мануил являлся «божественным императором». Спустя годы Никита Хониат описывал его как «наиболее благословенного императора», а спустя столетие Иоанн Ставракий считал его «великим в делах». Иоанн Фока, бывший солдатом в армии Мануила, считал его «спасителем мира» и славным императором[79]. Базилевса вспоминали во Франции, Италии и государствах крестоносцев как сильнейшего правителя в мире[5]. Генуэзский автор отмечал: «Со смертью господина Мануила, самого благословенного императора Константинополя … всему христианскому миру было нанесено большое разорение и вред[77]». Вильгельм Тирский называл Мануила «великодушным человеком несравненной энергии». Для рыцаря Робера де Клари «император был поистине доблестным человеком и самым богатым из всех христианских государей, которые когда-либо были на свете, и самым щедрым»[80].
Напоминанием о византийском влиянии на Ближнем Востоке является церковь Пресвятой Богородицы в Вифлиеме. В 1160-х годах здание было отделано мозаикой, изображавшей покровителей постройки, к которым относился и Мануил[81]. На южной стене надпись на греческом языке гласит: «Настоящая работа завершена монахом Ефремом, художником и мастером по мозаике, во время правления Мануила Порфирородного Комнина и во время великого короля Иерусалима, Aмори». Упоминание Мануила первым символизировало общественное признание его лидерства в христианском мире. Также он выступал как защитник православных и христианских святынь. Комнин был инициатором строительства и украшения базилик и православных монастырей Святой земли, включая церковь Гроба Господня в Иерусалиме, где благодаря его усилиям византийскому духовенству было дозволено проводить ежедневно свои литургии. Все эти шаги укрепляли статус Византии как сюзерена государств крестоносцев, а её гегемония в Антиохии и Иерусалиме была согласована с местными правителями — Рено и Амори. Мануил стал последним императором, способным благодаря своим военным и дипломатическим успехам именовать себя «правителем Далмации, Боснии, Хорватии, Сербии, Болгарии и Венгрии», то есть всех стран Балканского полуострова[82].
Ромейская держава выглядела внушительно, когда умер Мануил. Империя обрела могущество, экономическое процветание и безопасные границы во время правления Алексея, Иоанна и Мануила Комнинов. Однако в государстве остались серьёзные проблемы. Византийский двор требовал сильного лидера, способного удерживать его в повиновении. Норманны в Сицилии и турки в Анатолии не собирались поддерживать мир с Византией, и только благодаря сильным императорам государство могло отражать их нападения. Венецианцы, бывшие союзником империи долгое время, после 1180 года пересмотрели свою позицию.
Исходя из вышесказанного, державе требовался сильный правитель, способный держать в узде внешних врагов и пополнить оскудевшую имперскую казну. Но сын Мануила был ещё ребёнком, а непопулярное регентское правительство его матери было быстро свергнуто. Эти события ослабили правящую династию, а вместе с ней и всю Византийскую империю[65].
Отношение историков
...мы бы сравнили империю Мануйлова времени с прекрасным на вид имением, в котором хозяйство ведется блестящим образом и на широкую ногу, но весь этот блеск покупается на занятые деньги, вследствие чего со смертью хозяина сейчас же наступает полное банкротство, в котором наследники не знают, как разобраться[1].
Историки XVIII века весьма неоднозначно относились к Мануилу. Автор книги История революции в Константинопольской империи М. де Бюриньи, считал, что в его царствование были достигнуты серьёзные внешнеполитические успехи, но за счёт ухудшения состояния экономики Византии. Писатель Шарль Тибо, выпустивший «Историю Поздней Империи», весьма отрицательно относился к базилевсу. Обладатель благородных качеств, он, из-за действий министров, начал относиться к подданным как к рабам. Тратя на своих фаворитов и войны большие суммы, Мануил добывал их путём увеличения налогов, тем самым разоряя города и крестьян. Эдвард Гиббон считал, что император не унаследовал своего отца и истощил казну империи[83].
В XIX веке отношение к Мануилу Комнину не изменилось. Немецкий историк Ф. Вилькен нейтрально относился к императору, образованному и физически сильному, который оказывал предпочтение латинянам и собирал большие налоги с собственного народа. Его французский коллега де Сегюр считал главным преступлением монарха отсутствие морального стержня, из-за чего в Византии процветали интриги и разврат. Г. Ф. Герцберг считал Мануила продолжателем политики отца и деда, которому удалось добиться многих успехов, но «беспредельные мечтания» о величии империи подорвали силы как государя, так и его родины[84].
Представители российской школы византологии относились к Мануилу со сдержанным чувством. А. А. Васильев считал просчётом Мануила полное невнимание к восточной границе, взамен направившему силы и ресурсы на неудачную политику в Италии и Венгрии. Помимо этого, активное привлечение иностранцев впоследствии сыграло печальную роль в дальнейшей судьбе Византии[19].
В противовес Васильеву, немецкие историки положительно оценивали западничество Мануила Комнина. Они указывали на его рыцарскую натуру, хотя и признавали невозможность восстановления былого величия империи. Например, К. Дитрих поддерживает проведённые базилевсом реформы внутреннего управления, а также приём на службу европейцев[85].
Мануил I Комнин в литературе
-
Константинос Кавафис. «Мануил Комнин».
-
Александр Говоров. «Византийская тьма».
Напишите отзыв о статье "Мануил I Комнин"
Примечания
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Успенский Ф. И. [rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.11.htm История Византийской Империи. Глава XI. Начальные годы царствования Мануила Комнина. Второй крестовый поход]. — 2005.
- ↑ 1 2 3 4 Успенский Ф. И. [rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.14.htm История Византийской Империи. Глава XIV. Восточная политика Мануила. Турки и христианские государства в Сирии и Палестине]. — 2005.
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 3
- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 3-4
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 A. Stone, [www.roman-emperors.org/mannycom.htm Manuel I Comnenus]
- ↑ E. Gibbon. he History of the Decline and Fall of the Roman Empire. — р. 72
- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 388
- ↑ "Byzantium", Papyros-Larousse-Britannica, 2006
- ↑ Ришар, Жан. Латино-Иерусалимское королевство. — С. 63—66.
- ↑ 1 2 Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [krotov.info/acts/12/2/kinnam_2.htm Книга 2]
- ↑ W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society. — р. 640
- ↑ Комнина А. [krotov.info/acts/11/komnina/aleks_00.html Алексиада]. — 1996.
- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 621
- ↑ P.P. Read. The Templars. — р. 238
- ↑ 1 2 P.P. Read. The Templars. — р. 239
- ↑ William of Tyre. Historia, XVIII, [thelatinlibrary.com/williamtyre/18.html#10 10]
- ↑ C. Hillenbrand. The Imprisonment of Raynald of Châtillon. — р. 80
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 67
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Васильев А. А. Глава 6. Внешняя политика Мануила I и второй Крестовый поход // [www.hrono.ru/libris/lib_we/vaa213.html#vaa213para06 История Византийской Империи]. — Т. 2.
- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 404
- ↑ 1 2 K. Paparrigopoulos. History of the Greek Nation. — р. 134
- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 395
- ↑ P. Magdalino. The Byzantine Empire. — р. 621
- ↑ 1 2 J. Duggan. The Pope and the Princes. — р. 122
- ↑ 1 2 J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 114
- ↑ Д. Норвич. История Византии. — с. 400
- ↑ William of Tyre. Historia, XVIII, [thelatinlibrary.com/williamtyre/18.html#2 2]
- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 115
- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р 115—116
- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р.116
- ↑ W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society. — р. 643
- ↑ Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [krotov.info/acts/12/2/kinnam_5.htm Книга 5]
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 84
- ↑ Д. Норвич. История Византии. — р. 407
- ↑ 1 2 3 С. Дашков, Императоры Византии
- ↑ Curta. Southeastern Europe in the Middle Ages. — XXIII
- ↑ Birkenmeier 2002, С. 241.
- ↑ 1 2 J.W. Sedlar. East Central Europe in the Middle Ages. — р. 372
- ↑ Д. Оболенский. Византийское содружество наций. — с. 299—302.
- ↑ 1 2 M. Angold. The Byzantine Empire, 1025—1204. — р. 177.
- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 73
- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 74
- ↑ J. Phillips. The Fourth Crusade and the Sack of Constantinople. — р. 158
- ↑ William of Tyre. A History of Deeds Done Beyond the Sea
- ↑ R. Rogers. Latin Siege Warfare in the Twelfth Century. — р. 84-86
- ↑ William of Tyre. Historia, XX [thelatinlibrary.com/williamtyre/20.html#15 15-17]
- ↑ T.F. Madden. The New Concise History of the Crusades. — р. 68
- ↑ T.F. Madden. The New Concise History of the Crusades. — р. 68—69
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 75
- ↑ J. Harris. Byzantium and The Crusades. — р. 109
- ↑ I. Health. Byzantine Armies. — р. 4
- ↑ K. Paparrigopoulos. History of the Greek Nation, . — р. 140
- ↑ 1 2 3 J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 128
- ↑ J.W. Birkenmeier. The Development of the Komnenian Army. — р. 132
- ↑ J. Bradbury. Medieval Warfare. — р. 176
- ↑ 1 2 3 D. MacGillivray Nicol. Byzantium and Venice. — р. 102
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 98
- ↑ 1 2 W. Treadgold. A History of the Byzantine State and Society. — р. 649
- ↑ 1 2 3 Сказкин Ф. И. [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st024.shtml История Византии. Том 2. Глава 12. Провинциальная аристократия у власти. Внутренняя политика первых Комнинов].
- ↑ Сюзюмов, 1957, с. 64.
- ↑ Сюзюмов, 1957, с. 61-62.
- ↑ 1 2 J.H. Kurtz. History of the Christian Church to the Restoration. — р. 265—266
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 217
- ↑ 1 2 G.L. Hanson. Manuel I Komnenos and the "God of Muhammad". — р. 55.
- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Medieval Empire. — р. 194
- ↑ Н. Хониат. История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. — Том 1, книга 7
- ↑ E. Gibbon. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire. — р. 73
- ↑ Брюсова, 1971, с. 85—86.
- ↑ Garland-Stone. [www.roman-emperors.org/bertha.htm Bertha-Irene of Sulzbach, first wife of Manuel I Comnenus]
- ↑ K. Varzos. Genealogy of the Komnenian Dynasty. — р. 155
- ↑ Každan-Epstein. Change in Byzantine Culture. — р. 102
- ↑ C.M. Brand. The Turkish Element in Byzantium. — р. 1—25
- ↑ K. Varzos. Genealogy of the Komnenian Dynasty. — р. 157a
- ↑ 1 2 P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 174
- ↑ Иоанн Киннам. Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов [krotov.info/acts/12/2/kinnam_6.htm Книга 6]
- ↑ J. Harris. Byzantium and the Crusades. — р. 26
- ↑ 1 2 G.W. Day. Manuel and the Genoese. — р. 289—290
- ↑ P. Magdalino. The Empire of Manuel I Komnenos. — р. 143—144
- ↑ J. Harris. Byzantium and the Crusades
- ↑ Робер де Клари. Завоевание Константинополя, XVIII. — М.: Издательство «Наука», 1986. — С. 16.
- ↑ B. Zeitler, [findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_n4_v76/ai_16547936/pg_20 Cross-cultural interpretations]
- ↑ Д. Оболенский. Византийское содружество наций. — с. 17.
- ↑ Каждан, 1964, с. 55—58.
- ↑ Каждан, 1964, с. 61—68.
- ↑ Каждан, 1964, с. 71—73.
Источники и литература
Источники
- Иоанн Киннам. [krotov.info/acts/12/2/kinnam_0.htm] // Краткое обозрение царствования Иоанна и Мануила Комнинов. — СПб.: Типография Григория Трусова, 1859.
- Никита Хониат, История, начинающаяся с царствования Иоанна Комнина. [www.hrono.ru/libris/lib_n/niketas100.html].
- William of Tyre, Historia Rerum In Partibus Transmarinis Gestarum (A History of Deeds Done Beyond the Sea), translated by E. A. Babock and A. C. Krey (Columbia University Press, 1943). See the original text in the [thelatinlibrary.com/williamtyre.html Latin library].
Литература
- Брюсова В. Г. [www.vremennik.biz/BB%2032%20%281971%29 Новгородская легенда о Мануиле, царе греческом; Приложение: «О чюдном видѣнии Спасова образа како явися благоверному царю греческому Мануилу, еже он же написа»] // Византийский Временник. — 1971. — № 32. — С. 85–103.
- Васильев А. А. [www.hrono.ru/libris/lib_we/vaa213.html#vaa213para06 Внешняя политика Мануила I и второй Крестовый поход] // История Византийской империи. — М.: Алетейя, 2000. — Т. 2. — ISBN 978-5-403-01726-8.
- Дашков С. Б. [www.sedmitza.ru/text/434550.html] // Императоры Византии. — М.: Красная площадь, 1997. — 558 с. — ISBN 5-87305-002-3.
- Каждан А. П. [www.vremennik.biz/BB%2025%20%281964%29 Загадка Комнинов: (опыт историографии)] // Византийский Временник. — 1964. — № 25. — С. 53–98.
- Робер де Клари. [militera.lib.ru/h/declari/01.html] // Завоевание Константинополя. — М.: Наука, 1986. — 176 с.
- Анна Комнина. [krotov.info/acts/11/komnina/aleks_02.html] // Алексиада. В 15 книгах. — СПб.: Алетейя, 1996. — Т. 9. — 704 с. — ISBN 5-89329-006.
- Джон Норвич. История Византии. — М.: АСТ, 2010. — 542 с. — ISBN 9-78-517-050648.
- Дмитрий Оболенский. Византийское содружество наций. — М.: Янус-К, 1998. — ISBN 5-86-218273-X.
- Сказкин С. Д. [historic.ru/books/item/f00/s00/z0000048/st025.shtm] // История Византии. Т.3. — М.: Наука, 1967. — ISBN 978-5-403-01726-8.
- Сюзюмов М. Я. [www.vremennik.biz/BB%2012%20%281957%29 Внутренняя политика Андроника Комнина и разгром пригородов Константинополя в 1187 году ] // Византийский Временник. — 1957. — № 12. — С. 58—74.
- Успенский Ф. И. [rikonti-khalsivar.narod.ru/Usp4.0.htm Отдел VI. Комнины] // История Византийской империи. В 5 т. — М.: АСТ, Астрель, 2005. — Т. 5. — 558 с. — ISBN 5-271-03856-4.
- Angold, Michael. The Byzantine Empire, 1025–1204. — Longman, 1997. — ISBN 0-582-29468-1.
- Birkenmeier John W. The Campaigns of Manuel I Komnenos // The Development of the Komnenian Army: 1081–1180. — Brill Academic Publishers, 2002. — ISBN 90-04-11710-5.
- Brand, Charles M. (1989). «The Turkish Element in Byzantium, Eleventh-Twelfth Centuries». Dumbarton Oaks Papers (Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University) 43: 1–2. DOI:10.2307/1291603.
- (греч.) "Byzantium", Papyros-Larousse-Britannica (Volume XIII), 2006, ISBN 960-8322-84-7
- Day, Gerald. W. (June 1977). «Manuel and the Genoese: A Reappraisal of Byzantine Commercial Policy in the Late Twelfth Century». The Journal of Economic History (Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University) 37 (2): 289–301. DOI:10.2307/1291170.
- Duggan Anne J. The Pope and the Princes // Adrian IV, the English Pope, 1154–1159: Studies and Texts edited by Brenda Bolton and Anne J. Duggan. — Ashgate Publishing, Ltd., 2003. — ISBN 0-7546-0708-9.
- Garland Lynda, Stone Andrew [www.roman-emperors.org/bertha.htm Bertha-Irene of Sulzbach, first wife of Manuel I Comnenus]. Online Encyclopedia of Roman Emperors. Проверено 5 февраля 2007. [www.webcitation.org/64zoDwlU8 Архивировано из первоисточника 27 января 2012].
- Gibbon Edward. XLVIII-The Decline and Fall // The History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Volume III). — Penguin Classics, 1995. — ISBN 0-14-043395-3.
- Harris, Jonathan. Byzantium and the Crusades. — Hambledon and London, 2003. — ISBN 1-85285-298-4.
- Každan Alexander P. Popular and Aristrocratic Popular Trends // Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. — University of California Press, 1990. — ISBN 0-520-06962-5.
- Madden Thomas F. The Decline of the Latin Kingdom of Jerusalem and the Third Crusade // The New Concise History of the Crusades. — Rowman & Littlefield, 2005. — ISBN 0-7425-3822-2.
- Magdalino Paul. The Medieval Empire (780–1204) // The Oxford History of Byzantium By Cyril A. Mango. — Oxford University Press, 2002. — ISBN 0-19-814098-3.
- Magdalino Paul. The Empire of Manuel I Komnenos, 1143–1180. — Cambridge University Press, 2002. — ISBN 0-521-52653-1.
- Mayer Hans, Eberhard. The Latin East, 1098–1205 // The New Cambridge Medieval History edited by Rosamond McKitterick, Timothy Reuter, Michael K. Jones, Christopher Allmand, David Abulafia, Jonathan Riley-Smith, Paul Fouracre, David Luscombe. — Cambridge University Press, 2005. — ISBN 0-521-41411-3.
- Read Piers Paul. The Templars (translated in Greek by G. Kousounelou). — Enalios, 2003—English edition 1999. — ISBN 960-536-143-4.
- Rogers Randal. The Capture of the Palestinian Coast // Latin Siege Warfare in the Twelfth Century. — Oxford University Press, 1997. — ISBN 0-19-820689-5.
- Treadgold Warren. A History of the Byzantine State and Society. — Stanford University Press, 1997. — ISBN 0-8047-2630-2.
- Sedlar Jean W. Foreign Affairs // East Central Europe in the Middle Ages, 1000–1500. — University of Washington Press, 1994. — ISBN 0-295-97290-4.
- Stone, Andrew [www.roman-emperors.org/mannycom.htm Manuel I Comnenus (A.D. 1143–1180)]. Online Encyclopedia of Roman Emperors. Проверено 5 февраля 2007. [www.webcitation.org/64zoEOb1U Архивировано из первоисточника 27 января 2012].
- Zeitler, Barbara [findarticles.com/p/articles/mi_m0422/is_n4_v76/ai_16547936/pg_1 Cross-cultural Interpretations of Imagery in the Middle Ages]. Find Articles. Проверено 27 февраля 2007.
- (греч.) Varzos, K. The Genealogy of the Komnenian Dynasty. — Center of Byzantine Researches, 1984.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Мануил I Комнин
– Отчего же нет? – сказала княжна.– Все от божьего наказания, – сказал Дрон. – Какие лошади были, под войска разобрали, а какие подохли, нынче год какой. Не то лошадей кормить, а как бы самим с голоду не помереть! И так по три дня не емши сидят. Нет ничего, разорили вконец.
Княжна Марья внимательно слушала то, что он говорил ей.
– Мужики разорены? У них хлеба нет? – спросила она.
– Голодной смертью помирают, – сказал Дрон, – не то что подводы…
– Да отчего же ты не сказал, Дронушка? Разве нельзя помочь? Я все сделаю, что могу… – Княжне Марье странно было думать, что теперь, в такую минуту, когда такое горе наполняло ее душу, могли быть люди богатые и бедные и что могли богатые не помочь бедным. Она смутно знала и слышала, что бывает господский хлеб и что его дают мужикам. Она знала тоже, что ни брат, ни отец ее не отказали бы в нужде мужикам; она только боялась ошибиться как нибудь в словах насчет этой раздачи мужикам хлеба, которым она хотела распорядиться. Она была рада тому, что ей представился предлог заботы, такой, для которой ей не совестно забыть свое горе. Она стала расспрашивать Дронушку подробности о нуждах мужиков и о том, что есть господского в Богучарове.
– Ведь у нас есть хлеб господский, братнин? – спросила она.
– Господский хлеб весь цел, – с гордостью сказал Дрон, – наш князь не приказывал продавать.
– Выдай его мужикам, выдай все, что им нужно: я тебе именем брата разрешаю, – сказала княжна Марья.
Дрон ничего не ответил и глубоко вздохнул.
– Ты раздай им этот хлеб, ежели его довольно будет для них. Все раздай. Я тебе приказываю именем брата, и скажи им: что, что наше, то и ихнее. Мы ничего не пожалеем для них. Так ты скажи.
Дрон пристально смотрел на княжну, в то время как она говорила.
– Уволь ты меня, матушка, ради бога, вели от меня ключи принять, – сказал он. – Служил двадцать три года, худого не делал; уволь, ради бога.
Княжна Марья не понимала, чего он хотел от нее и от чего он просил уволить себя. Она отвечала ему, что она никогда не сомневалась в его преданности и что она все готова сделать для него и для мужиков.
Через час после этого Дуняша пришла к княжне с известием, что пришел Дрон и все мужики, по приказанию княжны, собрались у амбара, желая переговорить с госпожою.
– Да я никогда не звала их, – сказала княжна Марья, – я только сказала Дронушке, чтобы раздать им хлеба.
– Только ради бога, княжна матушка, прикажите их прогнать и не ходите к ним. Все обман один, – говорила Дуняша, – а Яков Алпатыч приедут, и поедем… и вы не извольте…
– Какой же обман? – удивленно спросила княжна
– Да уж я знаю, только послушайте меня, ради бога. Вот и няню хоть спросите. Говорят, не согласны уезжать по вашему приказанию.
– Ты что нибудь не то говоришь. Да я никогда не приказывала уезжать… – сказала княжна Марья. – Позови Дронушку.
Пришедший Дрон подтвердил слова Дуняши: мужики пришли по приказанию княжны.
– Да я никогда не звала их, – сказала княжна. – Ты, верно, не так передал им. Я только сказала, чтобы ты им отдал хлеб.
Дрон, не отвечая, вздохнул.
– Если прикажете, они уйдут, – сказал он.
– Нет, нет, я пойду к ним, – сказала княжна Марья
Несмотря на отговариванье Дуняши и няни, княжна Марья вышла на крыльцо. Дрон, Дуняша, няня и Михаил Иваныч шли за нею. «Они, вероятно, думают, что я предлагаю им хлеб с тем, чтобы они остались на своих местах, и сама уеду, бросив их на произвол французов, – думала княжна Марья. – Я им буду обещать месячину в подмосковной, квартиры; я уверена, что Andre еще больше бы сделав на моем месте», – думала она, подходя в сумерках к толпе, стоявшей на выгоне у амбара.
Толпа, скучиваясь, зашевелилась, и быстро снялись шляпы. Княжна Марья, опустив глаза и путаясь ногами в платье, близко подошла к ним. Столько разнообразных старых и молодых глаз было устремлено на нее и столько было разных лиц, что княжна Марья не видала ни одного лица и, чувствуя необходимость говорить вдруг со всеми, не знала, как быть. Но опять сознание того, что она – представительница отца и брата, придало ей силы, и она смело начала свою речь.
– Я очень рада, что вы пришли, – начала княжна Марья, не поднимая глаз и чувствуя, как быстро и сильно билось ее сердце. – Мне Дронушка сказал, что вас разорила война. Это наше общее горе, и я ничего не пожалею, чтобы помочь вам. Я сама еду, потому что уже опасно здесь и неприятель близко… потому что… Я вам отдаю все, мои друзья, и прошу вас взять все, весь хлеб наш, чтобы у вас не было нужды. А ежели вам сказали, что я отдаю вам хлеб с тем, чтобы вы остались здесь, то это неправда. Я, напротив, прошу вас уезжать со всем вашим имуществом в нашу подмосковную, и там я беру на себя и обещаю вам, что вы не будете нуждаться. Вам дадут и домы и хлеба. – Княжна остановилась. В толпе только слышались вздохи.
– Я не от себя делаю это, – продолжала княжна, – я это делаю именем покойного отца, который был вам хорошим барином, и за брата, и его сына.
Она опять остановилась. Никто не прерывал ее молчания.
– Горе наше общее, и будем делить всё пополам. Все, что мое, то ваше, – сказала она, оглядывая лица, стоявшие перед нею.
Все глаза смотрели на нее с одинаковым выражением, значения которого она не могла понять. Было ли это любопытство, преданность, благодарность, или испуг и недоверие, но выражение на всех лицах было одинаковое.
– Много довольны вашей милостью, только нам брать господский хлеб не приходится, – сказал голос сзади.
– Да отчего же? – сказала княжна.
Никто не ответил, и княжна Марья, оглядываясь по толпе, замечала, что теперь все глаза, с которыми она встречалась, тотчас же опускались.
– Отчего же вы не хотите? – спросила она опять.
Никто не отвечал.
Княжне Марье становилось тяжело от этого молчанья; она старалась уловить чей нибудь взгляд.
– Отчего вы не говорите? – обратилась княжна к старому старику, который, облокотившись на палку, стоял перед ней. – Скажи, ежели ты думаешь, что еще что нибудь нужно. Я все сделаю, – сказала она, уловив его взгляд. Но он, как бы рассердившись за это, опустил совсем голову и проговорил:
– Чего соглашаться то, не нужно нам хлеба.
– Что ж, нам все бросить то? Не согласны. Не согласны… Нет нашего согласия. Мы тебя жалеем, а нашего согласия нет. Поезжай сама, одна… – раздалось в толпе с разных сторон. И опять на всех лицах этой толпы показалось одно и то же выражение, и теперь это было уже наверное не выражение любопытства и благодарности, а выражение озлобленной решительности.
– Да вы не поняли, верно, – с грустной улыбкой сказала княжна Марья. – Отчего вы не хотите ехать? Я обещаю поселить вас, кормить. А здесь неприятель разорит вас…
Но голос ее заглушали голоса толпы.
– Нет нашего согласия, пускай разоряет! Не берем твоего хлеба, нет согласия нашего!
Княжна Марья старалась уловить опять чей нибудь взгляд из толпы, но ни один взгляд не был устремлен на нее; глаза, очевидно, избегали ее. Ей стало странно и неловко.
– Вишь, научила ловко, за ней в крепость иди! Дома разори да в кабалу и ступай. Как же! Я хлеб, мол, отдам! – слышались голоса в толпе.
Княжна Марья, опустив голову, вышла из круга и пошла в дом. Повторив Дрону приказание о том, чтобы завтра были лошади для отъезда, она ушла в свою комнату и осталась одна с своими мыслями.
Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что, сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном – о своем горе, которое теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих. Ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из за лип стала выходить полная луна, поднялся свежий, белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина.
Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего – болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах, отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое – она чувствовала – она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим.
То ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар и его из сада в Лысых Горах волокли под руки и он бормотал что то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее.
«Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, – думала она. – Он всегда думал то, что он сказал мне». И вот ей со всеми подробностями вспомнилась та ночь в Лысых Горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду, против его воли осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным, усталым голосом говорил что то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. «И отчего он не позвал меня? Отчего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? – думала тогда и теперь княжна Марья. – Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. Отчего я не вошла тогда в комнату? – думала она. – Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти. Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут, за дверью. Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую, – он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал: „Дурак“. Ему тяжело было. Я слышала из за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал: „Бог мой!Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово“. И княжна Марья вслух произнесла то ласковое слово, которое он сказал ей в день смерти. «Ду ше нь ка! – повторила княжна Марья это слово и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо. И не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека; а то лицо – робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями.
«Душенька», – повторила она.
«Что он думал, когда сказал это слово? Что он думает теперь? – вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидала его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу на обвязанном белым платком лице. И тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь. Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее.
– Дуняша! – прошептала она. – Дуняша! – вскрикнула она диким голосом и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей, навстречу бегущим к ней няне и девушкам.
17 го августа Ростов и Ильин, сопутствуемые только что вернувшимся из плена Лаврушкой и вестовым гусаром, из своей стоянки Янково, в пятнадцати верстах от Богучарова, поехали кататься верхами – попробовать новую, купленную Ильиным лошадь и разузнать, нет ли в деревнях сена.
Богучарово находилось последние три дня между двумя неприятельскими армиями, так что так же легко мог зайти туда русский арьергард, как и французский авангард, и потому Ростов, как заботливый эскадронный командир, желал прежде французов воспользоваться тем провиантом, который оставался в Богучарове.
Ростов и Ильин были в самом веселом расположении духа. Дорогой в Богучарово, в княжеское именье с усадьбой, где они надеялись найти большую дворню и хорошеньких девушек, они то расспрашивали Лаврушку о Наполеоне и смеялись его рассказам, то перегонялись, пробуя лошадь Ильина.
Ростов и не знал и не думал, что эта деревня, в которую он ехал, была именье того самого Болконского, который был женихом его сестры.
Ростов с Ильиным в последний раз выпустили на перегонку лошадей в изволок перед Богучаровым, и Ростов, перегнавший Ильина, первый вскакал в улицу деревни Богучарова.
– Ты вперед взял, – говорил раскрасневшийся Ильин.
– Да, всё вперед, и на лугу вперед, и тут, – отвечал Ростов, поглаживая рукой своего взмылившегося донца.
– А я на французской, ваше сиятельство, – сзади говорил Лаврушка, называя французской свою упряжную клячу, – перегнал бы, да только срамить не хотел.
Они шагом подъехали к амбару, у которого стояла большая толпа мужиков.
Некоторые мужики сняли шапки, некоторые, не снимая шапок, смотрели на подъехавших. Два старые длинные мужика, с сморщенными лицами и редкими бородами, вышли из кабака и с улыбками, качаясь и распевая какую то нескладную песню, подошли к офицерам.
– Молодцы! – сказал, смеясь, Ростов. – Что, сено есть?
– И одинакие какие… – сказал Ильин.
– Развесе…oo…ооо…лая бесе… бесе… – распевали мужики с счастливыми улыбками.
Один мужик вышел из толпы и подошел к Ростову.
– Вы из каких будете? – спросил он.
– Французы, – отвечал, смеючись, Ильин. – Вот и Наполеон сам, – сказал он, указывая на Лаврушку.
– Стало быть, русские будете? – переспросил мужик.
– А много вашей силы тут? – спросил другой небольшой мужик, подходя к ним.
– Много, много, – отвечал Ростов. – Да вы что ж собрались тут? – прибавил он. – Праздник, что ль?
– Старички собрались, по мирскому делу, – отвечал мужик, отходя от него.
В это время по дороге от барского дома показались две женщины и человек в белой шляпе, шедшие к офицерам.
– В розовом моя, чур не отбивать! – сказал Ильин, заметив решительно подвигавшуюся к нему Дуняшу.
– Наша будет! – подмигнув, сказал Ильину Лаврушка.
– Что, моя красавица, нужно? – сказал Ильин, улыбаясь.
– Княжна приказали узнать, какого вы полка и ваши фамилии?
– Это граф Ростов, эскадронный командир, а я ваш покорный слуга.
– Бе…се…е…ду…шка! – распевал пьяный мужик, счастливо улыбаясь и глядя на Ильина, разговаривающего с девушкой. Вслед за Дуняшей подошел к Ростову Алпатыч, еще издали сняв свою шляпу.
– Осмелюсь обеспокоить, ваше благородие, – сказал он с почтительностью, но с относительным пренебрежением к юности этого офицера и заложив руку за пазуху. – Моя госпожа, дочь скончавшегося сего пятнадцатого числа генерал аншефа князя Николая Андреевича Болконского, находясь в затруднении по случаю невежества этих лиц, – он указал на мужиков, – просит вас пожаловать… не угодно ли будет, – с грустной улыбкой сказал Алпатыч, – отъехать несколько, а то не так удобно при… – Алпатыч указал на двух мужиков, которые сзади так и носились около него, как слепни около лошади.
– А!.. Алпатыч… А? Яков Алпатыч!.. Важно! прости ради Христа. Важно! А?.. – говорили мужики, радостно улыбаясь ему. Ростов посмотрел на пьяных стариков и улыбнулся.
– Или, может, это утешает ваше сиятельство? – сказал Яков Алпатыч с степенным видом, не заложенной за пазуху рукой указывая на стариков.
– Нет, тут утешенья мало, – сказал Ростов и отъехал. – В чем дело? – спросил он.
– Осмелюсь доложить вашему сиятельству, что грубый народ здешний не желает выпустить госпожу из имения и угрожает отпречь лошадей, так что с утра все уложено и ее сиятельство не могут выехать.
– Не может быть! – вскрикнул Ростов.
– Имею честь докладывать вам сущую правду, – повторил Алпатыч.
Ростов слез с лошади и, передав ее вестовому, пошел с Алпатычем к дому, расспрашивая его о подробностях дела. Действительно, вчерашнее предложение княжны мужикам хлеба, ее объяснение с Дроном и с сходкою так испортили дело, что Дрон окончательно сдал ключи, присоединился к мужикам и не являлся по требованию Алпатыча и что поутру, когда княжна велела закладывать, чтобы ехать, мужики вышли большой толпой к амбару и выслали сказать, что они не выпустят княжны из деревни, что есть приказ, чтобы не вывозиться, и они выпрягут лошадей. Алпатыч выходил к ним, усовещивая их, но ему отвечали (больше всех говорил Карп; Дрон не показывался из толпы), что княжну нельзя выпустить, что на то приказ есть; а что пускай княжна остается, и они по старому будут служить ей и во всем повиноваться.
В ту минуту, когда Ростов и Ильин проскакали по дороге, княжна Марья, несмотря на отговариванье Алпатыча, няни и девушек, велела закладывать и хотела ехать; но, увидав проскакавших кавалеристов, их приняли за французов, кучера разбежались, и в доме поднялся плач женщин.
– Батюшка! отец родной! бог тебя послал, – говорили умиленные голоса, в то время как Ростов проходил через переднюю.
Княжна Марья, потерянная и бессильная, сидела в зале, в то время как к ней ввели Ростова. Она не понимала, кто он, и зачем он, и что с нею будет. Увидав его русское лицо и по входу его и первым сказанным словам признав его за человека своего круга, она взглянула на него своим глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожавшим от волнения голосом. Ростову тотчас же представилось что то романическое в этой встрече. «Беззащитная, убитая горем девушка, одна, оставленная на произвол грубых, бунтующих мужиков! И какая то странная судьба натолкнула меня сюда! – думал Ростов, слушяя ее и глядя на нее. – И какая кротость, благородство в ее чертах и в выражении! – думал он, слушая ее робкий рассказ.
Когда она заговорила о том, что все это случилось на другой день после похорон отца, ее голос задрожал. Она отвернулась и потом, как бы боясь, чтобы Ростов не принял ее слова за желание разжалобить его, вопросительно испуганно взглянула на него. У Ростова слезы стояли в глазах. Княжна Марья заметила это и благодарно посмотрела на Ростова тем своим лучистым взглядом, который заставлял забывать некрасивость ее лица.
– Не могу выразить, княжна, как я счастлив тем, что я случайно заехал сюда и буду в состоянии показать вам свою готовность, – сказал Ростов, вставая. – Извольте ехать, и я отвечаю вам своей честью, что ни один человек не посмеет сделать вам неприятность, ежели вы мне только позволите конвоировать вас, – и, почтительно поклонившись, как кланяются дамам царской крови, он направился к двери.
Почтительностью своего тона Ростов как будто показывал, что, несмотря на то, что он за счастье бы счел свое знакомство с нею, он не хотел пользоваться случаем ее несчастия для сближения с нею.
Княжна Марья поняла и оценила этот тон.
– Я очень, очень благодарна вам, – сказала ему княжна по французски, – но надеюсь, что все это было только недоразуменье и что никто не виноват в том. – Княжна вдруг заплакала. – Извините меня, – сказала она.
Ростов, нахмурившись, еще раз низко поклонился и вышел из комнаты.
– Ну что, мила? Нет, брат, розовая моя прелесть, и Дуняшей зовут… – Но, взглянув на лицо Ростова, Ильин замолк. Он видел, что его герой и командир находился совсем в другом строе мыслей.
Ростов злобно оглянулся на Ильина и, не отвечая ему, быстрыми шагами направился к деревне.
– Я им покажу, я им задам, разбойникам! – говорил он про себя.
Алпатыч плывущим шагом, чтобы только не бежать, рысью едва догнал Ростова.
– Какое решение изволили принять? – сказал он, догнав его.
Ростов остановился и, сжав кулаки, вдруг грозно подвинулся на Алпатыча.
– Решенье? Какое решенье? Старый хрыч! – крикнул он на него. – Ты чего смотрел? А? Мужики бунтуют, а ты не умеешь справиться? Ты сам изменник. Знаю я вас, шкуру спущу со всех… – И, как будто боясь растратить понапрасну запас своей горячности, он оставил Алпатыча и быстро пошел вперед. Алпатыч, подавив чувство оскорбления, плывущим шагом поспевал за Ростовым и продолжал сообщать ему свои соображения. Он говорил, что мужики находились в закоснелости, что в настоящую минуту было неблагоразумно противуборствовать им, не имея военной команды, что не лучше ли бы было послать прежде за командой.
– Я им дам воинскую команду… Я их попротивоборствую, – бессмысленно приговаривал Николай, задыхаясь от неразумной животной злобы и потребности излить эту злобу. Не соображая того, что будет делать, бессознательно, быстрым, решительным шагом он подвигался к толпе. И чем ближе он подвигался к ней, тем больше чувствовал Алпатыч, что неблагоразумный поступок его может произвести хорошие результаты. То же чувствовали и мужики толпы, глядя на его быструю и твердую походку и решительное, нахмуренное лицо.
После того как гусары въехали в деревню и Ростов прошел к княжне, в толпе произошло замешательство и раздор. Некоторые мужики стали говорить, что эти приехавшие были русские и как бы они не обиделись тем, что не выпускают барышню. Дрон был того же мнения; но как только он выразил его, так Карп и другие мужики напали на бывшего старосту.
– Ты мир то поедом ел сколько годов? – кричал на него Карп. – Тебе все одно! Ты кубышку выроешь, увезешь, тебе что, разори наши дома али нет?
– Сказано, порядок чтоб был, не езди никто из домов, чтобы ни синь пороха не вывозить, – вот она и вся! – кричал другой.
– Очередь на твоего сына была, а ты небось гладуха своего пожалел, – вдруг быстро заговорил маленький старичок, нападая на Дрона, – а моего Ваньку забрил. Эх, умирать будем!
– То то умирать будем!
– Я от миру не отказчик, – говорил Дрон.
– То то не отказчик, брюхо отрастил!..
Два длинные мужика говорили свое. Как только Ростов, сопутствуемый Ильиным, Лаврушкой и Алпатычем, подошел к толпе, Карп, заложив пальцы за кушак, слегка улыбаясь, вышел вперед. Дрон, напротив, зашел в задние ряды, и толпа сдвинулась плотнее.
– Эй! кто у вас староста тут? – крикнул Ростов, быстрым шагом подойдя к толпе.
– Староста то? На что вам?.. – спросил Карп. Но не успел он договорить, как шапка слетела с него и голова мотнулась набок от сильного удара.
– Шапки долой, изменники! – крикнул полнокровный голос Ростова. – Где староста? – неистовым голосом кричал он.
– Старосту, старосту кличет… Дрон Захарыч, вас, – послышались кое где торопливо покорные голоса, и шапки стали сниматься с голов.
– Нам бунтовать нельзя, мы порядки блюдем, – проговорил Карп, и несколько голосов сзади в то же мгновенье заговорили вдруг:
– Как старички пороптали, много вас начальства…
– Разговаривать?.. Бунт!.. Разбойники! Изменники! – бессмысленно, не своим голосом завопил Ростов, хватая за юрот Карпа. – Вяжи его, вяжи! – кричал он, хотя некому было вязать его, кроме Лаврушки и Алпатыча.
Лаврушка, однако, подбежал к Карпу и схватил его сзади за руки.
– Прикажете наших из под горы кликнуть? – крикнул он.
Алпатыч обратился к мужикам, вызывая двоих по именам, чтобы вязать Карпа. Мужики покорно вышли из толпы и стали распоясываться.
– Староста где? – кричал Ростов.
Дрон, с нахмуренным и бледным лицом, вышел из толпы.
– Ты староста? Вязать, Лаврушка! – кричал Ростов, как будто и это приказание не могло встретить препятствий. И действительно, еще два мужика стали вязать Дрона, который, как бы помогая им, снял с себя кушан и подал им.
– А вы все слушайте меня, – Ростов обратился к мужикам: – Сейчас марш по домам, и чтобы голоса вашего я не слыхал.
– Что ж, мы никакой обиды не делали. Мы только, значит, по глупости. Только вздор наделали… Я же сказывал, что непорядки, – послышались голоса, упрекавшие друг друга.
– Вот я же вам говорил, – сказал Алпатыч, вступая в свои права. – Нехорошо, ребята!
– Глупость наша, Яков Алпатыч, – отвечали голоса, и толпа тотчас же стала расходиться и рассыпаться по деревне.
Связанных двух мужиков повели на барский двор. Два пьяные мужика шли за ними.
– Эх, посмотрю я на тебя! – говорил один из них, обращаясь к Карпу.
– Разве можно так с господами говорить? Ты думал что?
– Дурак, – подтверждал другой, – право, дурак!
Через два часа подводы стояли на дворе богучаровского дома. Мужики оживленно выносили и укладывали на подводы господские вещи, и Дрон, по желанию княжны Марьи выпущенный из рундука, куда его заперли, стоя на дворе, распоряжался мужиками.
– Ты ее так дурно не клади, – говорил один из мужиков, высокий человек с круглым улыбающимся лицом, принимая из рук горничной шкатулку. – Она ведь тоже денег стоит. Что же ты ее так то вот бросишь или пол веревку – а она потрется. Я так не люблю. А чтоб все честно, по закону было. Вот так то под рогожку, да сенцом прикрой, вот и важно. Любо!
– Ишь книг то, книг, – сказал другой мужик, выносивший библиотечные шкафы князя Андрея. – Ты не цепляй! А грузно, ребята, книги здоровые!
– Да, писали, не гуляли! – значительно подмигнув, сказал высокий круглолицый мужик, указывая на толстые лексиконы, лежавшие сверху.
Ростов, не желая навязывать свое знакомство княжне, не пошел к ней, а остался в деревне, ожидая ее выезда. Дождавшись выезда экипажей княжны Марьи из дома, Ростов сел верхом и до пути, занятого нашими войсками, в двенадцати верстах от Богучарова, верхом провожал ее. В Янкове, на постоялом дворе, он простился с нею почтительно, в первый раз позволив себе поцеловать ее руку.
– Как вам не совестно, – краснея, отвечал он княжне Марье на выражение благодарности за ее спасенье (как она называла его поступок), – каждый становой сделал бы то же. Если бы нам только приходилось воевать с мужиками, мы бы не допустили так далеко неприятеля, – говорил он, стыдясь чего то и стараясь переменить разговор. – Я счастлив только, что имел случай познакомиться с вами. Прощайте, княжна, желаю вам счастия и утешения и желаю встретиться с вами при более счастливых условиях. Ежели вы не хотите заставить краснеть меня, пожалуйста, не благодарите.
Но княжна, если не благодарила более словами, благодарила его всем выражением своего сиявшего благодарностью и нежностью лица. Она не могла верить ему, что ей не за что благодарить его. Напротив, для нее несомненно было то, что ежели бы его не было, то она, наверное, должна была бы погибнуть и от бунтовщиков и от французов; что он, для того чтобы спасти ее, подвергал себя самым очевидным и страшным опасностям; и еще несомненнее было то, что он был человек с высокой и благородной душой, который умел понять ее положение и горе. Его добрые и честные глаза с выступившими на них слезами, в то время как она сама, заплакав, говорила с ним о своей потере, не выходили из ее воображения.
Когда она простилась с ним и осталась одна, княжна Марья вдруг почувствовала в глазах слезы, и тут уж не в первый раз ей представился странный вопрос, любит ли она его?
По дороге дальше к Москве, несмотря на то, что положение княжны было не радостно, Дуняша, ехавшая с ней в карете, не раз замечала, что княжна, высунувшись в окно кареты, чему то радостно и грустно улыбалась.
«Ну что же, ежели бы я и полюбила его? – думала княжна Марья.
Как ни стыдно ей было признаться себе, что она первая полюбила человека, который, может быть, никогда не полюбит ее, она утешала себя мыслью, что никто никогда не узнает этого и что она не будет виновата, ежели будет до конца жизни, никому не говоря о том, любить того, которого она любила в первый и в последний раз.
Иногда она вспоминала его взгляды, его участие, его слова, и ей казалось счастье не невозможным. И тогда то Дуняша замечала, что она, улыбаясь, глядела в окно кареты.
«И надо было ему приехать в Богучарово, и в эту самую минуту! – думала княжна Марья. – И надо было его сестре отказать князю Андрею! – И во всем этом княжна Марья видела волю провиденья.
Впечатление, произведенное на Ростова княжной Марьей, было очень приятное. Когда ои вспоминал про нее, ему становилось весело, и когда товарищи, узнав о бывшем с ним приключении в Богучарове, шутили ему, что он, поехав за сеном, подцепил одну из самых богатых невест в России, Ростов сердился. Он сердился именно потому, что мысль о женитьбе на приятной для него, кроткой княжне Марье с огромным состоянием не раз против его воли приходила ему в голову. Для себя лично Николай не мог желать жены лучше княжны Марьи: женитьба на ней сделала бы счастье графини – его матери, и поправила бы дела его отца; и даже – Николай чувствовал это – сделала бы счастье княжны Марьи. Но Соня? И данное слово? И от этого то Ростов сердился, когда ему шутили о княжне Болконской.
Приняв командование над армиями, Кутузов вспомнил о князе Андрее и послал ему приказание прибыть в главную квартиру.
Князь Андрей приехал в Царево Займище в тот самый день и в то самое время дня, когда Кутузов делал первый смотр войскам. Князь Андрей остановился в деревне у дома священника, у которого стоял экипаж главнокомандующего, и сел на лавочке у ворот, ожидая светлейшего, как все называли теперь Кутузова. На поле за деревней слышны были то звуки полковой музыки, то рев огромного количества голосов, кричавших «ура!новому главнокомандующему. Тут же у ворот, шагах в десяти от князя Андрея, пользуясь отсутствием князя и прекрасной погодой, стояли два денщика, курьер и дворецкий. Черноватый, обросший усами и бакенбардами, маленький гусарский подполковник подъехал к воротам и, взглянув на князя Андрея, спросил: здесь ли стоит светлейший и скоро ли он будет?
Князь Андрей сказал, что он не принадлежит к штабу светлейшего и тоже приезжий. Гусарский подполковник обратился к нарядному денщику, и денщик главнокомандующего сказал ему с той особенной презрительностью, с которой говорят денщики главнокомандующих с офицерами:
– Что, светлейший? Должно быть, сейчас будет. Вам что?
Гусарский подполковник усмехнулся в усы на тон денщика, слез с лошади, отдал ее вестовому и подошел к Болконскому, слегка поклонившись ему. Болконский посторонился на лавке. Гусарский подполковник сел подле него.
– Тоже дожидаетесь главнокомандующего? – заговорил гусарский подполковник. – Говог'ят, всем доступен, слава богу. А то с колбасниками беда! Недаг'ом Ег'молов в немцы пг'осился. Тепег'ь авось и г'усским говог'ить можно будет. А то чег'т знает что делали. Все отступали, все отступали. Вы делали поход? – спросил он.
– Имел удовольствие, – отвечал князь Андрей, – не только участвовать в отступлении, но и потерять в этом отступлении все, что имел дорогого, не говоря об именьях и родном доме… отца, который умер с горя. Я смоленский.
– А?.. Вы князь Болконский? Очень г'ад познакомиться: подполковник Денисов, более известный под именем Васьки, – сказал Денисов, пожимая руку князя Андрея и с особенно добрым вниманием вглядываясь в лицо Болконского. – Да, я слышал, – сказал он с сочувствием и, помолчав немного, продолжал: – Вот и скифская война. Это все хог'ошо, только не для тех, кто своими боками отдувается. А вы – князь Андг'ей Болконский? – Он покачал головой. – Очень г'ад, князь, очень г'ад познакомиться, – прибавил он опять с грустной улыбкой, пожимая ему руку.
Князь Андрей знал Денисова по рассказам Наташи о ее первом женихе. Это воспоминанье и сладко и больно перенесло его теперь к тем болезненным ощущениям, о которых он последнее время давно уже не думал, но которые все таки были в его душе. В последнее время столько других и таких серьезных впечатлений, как оставление Смоленска, его приезд в Лысые Горы, недавнее известно о смерти отца, – столько ощущений было испытано им, что эти воспоминания уже давно не приходили ему и, когда пришли, далеко не подействовали на него с прежней силой. И для Денисова тот ряд воспоминаний, которые вызвало имя Болконского, было далекое, поэтическое прошедшее, когда он, после ужина и пения Наташи, сам не зная как, сделал предложение пятнадцатилетней девочке. Он улыбнулся воспоминаниям того времени и своей любви к Наташе и тотчас же перешел к тому, что страстно и исключительно теперь занимало его. Это был план кампании, который он придумал, служа во время отступления на аванпостах. Он представлял этот план Барклаю де Толли и теперь намерен был представить его Кутузову. План основывался на том, что операционная линия французов слишком растянута и что вместо того, или вместе с тем, чтобы действовать с фронта, загораживая дорогу французам, нужно было действовать на их сообщения. Он начал разъяснять свой план князю Андрею.
– Они не могут удержать всей этой линии. Это невозможно, я отвечаю, что пг'ог'ву их; дайте мне пятьсот человек, я г'азог'ву их, это вег'но! Одна система – паг'тизанская.
Денисов встал и, делая жесты, излагал свой план Болконскому. В средине его изложения крики армии, более нескладные, более распространенные и сливающиеся с музыкой и песнями, послышались на месте смотра. На деревне послышался топот и крики.
– Сам едет, – крикнул казак, стоявший у ворот, – едет! Болконский и Денисов подвинулись к воротам, у которых стояла кучка солдат (почетный караул), и увидали подвигавшегося по улице Кутузова, верхом на невысокой гнедой лошадке. Огромная свита генералов ехала за ним. Барклай ехал почти рядом; толпа офицеров бежала за ними и вокруг них и кричала «ура!».
Вперед его во двор проскакали адъютанты. Кутузов, нетерпеливо подталкивая свою лошадь, плывшую иноходью под его тяжестью, и беспрестанно кивая головой, прикладывал руку к бедой кавалергардской (с красным околышем и без козырька) фуражке, которая была на нем. Подъехав к почетному караулу молодцов гренадеров, большей частью кавалеров, отдававших ему честь, он с минуту молча, внимательно посмотрел на них начальническим упорным взглядом и обернулся к толпе генералов и офицеров, стоявших вокруг него. Лицо его вдруг приняло тонкое выражение; он вздернул плечами с жестом недоумения.
– И с такими молодцами всё отступать и отступать! – сказал он. – Ну, до свиданья, генерал, – прибавил он и тронул лошадь в ворота мимо князя Андрея и Денисова.
– Ура! ура! ура! – кричали сзади его.
С тех пор как не видал его князь Андрей, Кутузов еще потолстел, обрюзг и оплыл жиром. Но знакомые ему белый глаз, и рана, и выражение усталости в его лице и фигуре были те же. Он был одет в мундирный сюртук (плеть на тонком ремне висела через плечо) и в белой кавалергардской фуражке. Он, тяжело расплываясь и раскачиваясь, сидел на своей бодрой лошадке.
– Фю… фю… фю… – засвистал он чуть слышно, въезжая на двор. На лице его выражалась радость успокоения человека, намеревающегося отдохнуть после представительства. Он вынул левую ногу из стремени, повалившись всем телом и поморщившись от усилия, с трудом занес ее на седло, облокотился коленкой, крякнул и спустился на руки к казакам и адъютантам, поддерживавшим его.
Он оправился, оглянулся своими сощуренными глазами и, взглянув на князя Андрея, видимо, не узнав его, зашагал своей ныряющей походкой к крыльцу.
– Фю… фю… фю, – просвистал он и опять оглянулся на князя Андрея. Впечатление лица князя Андрея только после нескольких секунд (как это часто бывает у стариков) связалось с воспоминанием о его личности.
– А, здравствуй, князь, здравствуй, голубчик, пойдем… – устало проговорил он, оглядываясь, и тяжело вошел на скрипящее под его тяжестью крыльцо. Он расстегнулся и сел на лавочку, стоявшую на крыльце.
– Ну, что отец?
– Вчера получил известие о его кончине, – коротко сказал князь Андрей.
Кутузов испуганно открытыми глазами посмотрел на князя Андрея, потом снял фуражку и перекрестился: «Царство ему небесное! Да будет воля божия над всеми нами!Он тяжело, всей грудью вздохнул и помолчал. „Я его любил и уважал и сочувствую тебе всей душой“. Он обнял князя Андрея, прижал его к своей жирной груди и долго не отпускал от себя. Когда он отпустил его, князь Андрей увидал, что расплывшие губы Кутузова дрожали и на глазах были слезы. Он вздохнул и взялся обеими руками за лавку, чтобы встать.
– Пойдем, пойдем ко мне, поговорим, – сказал он; но в это время Денисов, так же мало робевший перед начальством, как и перед неприятелем, несмотря на то, что адъютанты у крыльца сердитым шепотом останавливали его, смело, стуча шпорами по ступенькам, вошел на крыльцо. Кутузов, оставив руки упертыми на лавку, недовольно смотрел на Денисова. Денисов, назвав себя, объявил, что имеет сообщить его светлости дело большой важности для блага отечества. Кутузов усталым взглядом стал смотреть на Денисова и досадливым жестом, приняв руки и сложив их на животе, повторил: «Для блага отечества? Ну что такое? Говори». Денисов покраснел, как девушка (так странно было видеть краску на этом усатом, старом и пьяном лице), и смело начал излагать свой план разрезания операционной линии неприятеля между Смоленском и Вязьмой. Денисов жил в этих краях и знал хорошо местность. План его казался несомненно хорошим, в особенности по той силе убеждения, которая была в его словах. Кутузов смотрел себе на ноги и изредка оглядывался на двор соседней избы, как будто он ждал чего то неприятного оттуда. Из избы, на которую он смотрел, действительно во время речи Денисова показался генерал с портфелем под мышкой.
– Что? – в середине изложения Денисова проговорил Кутузов. – Уже готовы?
– Готов, ваша светлость, – сказал генерал. Кутузов покачал головой, как бы говоря: «Как это все успеть одному человеку», и продолжал слушать Денисова.
– Даю честное благородное слово гусского офицег'а, – говорил Денисов, – что я г'азог'ву сообщения Наполеона.
– Тебе Кирилл Андреевич Денисов, обер интендант, как приходится? – перебил его Кутузов.
– Дядя г'одной, ваша светлость.
– О! приятели были, – весело сказал Кутузов. – Хорошо, хорошо, голубчик, оставайся тут при штабе, завтра поговорим. – Кивнув головой Денисову, он отвернулся и протянул руку к бумагам, которые принес ему Коновницын.
– Не угодно ли вашей светлости пожаловать в комнаты, – недовольным голосом сказал дежурный генерал, – необходимо рассмотреть планы и подписать некоторые бумаги. – Вышедший из двери адъютант доложил, что в квартире все было готово. Но Кутузову, видимо, хотелось войти в комнаты уже свободным. Он поморщился…
– Нет, вели подать, голубчик, сюда столик, я тут посмотрю, – сказал он. – Ты не уходи, – прибавил он, обращаясь к князю Андрею. Князь Андрей остался на крыльце, слушая дежурного генерала.
Во время доклада за входной дверью князь Андрей слышал женское шептанье и хрустение женского шелкового платья. Несколько раз, взглянув по тому направлению, он замечал за дверью, в розовом платье и лиловом шелковом платке на голове, полную, румяную и красивую женщину с блюдом, которая, очевидно, ожидала входа влавввквмандующего. Адъютант Кутузова шепотом объяснил князю Андрею, что это была хозяйка дома, попадья, которая намеревалась подать хлеб соль его светлости. Муж ее встретил светлейшего с крестом в церкви, она дома… «Очень хорошенькая», – прибавил адъютант с улыбкой. Кутузов оглянулся на эти слова. Кутузов слушал доклад дежурного генерала (главным предметом которого была критика позиции при Цареве Займище) так же, как он слушал Денисова, так же, как он слушал семь лет тому назад прения Аустерлицкого военного совета. Он, очевидно, слушал только оттого, что у него были уши, которые, несмотря на то, что в одном из них был морской канат, не могли не слышать; но очевидно было, что ничто из того, что мог сказать ему дежурный генерал, не могло не только удивить или заинтересовать его, но что он знал вперед все, что ему скажут, и слушал все это только потому, что надо прослушать, как надо прослушать поющийся молебен. Все, что говорил Денисов, было дельно и умно. То, что говорил дежурный генерал, было еще дельнее и умнее, но очевидно было, что Кутузов презирал и знание и ум и знал что то другое, что должно было решить дело, – что то другое, независимое от ума и знания. Князь Андрей внимательно следил за выражением лица главнокомандующего, и единственное выражение, которое он мог заметить в нем, было выражение скуки, любопытства к тому, что такое означал женский шепот за дверью, и желание соблюсти приличие. Очевидно было, что Кутузов презирал ум, и знание, и даже патриотическое чувство, которое выказывал Денисов, но презирал не умом, не чувством, не знанием (потому что он и не старался выказывать их), а он презирал их чем то другим. Он презирал их своей старостью, своею опытностью жизни. Одно распоряжение, которое от себя в этот доклад сделал Кутузов, откосилось до мародерства русских войск. Дежурный редерал в конце доклада представил светлейшему к подписи бумагу о взысканий с армейских начальников по прошению помещика за скошенный зеленый овес.
Кутузов зачмокал губами и закачал головой, выслушав это дело.
– В печку… в огонь! И раз навсегда тебе говорю, голубчик, – сказал он, – все эти дела в огонь. Пуская косят хлеба и жгут дрова на здоровье. Я этого не приказываю и не позволяю, но и взыскивать не могу. Без этого нельзя. Дрова рубят – щепки летят. – Он взглянул еще раз на бумагу. – О, аккуратность немецкая! – проговорил он, качая головой.
– Ну, теперь все, – сказал Кутузов, подписывая последнюю бумагу, и, тяжело поднявшись и расправляя складки своей белой пухлой шеи, с повеселевшим лицом направился к двери.
Попадья, с бросившеюся кровью в лицо, схватилась за блюдо, которое, несмотря на то, что она так долго приготовлялась, она все таки не успела подать вовремя. И с низким поклоном она поднесла его Кутузову.
Глаза Кутузова прищурились; он улыбнулся, взял рукой ее за подбородок и сказал:
– И красавица какая! Спасибо, голубушка!
Он достал из кармана шаровар несколько золотых и положил ей на блюдо.
– Ну что, как живешь? – сказал Кутузов, направляясь к отведенной для него комнате. Попадья, улыбаясь ямочками на румяном лице, прошла за ним в горницу. Адъютант вышел к князю Андрею на крыльцо и приглашал его завтракать; через полчаса князя Андрея позвали опять к Кутузову. Кутузов лежал на кресле в том же расстегнутом сюртуке. Он держал в руке французскую книгу и при входе князя Андрея, заложив ее ножом, свернул. Это был «Les chevaliers du Cygne», сочинение madame de Genlis [«Рыцари Лебедя», мадам де Жанлис], как увидал князь Андрей по обертке.
– Ну садись, садись тут, поговорим, – сказал Кутузов. – Грустно, очень грустно. Но помни, дружок, что я тебе отец, другой отец… – Князь Андрей рассказал Кутузову все, что он знал о кончине своего отца, и о том, что он видел в Лысых Горах, проезжая через них.
– До чего… до чего довели! – проговорил вдруг Кутузов взволнованным голосом, очевидно, ясно представив себе, из рассказа князя Андрея, положение, в котором находилась Россия. – Дай срок, дай срок, – прибавил он с злобным выражением лица и, очевидно, не желая продолжать этого волновавшего его разговора, сказал: – Я тебя вызвал, чтоб оставить при себе.
– Благодарю вашу светлость, – отвечал князь Андрей, – но я боюсь, что не гожусь больше для штабов, – сказал он с улыбкой, которую Кутузов заметил. Кутузов вопросительно посмотрел на него. – А главное, – прибавил князь Андрей, – я привык к полку, полюбил офицеров, и люди меня, кажется, полюбили. Мне бы жалко было оставить полк. Ежели я отказываюсь от чести быть при вас, то поверьте…
Умное, доброе и вместе с тем тонко насмешливое выражение светилось на пухлом лице Кутузова. Он перебил Болконского:
– Жалею, ты бы мне нужен был; но ты прав, ты прав. Нам не сюда люди нужны. Советчиков всегда много, а людей нет. Не такие бы полки были, если бы все советчики служили там в полках, как ты. Я тебя с Аустерлица помню… Помню, помню, с знаменем помню, – сказал Кутузов, и радостная краска бросилась в лицо князя Андрея при этом воспоминании. Кутузов притянул его за руку, подставляя ему щеку, и опять князь Андрей на глазах старика увидал слезы. Хотя князь Андрей и знал, что Кутузов был слаб на слезы и что он теперь особенно ласкает его и жалеет вследствие желания выказать сочувствие к его потере, но князю Андрею и радостно и лестно было это воспоминание об Аустерлице.
– Иди с богом своей дорогой. Я знаю, твоя дорога – это дорога чести. – Он помолчал. – Я жалел о тебе в Букареште: мне послать надо было. – И, переменив разговор, Кутузов начал говорить о турецкой войне и заключенном мире. – Да, немало упрекали меня, – сказал Кутузов, – и за войну и за мир… а все пришло вовремя. Tout vient a point a celui qui sait attendre. [Все приходит вовремя для того, кто умеет ждать.] A и там советчиков не меньше было, чем здесь… – продолжал он, возвращаясь к советчикам, которые, видимо, занимали его. – Ох, советчики, советчики! – сказал он. Если бы всех слушать, мы бы там, в Турции, и мира не заключили, да и войны бы не кончили. Всё поскорее, а скорое на долгое выходит. Если бы Каменский не умер, он бы пропал. Он с тридцатью тысячами штурмовал крепости. Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. А для этого не нужно штурмовать и атаковать, а нужно терпение и время. Каменский на Рущук солдат послал, а я их одних (терпение и время) посылал и взял больше крепостей, чем Каменский, и лошадиное мясо турок есть заставил. – Он покачал головой. – И французы тоже будут! Верь моему слову, – воодушевляясь, проговорил Кутузов, ударяя себя в грудь, – будут у меня лошадиное мясо есть! – И опять глаза его залоснились слезами.
– Однако до лжно же будет принять сражение? – сказал князь Андрей.
– До лжно будет, если все этого захотят, нечего делать… А ведь, голубчик: нет сильнее тех двух воинов, терпение и время; те всё сделают, да советчики n'entendent pas de cette oreille, voila le mal. [этим ухом не слышат, – вот что плохо.] Одни хотят, другие не хотят. Что ж делать? – спросил он, видимо, ожидая ответа. – Да, что ты велишь делать? – повторил он, и глаза его блестели глубоким, умным выражением. – Я тебе скажу, что делать, – проговорил он, так как князь Андрей все таки не отвечал. – Я тебе скажу, что делать и что я делаю. Dans le doute, mon cher, – он помолчал, – abstiens toi, [В сомнении, мой милый, воздерживайся.] – выговорил он с расстановкой.
– Ну, прощай, дружок; помни, что я всей душой несу с тобой твою потерю и что я тебе не светлейший, не князь и не главнокомандующий, а я тебе отец. Ежели что нужно, прямо ко мне. Прощай, голубчик. – Он опять обнял и поцеловал его. И еще князь Андрей не успел выйти в дверь, как Кутузов успокоительно вздохнул и взялся опять за неконченный роман мадам Жанлис «Les chevaliers du Cygne».
Как и отчего это случилось, князь Андрей не мог бы никак объяснить; но после этого свидания с Кутузовым он вернулся к своему полку успокоенный насчет общего хода дела и насчет того, кому оно вверено было. Чем больше он видел отсутствие всего личного в этом старике, в котором оставались как будто одни привычки страстей и вместо ума (группирующего события и делающего выводы) одна способность спокойного созерцания хода событий, тем более он был спокоен за то, что все будет так, как должно быть. «У него не будет ничего своего. Он ничего не придумает, ничего не предпримет, – думал князь Андрей, – но он все выслушает, все запомнит, все поставит на свое место, ничему полезному не помешает и ничего вредного не позволит. Он понимает, что есть что то сильнее и значительнее его воли, – это неизбежный ход событий, и он умеет видеть их, умеет понимать их значение и, ввиду этого значения, умеет отрекаться от участия в этих событиях, от своей личной волн, направленной на другое. А главное, – думал князь Андрей, – почему веришь ему, – это то, что он русский, несмотря на роман Жанлис и французские поговорки; это то, что голос его задрожал, когда он сказал: „До чего довели!“, и что он захлипал, говоря о том, что он „заставит их есть лошадиное мясо“. На этом же чувстве, которое более или менее смутно испытывали все, и основано было то единомыслие и общее одобрение, которое сопутствовало народному, противному придворным соображениям, избранию Кутузова в главнокомандующие.
После отъезда государя из Москвы московская жизнь потекла прежним, обычным порядком, и течение этой жизни было так обычно, что трудно было вспомнить о бывших днях патриотического восторга и увлечения, и трудно было верить, что действительно Россия в опасности и что члены Английского клуба суть вместе с тем и сыны отечества, готовые для него на всякую жертву. Одно, что напоминало о бывшем во время пребывания государя в Москве общем восторженно патриотическом настроении, было требование пожертвований людьми и деньгами, которые, как скоро они были сделаны, облеклись в законную, официальную форму и казались неизбежны.
С приближением неприятеля к Москве взгляд москвичей на свое положение не только не делался серьезнее, но, напротив, еще легкомысленнее, как это всегда бывает с людьми, которые видят приближающуюся большую опасность. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека: один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самое свойство опасности и средства для избавления от нее; другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого, до тех пор пока оно не наступило, и думать о приятном. В одиночестве человек большею частью отдается первому голосу, в обществе, напротив, – второму. Так было и теперь с жителями Москвы. Давно так не веселились в Москве, как этот год.
Растопчинские афишки с изображением вверху питейного дома, целовальника и московского мещанина Карпушки Чигирина, который, быв в ратниках и выпив лишний крючок на тычке, услыхал, будто Бонапарт хочет идти на Москву, рассердился, разругал скверными словами всех французов, вышел из питейного дома и заговорил под орлом собравшемуся народу, читались и обсуживались наравне с последним буриме Василия Львовича Пушкина.
В клубе, в угловой комнате, собирались читать эти афиши, и некоторым нравилось, как Карпушка подтрунивал над французами, говоря, что они от капусты раздуются, от каши перелопаются, от щей задохнутся, что они все карлики и что их троих одна баба вилами закинет. Некоторые не одобряли этого тона и говорила, что это пошло и глупо. Рассказывали о том, что французов и даже всех иностранцев Растопчин выслал из Москвы, что между ними шпионы и агенты Наполеона; но рассказывали это преимущественно для того, чтобы при этом случае передать остроумные слова, сказанные Растопчиным при их отправлении. Иностранцев отправляли на барке в Нижний, и Растопчин сказал им: «Rentrez en vous meme, entrez dans la barque et n'en faites pas une barque ne Charon». [войдите сами в себя и в эту лодку и постарайтесь, чтобы эта лодка не сделалась для вас лодкой Харона.] Рассказывали, что уже выслали из Москвы все присутственные места, и тут же прибавляли шутку Шиншина, что за это одно Москва должна быть благодарна Наполеону. Рассказывали, что Мамонову его полк будет стоить восемьсот тысяч, что Безухов еще больше затратил на своих ратников, но что лучше всего в поступке Безухова то, что он сам оденется в мундир и поедет верхом перед полком и ничего не будет брать за места с тех, которые будут смотреть на него.
– Вы никому не делаете милости, – сказала Жюли Друбецкая, собирая и прижимая кучку нащипанной корпии тонкими пальцами, покрытыми кольцами.
Жюли собиралась на другой день уезжать из Москвы и делала прощальный вечер.
– Безухов est ridicule [смешон], но он так добр, так мил. Что за удовольствие быть так caustique [злоязычным]?
– Штраф! – сказал молодой человек в ополченском мундире, которого Жюли называла «mon chevalier» [мой рыцарь] и который с нею вместе ехал в Нижний.
В обществе Жюли, как и во многих обществах Москвы, было положено говорить только по русски, и те, которые ошибались, говоря французские слова, платили штраф в пользу комитета пожертвований.
– Другой штраф за галлицизм, – сказал русский писатель, бывший в гостиной. – «Удовольствие быть не по русски.
– Вы никому не делаете милости, – продолжала Жюли к ополченцу, не обращая внимания на замечание сочинителя. – За caustique виновата, – сказала она, – и плачу, но за удовольствие сказать вам правду я готова еще заплатить; за галлицизмы не отвечаю, – обратилась она к сочинителю: – у меня нет ни денег, ни времени, как у князя Голицына, взять учителя и учиться по русски. А вот и он, – сказала Жюли. – Quand on… [Когда.] Нет, нет, – обратилась она к ополченцу, – не поймаете. Когда говорят про солнце – видят его лучи, – сказала хозяйка, любезно улыбаясь Пьеру. – Мы только говорили о вас, – с свойственной светским женщинам свободой лжи сказала Жюли. – Мы говорили, что ваш полк, верно, будет лучше мамоновского.
– Ах, не говорите мне про мой полк, – отвечал Пьер, целуя руку хозяйке и садясь подле нее. – Он мне так надоел!
– Вы ведь, верно, сами будете командовать им? – сказала Жюли, хитро и насмешливо переглянувшись с ополченцем.
Ополченец в присутствии Пьера был уже не так caustique, и в лице его выразилось недоуменье к тому, что означала улыбка Жюли. Несмотря на свою рассеянность и добродушие, личность Пьера прекращала тотчас же всякие попытки на насмешку в его присутствии.
– Нет, – смеясь, отвечал Пьер, оглядывая свое большое, толстое тело. – В меня слишком легко попасть французам, да и я боюсь, что не влезу на лошадь…
В числе перебираемых лиц для предмета разговора общество Жюли попало на Ростовых.
– Очень, говорят, плохи дела их, – сказала Жюли. – И он так бестолков – сам граф. Разумовские хотели купить его дом и подмосковную, и все это тянется. Он дорожится.
– Нет, кажется, на днях состоится продажа, – сказал кто то. – Хотя теперь и безумно покупать что нибудь в Москве.
– Отчего? – сказала Жюли. – Неужели вы думаете, что есть опасность для Москвы?
– Отчего же вы едете?
– Я? Вот странно. Я еду, потому… ну потому, что все едут, и потом я не Иоанна д'Арк и не амазонка.
– Ну, да, да, дайте мне еще тряпочек.
– Ежели он сумеет повести дела, он может заплатить все долги, – продолжал ополченец про Ростова.
– Добрый старик, но очень pauvre sire [плох]. И зачем они живут тут так долго? Они давно хотели ехать в деревню. Натали, кажется, здорова теперь? – хитро улыбаясь, спросила Жюли у Пьера.
– Они ждут меньшого сына, – сказал Пьер. – Он поступил в казаки Оболенского и поехал в Белую Церковь. Там формируется полк. А теперь они перевели его в мой полк и ждут каждый день. Граф давно хотел ехать, но графиня ни за что не согласна выехать из Москвы, пока не приедет сын.
– Я их третьего дня видела у Архаровых. Натали опять похорошела и повеселела. Она пела один романс. Как все легко проходит у некоторых людей!
– Что проходит? – недовольно спросил Пьер. Жюли улыбнулась.
– Вы знаете, граф, что такие рыцари, как вы, бывают только в романах madame Suza.
– Какой рыцарь? Отчего? – краснея, спросил Пьер.
– Ну, полноте, милый граф, c'est la fable de tout Moscou. Je vous admire, ma parole d'honneur. [это вся Москва знает. Право, я вам удивляюсь.]
– Штраф! Штраф! – сказал ополченец.
– Ну, хорошо. Нельзя говорить, как скучно!
– Qu'est ce qui est la fable de tout Moscou? [Что знает вся Москва?] – вставая, сказал сердито Пьер.
– Полноте, граф. Вы знаете!
– Ничего не знаю, – сказал Пьер.
– Я знаю, что вы дружны были с Натали, и потому… Нет, я всегда дружнее с Верой. Cette chere Vera! [Эта милая Вера!]
– Non, madame, [Нет, сударыня.] – продолжал Пьер недовольным тоном. – Я вовсе не взял на себя роль рыцаря Ростовой, и я уже почти месяц не был у них. Но я не понимаю жестокость…
– Qui s'excuse – s'accuse, [Кто извиняется, тот обвиняет себя.] – улыбаясь и махая корпией, говорила Жюли и, чтобы за ней осталось последнее слово, сейчас же переменила разговор. – Каково, я нынче узнала: бедная Мари Волконская приехала вчера в Москву. Вы слышали, она потеряла отца?
– Неужели! Где она? Я бы очень желал увидать ее, – сказал Пьер.
– Я вчера провела с ней вечер. Она нынче или завтра утром едет в подмосковную с племянником.
– Ну что она, как? – сказал Пьер.
– Ничего, грустна. Но знаете, кто ее спас? Это целый роман. Nicolas Ростов. Ее окружили, хотели убить, ранили ее людей. Он бросился и спас ее…
– Еще роман, – сказал ополченец. – Решительно это общее бегство сделано, чтобы все старые невесты шли замуж. Catiche – одна, княжна Болконская – другая.
– Вы знаете, что я в самом деле думаю, что она un petit peu amoureuse du jeune homme. [немножечко влюблена в молодого человека.]
– Штраф! Штраф! Штраф!
– Но как же это по русски сказать?..
Когда Пьер вернулся домой, ему подали две принесенные в этот день афиши Растопчина.
В первой говорилось о том, что слух, будто графом Растопчиным запрещен выезд из Москвы, – несправедлив и что, напротив, граф Растопчин рад, что из Москвы уезжают барыни и купеческие жены. «Меньше страху, меньше новостей, – говорилось в афише, – но я жизнью отвечаю, что злодей в Москве не будет». Эти слова в первый раз ясно ыоказали Пьеру, что французы будут в Москве. Во второй афише говорилось, что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгснштейн победил французов, но что так как многие жители желают вооружиться, то для них есть приготовленное в арсенале оружие: сабли, пистолеты, ружья, которые жители могут получать по дешевой цене. Тон афиш был уже не такой шутливый, как в прежних чигиринских разговорах. Пьер задумался над этими афишами. Очевидно, та страшная грозовая туча, которую он призывал всеми силами своей души и которая вместе с тем возбуждала в нем невольный ужас, – очевидно, туча эта приближалась.
«Поступить в военную службу и ехать в армию или дожидаться? – в сотый раз задавал себе Пьер этот вопрос. Он взял колоду карт, лежавших у него на столе, и стал делать пасьянс.
– Ежели выйдет этот пасьянс, – говорил он сам себе, смешав колоду, держа ее в руке и глядя вверх, – ежели выйдет, то значит… что значит?.. – Он не успел решить, что значит, как за дверью кабинета послышался голос старшей княжны, спрашивающей, можно ли войти.
– Тогда будет значить, что я должен ехать в армию, – договорил себе Пьер. – Войдите, войдите, – прибавил он, обращаясь к княжие.
(Одна старшая княжна, с длинной талией и окаменелым лидом, продолжала жить в доме Пьера; две меньшие вышли замуж.)
– Простите, mon cousin, что я пришла к вам, – сказала она укоризненно взволнованным голосом. – Ведь надо наконец на что нибудь решиться! Что ж это будет такое? Все выехали из Москвы, и народ бунтует. Что ж мы остаемся?
– Напротив, все, кажется, благополучно, ma cousine, – сказал Пьер с тою привычкой шутливости, которую Пьер, всегда конфузно переносивший свою роль благодетеля перед княжною, усвоил себе в отношении к ней.
– Да, это благополучно… хорошо благополучие! Мне нынче Варвара Ивановна порассказала, как войска наши отличаются. Уж точно можно чести приписать. Да и народ совсем взбунтовался, слушать перестают; девка моя и та грубить стала. Этак скоро и нас бить станут. По улицам ходить нельзя. А главное, нынче завтра французы будут, что ж нам ждать! Я об одном прошу, mon cousin, – сказала княжна, – прикажите свезти меня в Петербург: какая я ни есть, а я под бонапартовской властью жить не могу.