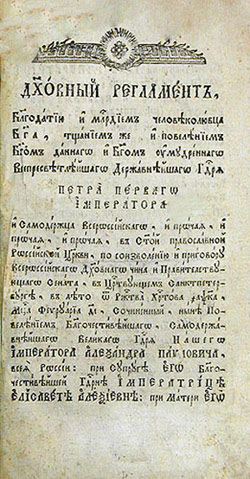Цензура в Российской империи
Цензу́ра в Росси́йской импе́рии — контроль государственных органов Российской империи над содержанием и распространением информации, в том числе печатной продукции (книг, газет и журналов), музыкальных, сценических произведений, произведений изобразительного искусства и раннего кинематографа. Цензура в различное время проводилась разными инстанциями: так, вплоть до середины XVIII века её осуществляли непосредственно императоры России, до конца века — Синод, Сенат и Академия наук, начиная с XIX века — Министерство народного просвещения и его преемник в делах цензуры — Министерство внутренних дел.
История цензуры в Российской империи берёт начало задолго до самого появления империи и датируется второй половиной XI века (Киевской Русью) — первая древнерусская книга, включившая индекс запрещённых изданий, датирована 1073 годом; на протяжении нескольких столетий все подобные списки на Руси являлись переводными, аутентичный древнерусский индекс был создан только в XIV веке; вплоть до начала XVI века количество индексов (равно как и запрещённых изданий) постоянно увеличивалось[1]. В Русском царстве цензура впервые получила некоторого рода «официальный статус» — будучи документально утверждённой в принятом «Стоглаве», она была направлена на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом[2].
Существенные изменения наступили уже во время существования империи — в ходе реформ Петра I, положивших начало разделению цензуры на «духовную» и «светскую»[3]; окончательное разделение полномочий и установление ответственных организаций пришлось на время правления императрицы Елизаветы Петровны. Этот же период примечателен появлением первых частных журналов, что в значительной мере способствовало развитию журналистики в Российской империи[4]. Далее, на период реформ Екатерины II, приходится одно из важнейших событий в истории Российской империи — учреждение института цензуры и введение профессии цензора. Правление Павла I, продолжившего дело своей предшественницы, вошло в историю как время расширения областей, подвергаемых государственному контролю[5]; при Александре I же, наоборот, цензура была ослаблена[2][6]. Со второй половины XIX века (начиная с Александра III) свобода печати значительно сократилась; это время вошло в историю журналистики как эпоха большого количества репрессий в отношении издателей[7].
В сфере цензуры были заняты многие классики русской литературы, в то же время фигура цензора представлялась ими гротескной и регулярно становилась мишенью для сатиры. Имперской цензуре наследовала советская, перенявшая многие её черты и сохранившаяся до 1990 года.
Содержание
- 1 Исторические предпосылки
- 2 Реформы Петра I
- 3 Реформы Елизаветы Петровны
- 4 Реформы Екатерины II
- 5 Реформы Павла I
- 6 Становление цензурного аппарата
- 7 Цензура при А. И. Красовском и С. С. Уварове
- 8 «Эпоха цензурного террора» и Комитет 1848 года
- 9 Цензура во второй половине XIX века
- 10 Революция 1905 года
- 11 Цензура во время Первой мировой войны
- 12 Становление советской цензуры
- 13 Деятели культуры о цензуре
- 14 Цензура по типам
- 15 Итоги и выводы
- 16 Использованные источники
- 17 Литература
- 18 Ссылки
Исторические предпосылки
Киевская Русь — Великое княжество Московское
«Герой романа В. В. Набокова „Дар“, alter ego автора, поэт Фёдор Годунов-Чердынцев размышляет: „В России цензурное ведомство возникло раньше литературы; всегда чувствовалось его роковое старшинство: так и подмывало по нему щёлкнуть“.
Этот парадокс находит неожиданное подтверждение в одном древнерусском источнике. И действительно: если считать, что первый русский литературный памятник — „Слово о полку Игореве“ — появился в конце XII в., то за сто лет до него вышел первый в России список запрещённых к чтению книг»[8].— А. В. Блюм, «Русские писатели о цензуре и цензорах»
На территории Российской империи цензура появилась задолго до первых законов или предписаний, официально регламентирующих её характер и полномочия — и, что немаловажно, задолго до самого появления империи как таковой. Так, в частности, ко времени существования Киевской Руси относится первый древнерусский список, включивший перечень отречённых книг, «Изборник 1073 года» (переписанный с болгарского оригинала, предположительно созданного по инициативе царя Симеона I), который был, по мнению ряда историков, составлен по заказу великого князя Изяслава Ярославича и позже переадресован князю Святославу Ярославичу[1]. «Ответы Анастасия Синаита», основную часть «Изборника», следующим образом характеризует О. В. Творогов: «…обширный свод выписок из библейских книг и сочинений авторитетнейших византийских богословов и проповедников: Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Нисского, Максима Исповедника, Кирилла Александрийского и др. Статьи содержат материал по различным вопросам догматического богословия, христианской нравственности и мироведения»[9].
«Изборник», включивший древнейший список отречённой литературы на Руси, впрочем, не отражал реалии своего времени; так, Н. А. Кобяк отмечает, что из 23 перечисленных апокрифических сочинений в старославянской и древнерусской литературе в переводах и адаптациях было известно только около девяти. Второй переводной работой, содержавшей индекс запрещённых книг, стал «Тактикон» монаха Никона Черногорца. Историк Д. М. Буланин пишет: «В Древней Руси компиляции Никона Черногорца пользовались исключительной популярностью — в редком сборнике, в редком оригинальном средневековом сочинении нет выписок из „Пандектов“ или „Тактикона“. Статьи из Никона Черногорца были довольно рано включены в славянский устав. Особенно популярны компиляции Никона Черногорца становятся в конце XV—XVI вв.; у писателей этого времени (Иосиф Волоцкий, Вассиан Патрикеев, Максим Грек, Зиновий Отенский и др.) постоянно встречаются ссылки на Никона Черногорца или выписки из его сочинений»[10].
Первым истинно славянским списком запрещённых книг учёные называют индекс, размещённый в «Погодинском Номоканоне», датированном XIV веком — он впервые включил произведения славянского автора, болгарского священника Еремии: его компилятивную «Повесть о красном древе» и некоторые другие работы. Индекс включал тексты религиозного содержания, в том числе популярные позднее у «жидовствующих» — «Шестокрыл», «Логику» и «Космографию». Вплоть до начала XVI века количество индексов запрещённых книг регулярно увеличивалось, сами же списки пополнялись новыми произведениями, признаваемыми «ложными и отреченными», однако сдержать массивный наплыв литературы из Византии и южнославянских стран они не могли; Кобяк заключает: «Расширение списков отреченных книг имело ту же цель, что и характерные для конца XV века поучения Иосифа Волоцкого против „неполезных повестей“ и Нила Сорского против „небожественных“ писаний. Но так же как эти поучения, списки далеко не полностью достигали своей цели[1]».
Русское царство
«Официальная» история цензуры в отношении книгоиздателей, отмечает Г. В. Жирков, началась в Русском царстве (в середине XVI века), когда в целях укрепления положения Церкви в борьбе с еретическими движениями был созван Стоглавый собор[11]. Принятый собором сборник решений «Стоглав», состоящий, по сути, из вопросов царя и подробных ответов служителей церкви на них, а также соответствующих постановлений[12], содержал раздел «О книжных писцах», дававший духовным властям право конфисковать неисправленные рукописи. Таким образом, замечает Жирков, в стране вводилась предварительная цензура всех изданий перед продажей. Помимо прочего, собор предлагал провести ревизию уже имевшихся в обращении книг, что, считал историк, можно назвать «последующей цензурой».
Принятый в 1551 году «Стоглав» стал первым цензурным документом на Руси. Его появление было реакцией на развитие древнерусской книжности и появление большего числа новых литературных памятников, содержание которых не всегда одобрялось церковью и государством. В период с 1551 по 1560 год было издано до 12 грамот и актов, устанавливающих новые меры и правила в соответствии со «Стоглавом»[13]. Цензурная деятельность церкви, регламентируемая принятым документом, была ориентирована в основном на борьбу с отступлениями от церковных догматов и священных текстов, ересью и расколом. Множество «отступников» бежало за границу — в частности, в Литву; туда же, опасаясь преследований со стороны осифлянской верхушки церкви, отправились Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец[14]. Одной из весомых причин, побудивших издателей к бегству за границу, послужил протест части священников — переписчиков, которые с изобретением печатного станка остались без дела (печатать книги было быстрее и экономически целесообразнее). Фёдоров и Мстиславец были обвинены в ереси. После пожара в типографии, произошедшего в 1566 году, издатели окончательно решили покинуть Москву. «Зависть и ненависть нас от земли и отечества и от рода нашего изгнали и в иные страны, неведомые доселе», — написал позже И. Фёдоров[15].
В XVII веке неоднократно вводились запреты на использование книг, созданных на территории современных Украины и Белоруссии. К примеру, в 1626 году по рекомендации киевского митрополита Иова Борецкого в Москве был издан «Катехизис» Лаврентия Зизания. Многие представители российского духовенства посчитали, что в «Катехизисе» есть еретические утверждения; в феврале 1627 года в Книжной палате московского Печатного двора прошёл диспут между Зизанием и русскими справщиками. По завершении дискуссии тираж «Катехизиса» был уничтожен; последовавший за этим запрет на ввоз в Россию книг «литовской печати» и указ об изъятии таких книг из русских церквей датирован 1628 годом[16]. После реформ патриарха Никона массово изымались книги, изданные по благословению его предшественников на патриаршем престоле, а также старообрядческие сочинения. Цензура распространялась и на иконопись — в октябре 1667 года был подготовлен указ, запрещающий неискусным иконописцам писать иконы; запрещалось также принимать неосвидетельствованные иконы в лавках и торговых рядах[17].
Цензуре подверглось и «лубочное» творчество — гравированные на липовых досках и раскрашенные от руки рисунки, изображавшие по преимуществу религиозные сюжеты[18], вызывали негодование церковнослужителей. Патриарх Иоаким строжайше запретил их распространение (после 1674 года), конфискованные лубочные картинки сжигали[5]. В 1679 году царь Фёдор III Алексеевич указал создать «Верхнюю» (дворцовую) типографию. Она предназначалась для издания трудов Симеона Полоцкого, учившего детей царя Алексея Михайловича. Типография создавалась для того, чтобы обойти церковную цензуру для царского любимца. Руководил государевой типографией Сильвестр (Медведев). В 1683 году патриарху Иоакиму удалось добиться закрытия неподконтрольной ему типографии, а после свержения царевны Софьи книгохранитель московского печатного двора Сильвестр (Медведев) был казнён. Ещё до приведения в исполнение смертного приговора его сочинения были запрещены Собором 1690 года в Москве и преданы сожжению[19]. В октябре 1689 года в Москве по обвинению в ереси живьём сожжены в срубе немецкий мистик Квирин Кульман и его последователь Конрад Нордерман, надеявшиеся убедить российские власти построить «евангельское царство», которое распространилось бы из Москвы на весь мир. Вместе с еретиками сжигались изъятые в ходе следствия еретические сочинения[20].
Реформы Петра I
Подавляющее большинство современных историков сходятся во мнении, что в истории цензуры важную роль суждено было сыграть светскому книгопечатанию, начало которого в России датировано 1700-м годом, когда Пётр I дал своему другу, амстердамскому купцу Янну Тессингу, монопольное право в течение пятнадцати лет печатать книги для России — ввозить и продавать их. Тогда же были установлены штрафы за торговлю печатной продукцией иных иностранных типографий и введено требование, согласно которому книги должны были печататься «к славе великого государя», а «понижения нашего царского величества <…> и государства нашего<…> в тех чертежах и книгах не было»[21].
Единственным цензором всё это время был сам царь, а вся книгопечатная отрасль находилась в руках государства; Рейфман писал: «В лице Петра сосредоточено всё издательское дело страны; он сам редактор, переводчик, издатель, заказчик. Сам он и отбирает, и контролирует печатную продукцию. Мимо него не проходит ни одна печатная строка»[21]. Законодательные изменения, касающиеся цензуры, были проведены Петром в рамках церковной реформы — царь впервые ввёл ограничения полномочий церкви в области книжной цензуры. В соответствии с решением самодержца монахам были запрещены сами инструменты для письма:«Монахи в кельях никаких писем писати власти не имеют, чернил и бумаги в кельях имети да не будут, но в трапезе определенное место для писания будет — и то с позволения начальнаго»[3].— царь Пётр I Великий, из указа 1701 года
Через четыре года в Санкт-Петербурге и Москве были открыты первые гражданские — в противовес церковным — типографии. В 1718 году царь приказал Феофану Прокоповичу разработать план преобразования церковного управления по образцу гражданских коллегий. Спустя два года текст регламента был представлен Петру. Царь внёс в него некоторые изменения, и после обсуждения в Сенате документ был единогласно принят без каких-либо поправок[22]. Согласно принятому решению уже год спустя, в 1721-м, был организован специальный цензурный орган, подконтрольный церкви, — Духовный коллегиум, на первом же заседании переименованный в Святейший Синод[23]. В коллегиум входили десять человек, из которых только трое были архиереями, а остальные семеро — людьми светскими. Духовный регламент, по которому действовал коллегиум, описывал эту организацию так: «Коллегиум — правительское под державным монархом есть и от монарха установлено».
В этом же году впервые была введена предварительная цензура и соответствующий орган, за её осуществление ответственный — Изуграфская палата; она была учреждена Петром в качестве меры противодействия торговле «листами разных изображений самовольно и без свидетельства» на Спасском мосту. «Под страхом жестокого ответа и беспощадного штрафирования» печать гравированных лубочных листов и парсун была запрещена; уже к 1723 году данное постановление стало относиться и к «неисправным» царским портретам. Параллельно с этим, пишет Блюм, была осуществлена попытка введения аналогичной обязательной цензуры для книг — относилась она, уточняет исследователь, исключительно к изданиям, не канонизированным церковью богословским сочинениям[24].
Кроме того, Пётр положил конец монополии церкви в вопросах печатного дела. В 1708 году он начал принимать меры по введению гражданского алфавита, первые эскизы к которому сделал сам. Были также приглашены иностранные гравёры, чтобы обеспечить должное качество иллюстрирования выпускаемых книг. Были построены бумажные фабрики и новые типографии[4].
Во время петровского правления в России появилась первая печатная газета («Ведомости» с 1702 по 1728) — и, соответственно, первая цензура в периодике; Пётр лично контролировал её издание, и многие публикации могли увидеть свет только с санкции царя[4]. Несмотря на то, что цензура приобрела «светский» характер, церковь оставалась органом, ограничивавшим распространение «неугодной литературы»: так, в 1743 году Священный синод Русской православной церкви запретил ввоз из-за границы книг, напечатанных на русском языке, а также перевод иностранных книг[5]. Под надзор церкви также попали «вольные типографии» в Киеве и Чернигове, занимавшиеся в основном выпуском богословской литературы[3].
Реформы Елизаветы Петровны
Весёлая царица
Была Елисавет:
Поёт и веселится,
Порядка только нет
Окончательное разделение цензурных функций было утверждено императрицей Елизаветой Петровной, постановившей, чтобы «все печатные книги в России, принадлежащие до церкви и церковного учения, печатались с апробацией Святейшего Синода, а гражданские и прочие всякие, до церкви не принадлежащие, с апробацией Правительствующего Сената». При этом, отмечает Жирков, цензура при императрице носила несколько «неупорядоченный» характер[4]; правление Елизаветы было примечательно тем, что императрица стремилась уничтожить все следы предыдущего кратковременного царствования своей свергнутой предшественницы, Анны Леопольдовны[21]. Так, указом от 27 октября 1742 года Елизавета постановила сдать «для надлежащаго в титулах переправления» все книги, напечатанные в период с 17 октября 1740 по 25 ноября 1741[26].
18 сентября 1748 года Синод постановил: «…и буде где у кого найдутся с помянутым известным титулом какие печатные церковные книги, оные собрать… и вынув из них только следующие для исправления одни листы, отослать в типографии, где что печатано, как поскорее без всякого задержания и медления»[26]. Контроль был установлен и за ввозом литературы из-за границы; издания на иностранных языках, продаваемые на территории империи, необходимо было предоставлять на проверку — на предмет упоминания всё тех же нежелательных лиц.
В это же время был усилен контроль церкви над лубочными картинками. Синод запретил требники и требовал контроля за их изданием; цензурные нововведения распространились и на иконопись. Указ от 10 мая 1744 года гласил: «…в деревенских крестьянских избах иконы закопчены, грязны, на них часто не видно ликов; это может привести к насмешкам заходящих в избы иноземных путешественников». Новые правила обязали церковнослужителей следить за чистотой икон и контролировать в этом селян. При этом, однако, положение науки изменилось в лучшую сторону — увеличился объём издания книг, появились новые академики; произошло отделение Университета от Академии. Печать (через контроль над типографиями) была полностью сконцентрирована в руках правительства, но чёткого цензурного законодательства всё ещё не существовало[5].
Реформы Екатерины II
Следующие важные изменения были предприняты при царствовании Екатерины II Великой; значимым событием для русской культуры и, в особенности, журналистики стал указ от 1 марта 1771 года, разрешивший на территории Российской империи печатать книги иностранным подданным (правда, на их родном языке, чтобы не подрывать отечественную экономику). Через пять лет иностранцам было разрешено выпускать и русскоязычную литературу, но под пристальным присмотром Синода и Академии наук. Следующим знаменательным событием для прессы стал закон о вольных типографиях (15 (26) января 1783 года [27]), приравнявший производство книг к промышленности и давший возможность частным лицам открывать своё дело[4]. Разумеется, печатать было возможно исключительно книги «непредосудительные Православной церкви, правительству, добронравию»[5].
При общем либеральном характере реформ Екатерины II, императрица, однако, обязала Императорскую Академию наук и художеств ужесточить надзор за ввозимыми в страну книгами; многие неугодные издания изымались из продажи и частных коллекций. Указ от 15 (26) января 1783 года[27] содержал такое положение: «В случае самовольного напечатывания таковых соблазнительных книг [противных законам Божиим и гражданским, или же к явным соблазнам клонящихся], не только книги конфисковать, но и о виновных в подобном самовольном издании недозволенных книг сообщать, куда надлежит, дабы оные за преступление законно наказаны были». Таким образом, констатирует Жирков, усиливалась роль полиции в цензуре, её полицейская функция[4]. Блюм же, комментируя указ 1783 года, называет его не иначе как положившим начало частному книгоиздательскому делу в России; также исследователь замечает, что весьма неосмотрительно данное нововведение возложило предварительную цензуру изданий на полицейские учреждения. Последние, «несмыслённые урядники благочиния» (цитата из книги «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева), к новым обязанностям относились халатно и зачастую, возможно, не имели даже должного образования для выполнения цензурных функций[28].
Параллельно с этим была намечена поддержка иностранных мыслителей, в частности, Вольтера и Дидро, всячески поощрялся ввоз в страну литературы просветительского толка[5]. Одновременно, однако, ввозимая в страну литература попала под более пристальное, нежели ранее, внимание. В сентябре 1763 года императрица напомнила, что «в Академии наук продают такие книги, которые против закона, доброго нрава, нас самих и российской нации, которые во всем свете запрещены, как например: „Эмиль“ Руссо, Мемории Петра III <…> и много других подобных», и приказала «наикрепчайшим образом Академии наук иметь смотрение, дабы в её книжной лавке такие непорядки не происходили, а прочим книгопродавцам приказать ежегодно реестры посылать в Академию наук и университет Московский, какие книги они намерены выписывать, а оным местам вычеркивать в тех реестрах такие книги, которые против закона, доброго нрава и нас. Если же будет обнаружено, что такие книги все-таки продаются в лавке, то она будет конфискована и продана в пользу сиропитательного дома[29]». Определённым новаторством императрицы, считает Жирков, была попытка издавать печатный орган, который бы руководил общественным мнением и направлял его, — таким изданием был журнал «Всякая всячина», который должен был затрагивать темы достоинств русского правительства и не концентрировать внимание читателей на имеющихся проблемах[4].
Учреждение цензуры и профессии цензора
Взволнованная произошедшей во Франции революцией и опасаясь её пагубного влияния на империю[2], Екатерина II приняла решение об учреждении института цензуры и, соответственно, введении профессии цензора. Имеющий неоспоримую для истории России значимость указ был принят 16 (27) сентября 1796 года; документ гласил: «Никакие книги, сочиняемые или переводимые в государстве нашем, не могут быть издаваемы, в какой бы то ни было типографии без осмотра от одной из цензур, учреждаемых в столицах наших, и одобрения, что в таковых сочинениях или переводах ничего Закону Божию, правилам государственным и благонравию противного не находится»[4]. Этим же указом фактически запрещалась деятельность всех частных типографий, а предполагаемые к печати издания надлежало представлять на рассмотрение как духовным, так и светским цензорам[30]. Кроме того, в 1797 году были введены специальные должности цензоров еврейских книг — им было необходимо досконально изучать произведения на иврите и идише, исключая из них места, которые можно было счесть нападками на христианство. Цензоры несли персональную ответственность за одобренные книги[31]. «Подобная практика найма евреев для цензуры изданий на еврейском языке сохранялась в областях со значительным еврейским населением вплоть до 1917 года», — пишет Тэкс Чолдин[32].
Указ императрицы возымел своеобразное действие: закрыты были только три частные, но при этом крупные типографии в Москве и Петербурге, что привело к плачевным для обеих столиц последствиям — три видных издателя (М. П. Пономарёв, И. Я. Сытин, С. Селивановский) перевели свои предприятия в область, где и продолжили дело. С подписанием указа 1796 года книгопечатание переместилось из главных городов империи в Ярославль, Калугу, Тамбов, Тобольск, Курск, Воронеж, Смоленск и Владимир. Положение издателей было осложнено сначала предварительной цензурой, а с сентября — ещё и централизованной (то есть новые книги просматривали исключительно в двух комитетах — Петербургском и Московском). Эти ужесточения привели к тому, что к концу первого десятилетия XIX века издательская деятельность в провинциях практически прекратилась[33]. Наблюдалось общее ухудшение отношения к ввозимым из-за границы изданиям (включая книги, журналы и любую периодику) — ничто не могло быть доставлено на территорию империи без процедуры прохождения надлежащей цензурной проверки[34].
Реформы Павла I
Император Павел I продолжил дело Екатерины, развивая и поддерживая её начинания в области цензуры, причём областей, подвергаемых государственному контролю, стало значительно больше[5]. Так, до начала XIX века им был организован Цензурный совет (с князем А. Б. Куракиным во главе). В последние годы уходящего века, приводит статистику Жирков, в стране было конфисковано 639 томов книг, из которых только на Рижской таможне — 552 тома. В немилость попали Гёте, Шиллер, Кант, Свифт и другие выдающиеся авторы.
Для цензурной политики Павла I было также характерно усиление контроля над ввозимыми в страну книгами; цензура была введена во всех имперских портах, спустя непродолжительное время упразднена и сохранена только в Кронштадтском, Ревельском, Выборгском, Фридрихсгамском и Архангельском портах — в остальные ввоз литературы был и вовсе запрещён. Дополнительному контролю подвергали издания, ввозимые через сухопутную границу[35]. Цензурная реформа Павла I логически увенчалась указом от 18 апреля 1800 года, строжайше запретившим ввоз в страну любой литературы на любом языке.
Подводя итог цензурной политике Павла I, исследователь истории цензуры П. С. Рейфман писал: «…в период царствования Павла выходит много указов о цензуре, в основном запрещений, ограничений, пресечений, часто самодурных, но имеющих чётко осознанную направленность: отгородить Россию от проникновения „пагубных“ идей революционной Европы, в первую очередь Франции. Все указы, постановления выдержаны в духе распоряжений Екатерины в последние годы её правления. Но и дальнейшее „усовершенствование“ её цензурной политики: создание системы, аппарата, особого учреждения, своеобразной машины, продуманной до деталей. Закладываются основы, вырабатываются правила, определяется устройство дальнейшего существования цензуры. И всем этим занимается, видимо, в значительной степени, лично Павел, придавая цензурным проблемам большое значение, уделяя им много внимания и времени[5]».
Становление цензурного аппарата

«Всѣ три книги одобрены
Ученымъ Комитетомъ
Министерства Народнаго
Просвѣщенiя для библiотекъ среднихъ
учебныхъ заведенiй, а первыя двѣ
допущены также въ безплатныя
народныя читальни и библiотеки»
Усилия Павла I в деле развития и упорядочения цензуры наиболее результативно продолжил его наследник, Александр I. Одним из первых постановлений императора по этой части стало снятие запрета на ввоз иностранной литературы в страну, возвращение вольным типографиям законного статуса[36]. На эпоху правления Александра I, в частности, пришёлся либеральный «первый цензурный устав» от 9 июля 1804 года; в нём значилось: «…цензура обязана рассматривать все книги и сочинения, предназначенные к распространению в обществе», — то есть, фактически, без разрешения контролирующего органа что-либо издать было невозможно[6]. При кажущейся строгости цензуры, однако, стоит отдельно отметить, что с поставленными задачами она справлялась достаточно плохо — Тэкс Чолдин пишет: «…значительное число „вредных“ иностранных сочинений проникало в страну вопреки всем усилиям правительства этого не допустить»[37]. Также исследователь отмечает, что базой для устава стал принятый в это же время датский цензурный закон, хотя многие его части и не были задействованы. Ключевое различие двух документов заключалось в следующем: датский закон ориентировался в большей степени на карательную, чем на предварительную цензуру, а ситуация же в России разворачивалась таким образом, что полностью отказаться от предварительной цензуры было попросту невозможно. Таким образом, заключает Чолдин, «к ужасу образованных людей, они [российские цензоры] применяли и то, и другое»[38].
В документе сохранялась главенствующая роль министерства просвещения, церковные книги продолжали оставаться в ведомстве Синода, цензура для иностранных изданий была отдана почтамтам. Перед органами, осуществлявшими цензурные постановления, ставилась, помимо прочего, задача по воспитанию: «…удалять книги, противные нравственности, но и доставлять обществу книги, „способствующие истинному просвещению ума и образованию нравов“». Либеральный характер нового устава определялся также требованием толкования «двусмысленных мест» в пользу автора сочинения. При этом, отмечает Рейфман, постановления устава совершенно не соблюдались: «…на деле цензоры сразу сделались орудием партий и веяний, господствующих в высших сферах». Полиция продолжала вмешиваться в дела цензуры, на периодические издания часто оказывалось давление, появление новых журналов и газет было затруднено[36]. Добиться результата, заявленного в уставе, не удалось, и в рамках цензурной реформы в 1826 году был принят новый устав. Основные положения его гласили:
- цель учреждения цензуры состоит в том, чтобы произведениям словесности, наук и искусства при издании их в свет посредством книгопечатания, гравирования и литографии дать полезное или, по крайней мере, безвредное для блага отечества направление;
- цензура должна контролировать три сферы общественно-политической и культурной жизни общества:
- право и внутреннюю безопасность;
- направление общественного мнения согласно с настоящими обстоятельствами и видами правительства;
- науку и воспитание юношества;
- традиционно цензура вверялась Министерству народного просвещения, а руководило всею её деятельностью Главное управление цензуры. «В помощь ему и для высшего руководства цензоров» утверждался Верховный цензурный комитет, состоявший в соответствии с тремя направлениями цензуры из министров народного просвещения, внутренних и иностранных дел;
- правителем дел Верховного цензурного комитета состоит директор Канцелярии министра народного просвещения. Ежегодно он составляет наставления цензорам, «долженствующие содержать в себе особые указания и руководства для точнейшего исполнения некоторых статей устава, смотря по обстоятельствам времени»;
- в стране создавались Главный цензурный комитет в Петербурге, местные цензурные комитеты — в Москве, Дерпте и Вильно. Главный цензурный комитет подчинялся непосредственно министру, остальные — попечителям учебных округов;
- право на цензуру, кроме того, оставалось за духовным ведомством, академией и университетами, некоторыми административными, центральными и местными учреждениями, что закладывало простор для субъективизма цензуры[39].
Рейфман считает, что этот цензурный устав был «самым благоприятным для литературы из всех существовавших в России указов о цензуре», ибо он отменял предупредительную цензуру и изымал её из ведения полиции[36]. Одновременно с этим, всё же, восемью главами устава, регламентирующими деятельность цензуры, запрещались места в сочинениях и переводах, «имеющие двоякий смысл, ежели один из них противен цензурным правилам» — то есть цензор получил право по-своему улавливать заднюю мысль автора, видеть то, чего нет в произведении, которое он рассматривает; «всякое историческое сочинение, в котором посягатели на законную власть, приявшие справедливое по делам наказание, представляются как жертвы общественного блага, заслужившие лучшую участь»; рассуждения, обнаруживающие неприятное расположение к монархическому правлению; медицинские сочинения, ведущие «к ослаблению в умах людей неопытных достоверности священнейших для человека истин, таковых, как духовность души, внутреннюю его свободу и высшее определение в будущей жизни»[39].
В эпоху Александра I основная роль в организации цензурных мероприятий была передана университетам; специальные комитеты были созданы при Московском, Дерптском, Виленском, Казанском, Харьковском университетах. Цензорами становились непосредственно деканы[35]. Был утверждён устав церковной цензуры, согласно которому основные цензурные функции возлагались на Святейший Синод. Под руководством Амвросия (Протасова) был создан комитет, занимавшийся цензурой проповедей, в Казани, а затем и в других городах империи. Жирков отмечает, что с годами увеличилось число регулярно вносимых в устав поправок и дополнений, что в конечном итоге привело к значительному расширению круга ведомств и учреждений, имевших право цензурирования, — что, по мнению историка, вело к произволу цензоров[39].
Цензура при А. И. Красовском и С. С. Уварове
В 1826 году в должность цензора Главного цензурного комитета занял А. И. Красовский, уже к 1832 году ставший председателем Комитета иностранной цензуры[40]. При нём были произведены структурные изменения в цензурных органах; так, был учреждён Верховный цензурный комитет, состоявший из трёх членов — министров народного просвещения, иностранных и внутренних дел[41]. Отличавшегося редкой некомпетентностью и служебным рвением Красовского критиковали именитые современники — А. С. Пушкин, Н. И. Греч, И. С. Аксаков и многие другие.
Многолетнее пребывание у власти Красовского, продвигавшегося по карьерной лестнице семимильными шагами, привело к расцвету бюрократии в цензурных ведомствах и огромным завалам в работе цензоров — с тем неимоверным количеством материалов, которые отвергались с его подачи, сотрудники цензурных учреждений попросту не могли справиться. Завалы в работе долго не могли расчистить даже после смерти Красовского в 1857 году[42]. Блюм, в свою очередь, отмечал, что Александр Иванович за годы службы буквально стал фольклорным героем, «символом цензурного идиотизма»[43]; исключительно в негативном контексте его имя встречается в переписке и записках П. А. Вяземского, видного литературного критика и поэта[44]. Тэкс Чолдин характеризовала его в качестве «идеального бюрократа в правительстве Николая I»[45]. Жирков приводит наглядный пример цензурной работы Красовского[42]:
| Улыбку уст твоих небесную ловить... | Слишком сильно сказано: женщина не достойна того, чтобы улыбку её называть небесною. |
| Что в мнении людей? Один твой нежный взгляд дороже для меня вниманья всей вселенной. | Сильно сказано; к тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить нужно... |
Крайне нелестную характеристику Красовскому давал его коллега А. И. Рыжов: «Водотолочное усердие, принизительное смирение, угодливость пред высшими, рассчитанное ханжество — все это служило ему ходулями в продолжении всей его деятельности по комитету цензуры иностранной»[45]. Сильным гонениям подвергались книги иностранных авторов, в особенности французских, которых Красовский ненавидел — будучи совершенно неосведомлённым по части зарубежной литературы и текущих событий в Европе (читал он исключительно «Северную пчелу»), Александр Иванович был уверен, что иностранная литература в высшей степени вредна[46]. Граф С. С. Уваров, занимавший на тот момент пост президента Академии наук, говорил о цензоре: «Красовский у меня, как цепная собака, за которою я сплю спокойно». В 1824 году на короткое время министром просвещения был назначен адмирал А. С. Шишков, придерживавшийся консервативных взглядов. Непродолжительное промежуток работы Шишкова на этом посту отмечен новым цензурным уставом, принятым в 1826-м году и вошедшим в историю под названием «чугунный устав» — даже «Отче наш», по словам C. Глинки, можно было истолковать якобинским наречием, сославшись на этот устав.
Давление шишковского устава всячески старались смягчить сотрудники цензурного комитета С. Т. Аксаков, С. Н. Глинка и В. В. Измайлов; методика заключалась в приёме «совещательной» цензуры — целью был совместный поиск ими ресурсов поддержки литературы, что отвечало обоюдным интересам и цензоров, и авторов. Плоды такой тактики, в первую очередь, вкусили московские журналисты — в городе для них была создана весьма благоприятная атмосфера, открылись шесть новых изданий[47].
Граф Уваров в начале 1830-х годов вступил в должность Министра народного просвещения. Основным направлением цензурной политики с подачи Уварова стали журналистика и периодическая печать, однако и о романистике граф не забывал. В частности, под пристальным вниманием цензоров вновь оказалась французская литература, чрезвычайно популярная среди интеллигенции XIX века[48].
Уваров настаивал на более строгом подходе к французским писателям по сравнению с литераторами других стран, на пристальном внимании к «их нравственному содержанию», «господствующему духа и намерениям авторов», призывал не одобрять к переводу те из новейших французских романов, которые «производят вредное впечатление на читателей». Жирков отмечает: «С. С. Уваров в первую очередь стал строго преследовать „политические и социальные тенденции как в журналах, так и в отдельных произведениях литературы, оригинальной и переводной“. При его активном участии был запрещён ряд ведущих журналов тех лет, в том числе „Московский телеграф“ и „Телескоп“[48]».
«Эпоха цензурного террора» и Комитет 1848 года
О ты, кто принял имя Слова!
Мы просим твоего покрова:
Избави нас от похвалы
Позорной «Северной пчелы»
И от цензуры Гончарова.
Новый цензурный устав, гораздо «мягче» шишковского, был принят 22 апреля 1828 года. Цензурная практика была переориентирована на недопущение вредных книг, вместо разрешения полезных. Новый устав не содержал указаний для литераторов, не задавал направление общественной мысли, его главная задача заключалась в запрете продажи и распространения книг, «вредящих вере, престолу, добрым нравам, личной чести граждан»[50].
Согласно уставу 1828 года, особая роль в деле цензуры отводилась книготорговцам. Так, они были обязаны предоставлять реестры всех изданий, имевшихся в продаже, — торговать без особого разрешения запрещалось. Специальный «Комитет иностранной цензуры» занимался рассмотрением книг на иностранном языке и регулировал их ввоз в страну, равно как и дальнейшее распространение. Помимо этого, на торговцев зарубежной литературой оказывалось экономическое давление: книги облагались специальной пошлиной[51].
Период с 1848 по 1855 год в современной историографии, по М. К. Лемке, именуется не иначе как «эпохой цензурного террора» (Тэкс Чолдин использует термин «деспотия цензуры»[52]). События, развернувшиеся в конце 1840-х годов в Европе (революции во Франции, Венгрии, Италии и Чехии), привели к ужесточению цензурной политики в Российской империи. Министерство народного просвещения получило распоряжение от Николая I: «Необходимо составить комитет, чтобы рассмотреть, правильно ли действует цензура, и издаваемые журналы соблюдают ли данные каждому программы. Комитету донести мне с доказательствами, где найдёт какие упущения цензуры и её начальства, то есть Министерства народного просвещения, и которые журналы и в чём вышли из своей программы»[53].
Цензурное ведомство империи претерпело ряд трансформаций. В частности, 19 июля 1850 года было утверждено мнение Государственного совета о преимуществах цензоров; документ включал три основных положения. Первое гласило, что цензорами могли быть назначены «только чиновники, получившие образование в высших учебных заведениях или иными способами приобретшие основные сведения в науках». Согласно второму, цензоры должны быть «при том достаточно ознакомлены с историческим развитием и современным движением отечественной или иностранной словесности, смотря по назначению каждого». В последнем значилось, что цензоры «во время занятий сей должности не должны вместе с нею нести никаких других обязанностей»[53].
Правительство было заинтересовано в укреплении цензурного аппарата и повышении его авторитета, в прекращении нескончаемых распрей между авторами и рецензентами. С повышением оплаты труда цензоров и наметившимся курсом на учёт интересов авторов наряду с интересами государства качество цензуры значительно возросло. Так, ряды цензоров пополнили Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, Я. П. Полонский и некоторые другие известные литераторы своего времени[53]. Тэкс Чолдин пишет, что с приходом Тютчева на пост председателя Комитета иностранной цензуры последний претерпел кардинальные изменения, вступив в фазу нового развития. Объединение вокруг Фёдора Ивановича поэтов-цензоров, считает учёный, «превратило канцелярское заведение в литературный салон»[54].
Комитет, сформированный 2 апреля 1848 года для осуществления особо пристального контроля над издаваемыми на территории Российской империи произведениями и помощи Министерству внутренних дел по вопросам наказания «нерадивых» авторов, ужесточил цензуру в стране. Министром народного просвещения стал князь П. А. Ширинский-Шихматов, предлагавший «поощрять чтение книг не гражданской, а церковной печати», ибо первые чаще представляют собой бесполезное чтение, вторые же укрепляют простолюдина верою, способствуют «перенесению всякого рода лишений»[55]. Князь, в частности, утвердил, что:
«Бдительный надзор за духом и направлением выходящих в свет книг, в особенности же повременных изданий, составляет в настоящее время одну из важнейших обязанностей вверенного мне Министерства. Из этого следует, что все издаваемые у нас газеты и журналы надлежит внимательно прочитывать тотчас по появлении их в печати, делать нужные по содержанию их замечания и доводить до моего сведения немедленно о всяком отступлении от цензурных правил, дабы я мог тогда же употреблять нужные меры строгости и предупреждать подобные упущения на будущее время»[55].— П. А. Ширинский-Шихматов, из постановления от 15 апреля 1850 года
Целью кадровой политики цензурного аппарата стало замещение цензоров-литераторов цензорами-чиновниками. Сама процедура запрещения того или иного произведения была размыта; так, большое количество произведений не было допущено к печати по указам ведомств, вообще не имеющих отношения к цензуре[47].
Цензура во второй половине XIX века
Какой я, Машенька, поэт?
Я нечто вроде певчей птицы.
Поэта мир — весь божий свет:
А русской музе тракту нет,
Везде заставы и границы.
И птице волю дал творец
Свободно петь на каждой ветке;
Я ж, верноподданный певец,
Свищу, как твой ручной скворец,
Народный гимн в цензурной клетке.
Вступивший 25 декабря 1861 года на пост министра народного просвещения А. В. Головнин внёс очередные существенные изменения в цензурный устав Российской империи. В рамках структурной реорганизации Министерству внутренних дел был вверен контроль за печатью и деятельностью цензоров, ведомственная пресса издавалась под ответственностью министров и губернаторов, канцелярия Главного управления цензуры упразднялась, уступая свои функции Особенной канцелярии министра народного просвещения. Всеми остальными вопросами цензуры занималось Министерство народного просвещения — в частности, главным объектом его деятельности становилась литература, о «развитии, покровительстве и преуспеянии» которой и до́лжно было заботиться.
В значительной мере была усилена ответственность цензоров; сам режим, отмечает Жирков, стал намного жёстче[57]. В отличие от своих предшественников Головнин всецело поддерживал периодику, тиражи и перечень наименований которой стремительно росли. Выпуск «изящной» литературы и беллетристики, напротив, был сокращён — по наущению Головнина издатели сосредоточились на том, «что имело реальное значение»[58].
Одновременно с репрессивными мерами в отношении издателей применялось «нравственное влияние» на общественное мнение, через сотрудничество с либерально ориентированными литераторами. Н. Г. Патрушева отмечает: «С целью ослабить оппозиционность прессы и в дальнейшем заставить её проводить взгляды правительства, предполагалось учредить официальные издания, в задачи которых входило разъяснение обществу правительственной политики; создать сеть официозов, то есть частных изданий, существовавших на государственные субсидии и проводящих правительственные взгляды; имелась в виду поддержка консервативной печати и всех изданий, согласных сотрудничать с властями». К концу 1862 году был введён смешанный тип цензуры — предварительно-карательная цензура; так, от предварительной цензуры в столичных городах были освобождены издания объёмом более двадцати печатных листов, а также правительственные и научные издания на всей территории империи. Ответственность возлагалась на издателей[59].
Взаимоотношения власти и журналистики всё более обострялись, и Валуевым было предложено решение, вошедшее в историю под названием «Временные правила о цензуре и печати» от 6 апреля 1865 года. Суть реформы заключалась в переходе от предварительной цензуры к системе предупреждений и запрещений, налагаемых после выхода изданий из печати. Главное Управление по делам печати было подчинено министру внутренних дел и являлось руководящим органом в деле надзора за печатью и в карательной политике цензурного ведомства[60].
Принятые положения довольно точно повторяли действующее французское законодательство. Во Франции данная система была принята в 1852 году, после совершения Наполеоном III государственного переворота, превратившего его из выборного президента в императора; система отражала стремление Наполеона ужесточить политический режим и эффективно ограничить свободу прессы при политической невозможности введения предварительной цензуры; изобретателем данной системы, действовавшей во Франции до 1881 года, был видный сподвижник Наполеона Эжен Руэр. Новый российский закон освобождал от предварительной цензуры
- в обеих столицах:
1. все выходящие доныне в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание
2. все оригинальные сочинения объёмом не менее 10-ти печатных листов и
3. все переводы, объёмом не менее 20-ти печатных листов
- повсеместно:
1. все издания правительственные
2. все издания академий, университетов и ученых обществ и установлений
3. все издания на древних классических языках и переводы с сих языков
4. чертежи, планы и карты[61]— из «Временных правил о цензуре и печати» от 6 апреля 1865 года
Издания, освобождённые от предварительной цензуры, также подлежали цензурному контролю. Газеты следовало сдавать в цензуру в гранках, до печати основного тиража, журналы — за 2 дня, книги — за 3 дня до начала распространения (в 1872 году срок был увеличен до 4 и 7 дней). За это время цензоры должны были просмотреть издание и либо разрешить его распространение, либо запретить его, задержать тираж и приступить к судебному преследованию виновных.
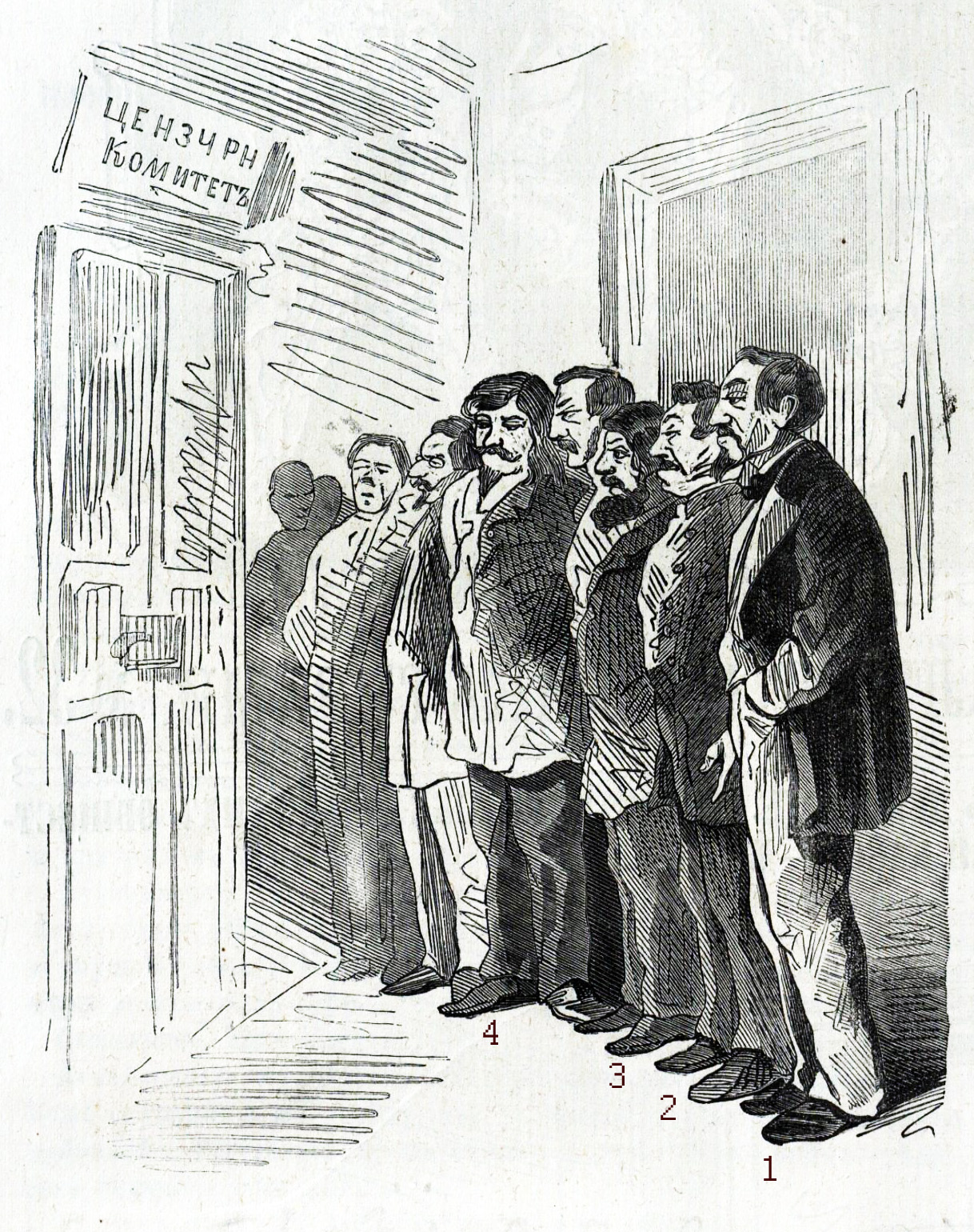 Для суда над нарушителями цензурных правил создавались Особые присутствия при Уголовных палатах в Москве и Санкт-Петербурге. Наиболее тяжкие нарушения (оскорбительные отзывы о законах и правительственных распоряжениях, призывы, направленные на возбуждение вражды между различными слоями населения или сословиями) карались тюремным заключением сроком до 16 месяцев, арестом на срок до 4 месяцев или штрафом в размере до 500 рублей. За оспаривание или порицание основ собственности или семейного союза полагался арест на срок до 6 недель или штраф в размере до 300 рублей. За оглашение сведений, вредящих доброму имени, чести и достоинству отдельных лиц или учреждений, наказание составляло до 16 месяцев тюремного заключения или до 500 рублей штрафа. Злословие и брань наказывались тюремным заключением до 6 месяцев, арестом до 3 недель или штрафом до 300 рублей. Обсуждение законов, не содержащее призывов к неповиновению им или оскорбительных выражений, не считалось преступлением. При выявлении перечисленных нарушений закона суд мог не только наказать виновных, но и приостановить издание на любой срок или совсем запретить его. Редакторы и издатели в случае вынесения обвинительного заключения дисквалифицировались на 5 лет.
Для суда над нарушителями цензурных правил создавались Особые присутствия при Уголовных палатах в Москве и Санкт-Петербурге. Наиболее тяжкие нарушения (оскорбительные отзывы о законах и правительственных распоряжениях, призывы, направленные на возбуждение вражды между различными слоями населения или сословиями) карались тюремным заключением сроком до 16 месяцев, арестом на срок до 4 месяцев или штрафом в размере до 500 рублей. За оспаривание или порицание основ собственности или семейного союза полагался арест на срок до 6 недель или штраф в размере до 300 рублей. За оглашение сведений, вредящих доброму имени, чести и достоинству отдельных лиц или учреждений, наказание составляло до 16 месяцев тюремного заключения или до 500 рублей штрафа. Злословие и брань наказывались тюремным заключением до 6 месяцев, арестом до 3 недель или штрафом до 300 рублей. Обсуждение законов, не содержащее призывов к неповиновению им или оскорбительных выражений, не считалось преступлением. При выявлении перечисленных нарушений закона суд мог не только наказать виновных, но и приостановить издание на любой срок или совсем запретить его. Редакторы и издатели в случае вынесения обвинительного заключения дисквалифицировались на 5 лет.
Кроме наказаний за преступные деяния, налагаемых в судебном порядке, предусматривались и административные взыскания в отношении периодических изданий. Министр внутренних дел мог выносить изданиям предупреждения, если усматривал в них «вредное направление»; предупреждения следовало выносить с указанием конкретных статей и поводов для замечаний. После трёх замечаний издание могло быть приостановлено на срок до 6 месяцев, а по решению Сената — запрещено полностью. Административные предупреждения и запрещения в некотором смысле представляли собой более суровое наказание, чем судебный приговор, — министр мог накладывать их произвольно, без указания на нарушение определённых статей закона, а издания при этом были лишены права на апелляцию и юридическую защиту.
В целом отмена предварительной цензуры сделала контроль над прессой в определённом отношении более жёстким. Ранее, в эпоху предварительной цензуры, издатели могли совершенно безопасно, не подвергаясь риску каких-либо наказаний, согласовать спорные тексты или даже переписать отдельные места непосредственно в момент обсуждения их с цензором. Теперь же издатели не имели официальной возможности предварительно консультироваться с цензурой, за допущенные ошибки их ожидал в лучшем случае крупный штраф, а журналам также приходилось терпеть убытки из-за потери тиража и неудовольствия читателей, вызванного задержками выхода издания. По мнению М. Е. Салтыкова-Щедрина, предварительная цензура была сопоставима с «намордником, который надевают на пса: хочется укусить, но невозможно. Положение же литературы при цензуре карательной сопоставлялось с медведями, которых водят цыгане по ярмаркам: теоретически укусить можно, но зубы у медведя подпилены, в носу кольцо, за которое готов в любую минуту дёрнуть вожак, к тому же он больно бьёт палкой по лапам»[62].
В 1890 г. цензура не пропустила в печать декларацию против антисемитизма, написанную В. Соловьёвым и подписанную рядом писателей и учёных. Она была напечатана за границей[63].
Практика же в отношении книгоиздателей оказалась не такой жёсткой — постепенно издательства наладили неофициальные связи с цензурой и согласовывали рукописи, а не готовые тиражи, исправляя указанные цензорами места, что защищало от финансовых потерь и, по сути, представляло собой неформальное возвращение к предварительной цензуре. В последующие 40 лет цензурные правила всё более и более ужесточались. С 1868 года министр внутренних дел получил право запрещать розничную продажу периодических изданий; для многих газет такое наказание было равнозначно разорению. С 1872 года Комитет министров получил право уничтожать тиражи книг без возбуждения судебного преследования; негласное разбирательство в Комитете министров оказалось более удобным для чиновников, чем открытое и формальное судопроизводство, так что с введением данной меры судебное преследование издателей и авторов книг практически прекратилось, сменившись уничтожением тиражей. С 1873 года управление по делам печати начало рассылать редакторам периодических изданий списки тем и событий, оглашение и обсуждение которых правительство полагает нежелательным, нарушение этих рекомендаций влекло за собой санкции. С 1882 года запрещать издания мог не только Сенат, но и совещание министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Синода. С 1897 года стало невозможным передавать разрешённое издание от одного издателя к другому без согласования с властями[64].
Известные запрещённые книги
За время становления цензурного аппарата в Российской империи репрессиям подверглось множество произведений, современными учёными относимых к классике. Так, эротическая поэма Пушкина «Гавриилиада», написанная в 1821 году, в основе сюжета которой лежало евангельское событие, Благовещение Пресвятой Богородицы, дополненное из произведений, не вошедших в библейский канон (апокрифов), встретило множество трудностей[65]. Произведение высмеивало эпизоды из Евангелия и Священного Писания и по своей направленности противопоставлялось как самой религии, так и ханжеской морали.
В письме графу Петру Александровичу Толстому от 29 июня 1828 года статс-секретарь Николай Назарьевич Муравьёв говорил, что крепостные отставного штабс-капитана В. Ф. Митькова «принесли к Высокопреосвященному Серафиму прошение, что господин их развращает их в понятиях православной, ими исповедуемой христианской веры, прочитывая им из книги его рукописи некое развратное сочинение под заглавием „Гавриилиада“, и представили Высокопреосвященному митрополиту и ту самую книгу»[66]. В 1829 году началось запущенное Митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Серафимом Глаголевским судебное разбирательство по делу «Гавриилиады»; Пушкин пытался отречься от произведения и упорно утверждал, что не является её автором[67]. В подлинном авторстве поэмы же, однако, не приходится, по мнению В. Я. Брюсова, даже сомневаться. В читательской среде поэма стала окружена «ореолом дурной славы»[66]. Доводам Пушкина, однако, император Николай I поверил и судебное дело прекратил; печатать поэму в Российской империи, однако, было запрещено[68].
Чтобы публикация сказки в стихах Петра Ершова «Конёк-Горбунок» стала возможной, в её оригинальный текст было внесено множество изменений[69]. Впервые произведение было напечатано в журнале «Библиотека для чтения» в 1834 году в видоизменённом варианте; отдельной книгой сказку было разрешено выпустить в этом же году, аналогично — со множеством исправлений по соображениям цензуры. Попытки выпустить «Конька-горбунка» без купюр встречали отпор рецензирующих органов. Дело дошло до того, что после третьего издания сказки в 1843 году её не переиздавали до 1856 года[70].
Поэма Михаила Юрьевича Лермонтова «Демон», датированная 1829—1839 годами и основанная на библейском мифе о падшем ангеле, восставшем против Бога, аналогичным образом попала под пристальный взор царских цензоров. При жизни писателя поэма неоднократно переделывалась в соответствии с требованиями цензуры. Одни из первых правок подобного рода были сделаны, чтобы представить текст рукописи членам царского семейства. Окончательное решение по «Демону» было принято 10 марта 1839 года, когда было получено официальное цензорское разрешение; впрочем, в этот год произведение так и не было напечатано[71].
В 1849 году царской цензурой был сформирован принцип, в соответствии с которым в публикуемых книгах не должно было быть «не только никакого неблагоприятного, но даже и неосторожного прикосновения к православной церкви и установлениям её, к правительству и ко всем поставленным от него властям и законам»[72]. В соответствии с этим затруднялась, в частности, публикация «Конька-горбунка».
Революция 1905 года
Свободное слово, великое слово.
В плену у насилья, у коршуна злого,
К скале пригвождённый титан Прометей, —
Ты рвёшься на волю из цепких когтей.
Но цепь распадётся — ты смело воспрянешь
И — сильное правдой, любовью, добром, —
С зарёю над миром победно ты грянешь,
Как божий ликующий гром!
К началу XX века в России наблюдалось лавинообразное увеличение числа выпускаемых периодических изданий. Это же время ознаменовалось становлением провинциальной печати, доля которой на рынке периодики стремительно росла. К началу революции в стране выходило более трёх тысяч журналов и газет, около тысячи из которых имели политическую направленность[74].
Революция, начавшаяся в империи в 1905 году, породила неразбериху в сфере цензуры. Попытки «замалчивания» происходящего провалились, контроль над прессой был утерян. 25 мая Николай II писал министру внутренних дел Булыгину: «Печать за последнее время ведёт себя всё хуже и хуже. В столичных газетах появляются статьи, равноценные прокламациям с осуждением действий высшего Правительства». Царь советовал министру давать директивы печати, «воздействовать на редакторов, напомнив некоторым из них верноподданнический долг, а другим и те получаемые ими от Правительства крупные денежные поддержки, которыми они с такой неблагодарностью пользуются»[7].
Процесс освобождения периодики от цензуры попыталось остановить правительство, 17 октября 1905 года обнародовав манифест, согласно которому всем поданным империи «даровались незыблемые свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, союзов». Издателей, однако, подобные меры не удовлетворили — руководители наиболее авторитетных журналов и газет призывали коллег вовсе отмести все требования цензуры и печататься без оглядки на неё[74]. Уже 24 ноября были введены новые, «временные правила». На волне кажущейся вседозволенности стало появляться множество газет и журналов, прельщённых «свободой слова», но уже в конце месяца Министерство внутренних дел начало репрессии в отношении журналистов, последовали многочисленные аресты и судебные разбирательства над издателями[7].
Император Николай II неоднократно пытался через Главное управление по делам печати прекратить поток оскорблений, нападок, скандальных сплетен и слухов, изливаемый прессой на Григория Распутина. Однако законных оснований не находилось — закон никак не препятствовал критиковать недостойные действия частных лиц. В результате все пожелания царя остались невыполненными[75].
Более трёхсот изданий были закрыты, деятельность ещё большего числа — приостановлена. Главной мишенью стала, конечно, периодика — на экстренном заседании судебной палаты (2 декабря 1905-го) были поддержаны действия цензуры, что в короткие сроки практически уничтожило всю оппозиционную прессу столицы; Союз в защиту свободы печати аналогичным образом был упразднён. При этом, однако, ни о каком контроле над печатью в стране говорить не приходилось[7]. 18 марта 1906 года выходит Именной указ «Дополнение временных правил о повременных изданиях», 26-го апреля — «Временные правила о непериодической печати». Создаётся Осведомительное бюро, призванное контролировать «достоверность» сведений, поступающих в прессу; иностранная печать передаётся в ведомство Главного управления цензуры[74].
«Временные правила», пишет Блюм, были приближены к европейским законам — запрещение любых изданий было возможно исключительно в судебном порядке[76]. Новые правила отменяли предварительную цензуру, но комитеты по печати просматривали выходившие издания; наложение санкций было возможно в случае, если издания нарушали уголовный закон. При этом, однако, имела место существенная разница между периодическими и непериодическими изданиями — первые вначале поступали в продажу, а затем, при необходимости, следовали санкции (штрафы, закрытие изданий, арест издателей), а вторые подавались в комитеты по печати до начала распространения, и у властей оставалось время для конфискации тиражей. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что в 1905 году санкции накладывались только на сами издания, которые, после их официального закрытия, тут же появлялись под другими названиями. После того, как власти начали применять санкции к типографиям, антиправительственная пресса всё же была вынуждена свернуть свою деятельность[75]. При введении в отдельных губерниях положения чрезвычайной охраны или военного положения генерал-губернаторы и губернаторы получали право приостанавливать выпуск периодических изданий. В 1905—1907 годах, когда положение чрезвычайной охраны вводилось в 27, а военное положение — в 40 губерниях и областях, власти широко пользовались этим правом. Ещё одним методом давления на прессу была административная (то есть производимая по распоряжению губернаторов без всякого формального разбирательства) высылка неугодных правительству редакторов и журналистов. Большой общественный резонанс произвела высылка в Минусинск популярного литератора А. В. Амфитеатрова (1902 год) за опубликование фельетона «Господа Обмановы», изображавшего царскую семью в карикатурном виде. В периодике активно начинает обсуждаться политическая обстановка в стране, в особенности проблема свободы слова; по этой теме выходит несколько книг видных литераторов — В. Е. Якушкина и В. Е. Розенберга[7].
Цензура во время Первой мировой войны
В 1913 году, по утверждению Рейфмана, на прессу было наложено 372 штрафа на сумму 140 тысяч рублей, конфисковано 216 номеров, арестовано 63 редактора, закрыто 20 газет. Дополнительная хитрость заключалась в том, что «в полной мере» цензура устанавливалась исключительно в местах военных действий и «частично» — вне их. Определение же мест военных действий было прерогативой властных структур[74].
Жирков, однако, называет данное время «расцветом русской журналистики»; развернувшиеся разговоры о «свободе слова» и растущее недовольство репрессиями МВД всколыхнули издателей и журналистов, вдобавок обеспокоенных готовящимся к опубликованию новым законом о цензуре. Последний был обнародован 20 июля 1914 года под названием «Временное положение о военной цензуре»[77]. Председатель Совета Министров И. Л. Горемыкин комментировал: «Военная цензура, просматривая предназначенный к выпуску в свет газетный материал, должна оценивать последний не с одной лишь узковоенной точки зрения, а и с общеполитической»[78].
Если ранее основным приоритетом военной цензуры было поддержание имиджа армии, то теперь главной задачей стало сохранение государственной тайны. Особому контролю подвергались фронтовые журналисты — был введён институт аккредитации, однако чёткой законодательной базы для данного рода журналистской деятельности не существовало, это в конечном итоге привело к тому, что в ходе Русско-японской войны противник получал массу сведений из русскоязычной периодики[79]. Период Первой мировой войны характерен усилением экономического давления правительства на издателей; так, большое количество журналистов подкупались, Министерство внутренних дел активно субсидировало и финансировало журналы, создавая лояльные власти издания[78].
Становление советской цензуры
Но ты опять, растоптанное слово,
Бессмертное, свободное живёшь,
И мщение готовишь ты сурово,
И стрелы смертоносные куёшь!
После падения монархии и распада империи институт цензуры сохранился, хотя и трансформировался. Павел Рейфман писал по этому поводу: «Советская цензура возникла не на пустом месте. Она — наследница дореволюционной русской цензуры, цензуры многовековой самодержавной России, с её самовластием и деспотизмом»[81]. 9 марта 1917 года Временным правительством был ликвидирован основной центр царской цензуры — Главный комитет по делам печати — и введена должность комиссара по делам печати. 16 мая в «Вестнике Временного правительства» было обнародовано законодательное распоряжение: «Печать и торговля произведениями печати свободны. Применительно к ним административных взысканий не допускается». В реальности подобная свобода полностью реализована не была. Пётр Врангель писал, что при свободе левой пропаганды правые газеты закрывались и конфисковались. Впоследствии по итогам июльского кризиса правительство предоставило военному министру право закрывать издания, призывающие к военному бунту и неповиновению на фронте, после чего репрессиям подверглись большевистские газеты[82].
Сразу же после Октябрьской революции последовало значительное усиление цензуры в стране. Так, в первую очередь было закрыто множество типографий и газет. Декретом от 27 октября (9 ноября) 1917 года под запрет попали антикоммунистические издания, издания «сеющие смуту путём клеветнического извращения фактов» и «призывающие к действиям преступного характера»[83]. По состоянию на конец 20-х годов были закрыты более четырёхсот газет[84]. В. И. Ленин говорил: «Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные газеты, если возьмём власть в руки. Терпеть существование этих газет, значит перестать быть социалистом»[85].
Власть сконцентрировала в своих руках оборот бумаги в стране, она была конфискована у частных лиц, были национализированы типографии. Большинство исследователей отмечали в дальнейшем идеологический и тотальный характер советской цензуры, а также подчинение цензурных органов контролю со стороны Коммунистической партии Советского Союза[86][87][88].
Деятели культуры о цензуре
А. Блюм отмечает, что с момента издания «Закона о вольных типографиях» (1783 год, при Екатерине II) прошло менее десятилетия, как в империи началась «неустанная борьба русских писателей за священное право — право свободы слова и творчества»; первейшим оппонентом писателей в противостоянии власти, стремившейся ограничить их, стал цензор — причём, отмечает Блюм, его фигура была «не столько зловещая, сколько смешная». Таким образом, противодействие цензуре осуществлялось первоначально путём её высмеивания и иронизирования над ней. При том же, что цензор представлял собой врага номер один для русских писателей, однако, работа последних на поприще цензуры не считалась чем-либо зазорным в глазах общества; так, к примеру, в цензурных комитетах работали такие выдающиеся деятели искусства, как Майков, Полонский, Салиас-де-Турнемир, Аксаков, Гончаров, Тютчев и многие другие[89].
Упоминание (а также критика, высмеивание и многое иное) вопросов цензуры, пишет Блюм, у русских авторов встречается практически во всём многообразии существующих литературных форм — в стихах, эпиграммах, письмах, эссеистике, баснях, пародиях, рассказах, драмах, очерках, воспоминаниях. Подавляющее большинство писателей обсуждали данные вопросы и в частной переписке тоже — так, утверждает Блюм, «таких писем сотни, если не тысячи»[90]. Цензуре и цензорам свои произведения посвящали А. Н. Радищев («Путешествие из Петербурга в Москву», глава «Торжок»)[91], Г. Р. Державин («На птичку»)[92], И. П. Пнин («Сочинитель и Ценсор»)[93], В. А. Жуковский («Протокол двенадцатого арзамасского заседания»)[94], А. А. Дельвиг («Петербургским цензорам»)[95], Н. П. Огарёв («Русская потаённая литература», предисловие)[96], Н. А. Добролюбов («На карикатуры Степанова»)[97] и многие другие.
Многие видные литераторы рассматривали цензуру и с сугубо практической точки зрения — понимая всю её специфику изнутри, они предлагали реформы ведомств, законов, самого характера взаимодействия властей с авторами. Ф. В. Булгарин в 1826 году выступал с критикой абсурдизма, до которого в некоторые моменты доходила цензура, и отмечал общую направленность властей к обращению внимания не на дух произведений, но исключительно на их слог — слова и фразы[98]. В. Ф. Одоевский начиная с 1827 года написал несколько работ по данной тематике, критикуя «полицейскую цензуру» и выступая с оригинальными предложениями по противодействию антироссийской пропаганде из-за границы, в частности, настаивая не на строгой цензуре иностранных изданий, а на публикациях «книг и статей, опровергающих в открытой полемике враждебные русскому обществу идеи»; с похожими взглядами выступал в 1840-х и Тютчев, считавший целесообразным пересмотр системы русской печатной пропаганды за рубежом[99]. О. И. Сенковский в резкой форме критиковал предварительную цензуру: «Предупредительная цензура, раздражая всех своими истязаниями, озлобляя придирками, ожесточая злобными или невежественными толкованиями слов, выражений, мыслей, ничего, однако, не останавливает»[100].
«Голоса в защиту свободы слова не умолкали никогда: в беспросветные времена такую задачу брали на себя писатели-эмигранты — Герцен в Лондоне в XIX веке, писатели Русского зарубежья в XX-м — В. В. Набоков, Р. Б. Гуль и другие. Тем не менее, более чем столетняя борьба за свободу печати и литературного творчества, приведшая к резкому ослаблению цензурного гнёта в начале ХХ в. и даже полному освобождению от него в период между февралем и октябрем 1917 г., закончилась полнейшим провалом и поражением»[101].— Арлен Блюм, «Русские писатели о цензуре и цензорах»
Цензура по типам
Религиозная

Разрешение Ф. Н. Орнатского на печатание книги
Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе» (1905)
Исторически религиозная цензура была первым видом цензуры, появившимся ещё в Русском царстве в середине XVI века. Официальную регламентацию данный вид цензуры получил с принятием «Стоглава», что расширило полномочия церковнослужителей в срезе контроля за издаваемой религиозной литературой и лубочными картинками[102][5]. Первые существенные изменения наступили с церковной реформой императора Петра I, ограничивавшей цензурные возможности церкви, а также с учреждением Священного синода, ставшего основным духовным цензурным органом.
Вплоть до конца XVIII века Синод играл главенствующую роль в вопросе ввоза книг на территорию страны и перевода иностранной литературы; указом от 1743 года и первое, и второе было запрещено[5]. В эпоху правления Елизаветы Петровны церковь также активно вмешивалась в политические и прочие мирские дела — в частности, по распоряжению Синода изъятию подлежали все книги, содержавшие упоминания о кратком царствовании Ивана VI при регентстве Анны Леопольдовны. При императоре Павле I был создан институт, занимавшийся вопросами религиозной цензуры, — Московский церковный центр. Задачами нового института были:
«Рассмотрение и исправление как переводов, касающихся церкви и церковного учения, так и вообще сочинений, издаваемых соборным и не соборным духовенством. Духовная цензура не должна по примеру гражданской делать простое одобрение или неодобрение сочинения к печатанию (поелику таковые упражнения не суть важны), но в том, чтобы делать им ревизию, или строгое пересматривание и исправление. Цензура может просто возвратить рукопись. Все сочинения, одобренные цензурою, как не заключающие в себе, по её мнению, ничего противного закону Божию, правилам государственным, благонравию, и литературу надлежит издавать в печать с дозволения Синода исключительно в типографиях, ведомству его принадлежащих»[4].— из «Положения о духовной цензуре или комиссии» от 14 марта 1799 года
В 1804 году из-под ведомства церкви были выведены иностранные книги — контроль за ними стал прерогативой почтамтов[36]. По сути, с восхождением на трон Александра I в Российской империи началось становление цензурного аппарата, и в ведомстве Синода и Московского церковного центра остались исключительно книги религиозного содержания — такое положение дел продолжалось до начала XX века, когда следствием наметившегося распада империи стала реорганизация всей система цензуры, включая церковную.
Военная
Появление военной цензуры в Российской империи аналогичным образом приходится на первую декаду XIX века. При Артиллерийском департаменте в 1810 году была введена должность военного цензора, а двадцать шесть лет спустя появился первый управленческий орган — Военно-цензурный комитет, которому, правда, суждено было просуществовать только до 1858 года. Неразбериха в военной цензуре в стране продолжалась до конца существования империи: попытки упорядочить сложившуюся ситуацию предпринимались в годы Русско-турецкой войны (1877—1878), а затем и Русско-японской войны (1904—1905). Однако вопрос военной цензуры так и не был окончательно решён[103].
Последняя попытка упорядочения военной цензуры была предпринята в 1914 году, когда император Николай II утвердил положение о военной цензуре, которая устанавливалась в полном объёме или частичная. В полном объёме цензура вводилась в местах на военном положении. Это означало, что министру внутренних дел давалось право запрещать «сообщение в речах или докладах, произносимых в публичных собраниях, сведений, касающихся внешней безопасности России или вооружённых её сил или сооружений, предназначенных для военной обороны страны». Для частичной же военной цензуры были характерны «просмотр и выемка международных почтовых отправлений и телеграмм, а также просмотр и выемка в отдельных случаях, по распоряжению главных начальников военных округов, внутренних почтовых отправлений и телеграмм». Положение о военной цензуре действовало до распада империи[104].
Почтовая
Почтовая цензура появилась в Российской империи в XVIII веке при Елизавете Петровне; начальнику петербургского «почтового амта» было вменено в обязанность вскрывать и копировать всю заграничную переписку зарубежных послов, аналогичные действия предпринимались и к частным письмам, однако не носили систематического и повсеместного характера[105]. При коллегии иностранных дел под началом Кристиана Гольдбаха была организована дешифровальная служба. Когда при Екатерине II последнюю возглавил Франц Эпинус, объёмы перлюстрации и дешифровки значительно увеличились, вскрывалась вся зарубежная корреспонденция без исключения. 18 апреля 1794 года секретным указом императрицы была организована служба перлюстрации во всероссийском масштабе[106].
Эпоха правления Александра I в историю цензуры Российской империи вошла как время непродолжительной либерализации в перлюстрации; так, согласно распоряжению монарха, «внутренняя корреспонденция, производимая между собою частными людьми… была отнюдь неприкосновенна и изъята от всякого осмотра и открытия». Это, впрочем, не отменяло деятельности «чёрных кабинетов»: «…что лежит до внешней переписки, в перлюстрации оной поступать по прежним предписаниям и правилам без отмены». К началу XIX века чёрные кабинеты действовали в Санкт-Петербурге, Москве, Риге, Бресте, Вильно, Гродно и Радзивилове. От чиновников требовалось обращать внимание на дела о контрабанде, финансовые операции («ввоз ассигнаций»), а «также и о всем том, что вредно узаконениям и Государству вообще и частно», дабы «могли быть взяты надлежащие меры». С 1881 года «чёрные кабинеты» перешли в ведомство министра внутренних дел; на подобном положении они находились вплоть до 1917 года. Стоит отдельно заметить, что общий размер имперской перлюстрационной службы был сравнительно небольшим — по состоянию на 1913 год их было чуть менее пятидесяти человек[107]. Историк В. С. Измозик пишет:«История службы перлюстрации императорской России закончилась в дни второй российской революции, в конце февраля 1917 года. Первое время после свержения режима цензоры по привычке приходили на службу, но указаний от нового правительства не было. Уже в марте в провинции новая революционная власть начала допросы чинов перлюстрации. Приказом по Министерству почт и телеграфов от 10 июля 1917 года цензура иностранных газет и журналов была упразднена»[107].
Иностранная
Профессор Марианна Тэкс Чолдин, посвятившая крупное исследование деятельности имперской цензуры в отношении иностранных книг, отмечает, что зарубежная литература на описываемый период являлась самым популярным чтением в среде образованного населения Российской империи. Признавая опасность «тлетворного западного влияния», соответственно, правительство пыталось оградить от него граждан своей страны[108]; первоначально, пишет Тэкс Чолдин, оно стремилось к недопущению критических мыслей по отношению к институту самодержавия. Данное цензурное направление в отношении зарубежной литературы впервые ярко проявилось на фоне многочисленных европейских революций середины XVIII века, когда Россия «с удвоенным старанием стала воздвигать забор вокруг империи», опасаясь, что либеральные идеи найдут в сердцах людей благодатную почву — наибольшее внимание при этом уделялось отечественной периодике, способной эти идеи донести до рядового читателя простым и понятным языком[109].
Закон от 22 апреля 1828 года, сменивший «чугунный» шишковский, по части иностранной цензуры оставался в силе лишь с небольшими изменениями вплоть до 1917 года[110]. Согласно данному закону все ввозимые книги проверялись на предмет соотношения их содержания с догматами православной церкви и христианства, повышенное внимание обращалось на любые высказывания в адрес императорского дома, проверялось также, не противоречит ли содержание общественной морали. По принятому уставу цензурой зарубежных сочинений занимался Комитет иностранной цензуры, который располагался в Санкт-Петербурге при Министерстве народного просвещения. Состоял комитет из председателя, трёх старших и трёх младших цензоров, трёх помощников старших цензоров, библиотекаря и секретаря. Специально обученные цензоры также были направлены в Ригу, Вильно, Киев и Одессу[111].
Комитет иностранной цензуры первоначально подразделялся на языковые разделы, ответственные за издания на французском, немецком, английском и русско-польском. С течением времени, однако, структура изменилась — ко второй половине века единым «англо-французским» отделом были охвачены публикации на французском, английском, испанском и португальском языках, немецкий же находился на особом положении[112]. В описываемое время российские представители «новой интеллигенции» проявляли огромный интерес к немецким публикациям — это обуславливало особое внимание комитета к изданиям на данном языке. Вторыми «по популярности» оставались французские книги (знать и высшее общество к середине XIX века по-прежнему говорили на французском)[113]. Учёный приводит ряд основных тем, ставших объектом пристального внимания цензоров иностранных изданий начиная с середины века; это, в первую очередь, оценки царских особ и общественного строя[114], восприятие Российской империи в качестве «варварского», не европейского государства[115], а также критика православного христианства и веры в Бога[116].
Тэкс Чолдин отдельно выделяет новшество российской иностранной цензуры (в сравнении с её европейскими аналогами) — «позволение с исключением предосудительных мест». На практике, пишет исследователь, это было разрешение оборота изданий, но «с купюрами», вымарыванием или вырезанием отдельных слов, строк, абзацев или целых глав[117]; при всем этом, однако, разжигающая нежелательные настроения литература постоянно проникала в страну[118], а комитету никогда не удавалось идти в ногу со временем[119]. Историк приходит к следующему выводу:«<…> русский имперский режим провалил свою миссию: цензура запрещала отдельные строки в каких-то малозначительных стихотворениях, в то время как сочла работы Маркса слишком пространными, чтобы представлять реальную угрозу <…> Как выяснилось, забор, возведённый вокруг империи, не смог защитить страну от действительно опасных идей»[120].— М. Тэкс Чолдин, «Империя за забором. История цензуры в царской России»
Журнальная и газетная
Печати русской доброхоты,
Как всеми вами, господа,
Тошнит её — но вот беда,
Что дело не дойдёт до рвоты.
Появление первых журналов в Российской империи приходится на период правления Елизаветы Петровны — были открыты «Праздное время, в пользу употребленное» (1759), «Полезное увеселение» (1760), «Свободные часы» (1763) и некоторые другие. Тогда же стало вырисовываться первое направление в цензурных запретах относительно средств массовой информации — изданиям было запрещено печатать любого рода сообщения о событиях при дворе без предварительного разрешения контролирующих органов[5]. В начале XIX века в стране проходило становление цензурного аппарата, положение прессы ухудшилось — шишковский «чугунный устав» сильно ограничил свободу слова, однако предпринимались и попытки выправить ситуацию; в основном их инициаторами выступали сами сотрудники цензурного комитета, ориентировавшие свою деятельность на Петербург и Москву, что в определённой мере поддерживало столичных издателей «на плаву»[47].
В «эпоху цензурного террора» ситуация значительно ухудшилась: доступность информации для подданных империи существенно сократилась. Так, был наложен запрет на публичное обсуждение в печати актуальных общественных и политических проблем, активно отслеживались все умонастроения, касающиеся государственного устройства[122]. Курс давления на прессу был продолжен при Александре II; в частности, Главное управление цензуры указом от 16 января 1858 года постановило запретить к публикации произведения, в которых «разбираются, обсуждаются и критикуются распоряжения правительства по этому вопросу, где рассказывается о событиях и высказываются суждения, „могущие возбудить крестьян против помещиков“»[123].
При новом министре народного просвещения Головнине ситуация не претерпела существенных изменений — в печати категорически запрещалось обсуждение «крестьянского вопроса», существенно ограничивалось освещение политических и социальных проблем, как внутрироссийских, так и международных. Практика действующих при Головнине правил, в дальнейшем закреплённая в новых уставах, значительно способствовала защите интересов государства. 14 января 1863 года указом императора цензурное управление было передано Министерству внутренних дел под руководством Петра Александровича Валуева. Значительное место в цензурном режиме Валуева было отведено журналистике, которую МВД стремилось взять под свой контроль[124].
Реформы Валуева были составлены с рядом уловок, позволяющих «наводить порядок» в печати в кратчайшие сроки и приостанавливать работу издательств. Так, отмечает Жирков, с сентября 1865 по 1 января 1880 года предостережения были выписаны 167 изданиям, приостановлено 52 издания — в общей сложности на 13 лет и 9 месяцев[125]. Для периодики в описываемое время существовала также ещё одна проблема — частая смена цензоров, чьи вердикты нередко противоречили друг другу[126].
Ужесточение мер в отношении издателей привело к изобретению множества «обходных путей» и «хитростей» газетчиками. Так, к примеру, широко задействована была практика использования «подставных лиц» для открытия нового журнала, часто сотрудники репрессированных изданий открывали новые с аналогичным направлением. Одной из хитростей издателей был так называемый «эзопов язык» — приём, описывающий события в России в виде рассказа о том, что творилось за рубежом, рассмотрение текущих дел в форме рассказа о прошлом, активное использование аллегорий[126].
Неразбериха в вопросе контроля за СМИ началась с революции 1905 года, когда контроль за газетами был окончательно утерян. Попытки примирения с газетчиками также потерпели неудачу и для последних обернулись рядом репрессивных мер со стороны МВД[7]. С началом войны контроль за СМИ стал прерогативой военной цензуры, что стало характерной чертой последних лет существования империи.
Театральная
Появление в стране театральной цензуры датируется началом XIX века. В то время цензура разделялась на внутреннюю и иностранную, а также ведомственную — которая, вместе с духовной и военной, охватывала и театральную цензуру. Первым человеком, поставившим ребром вопрос надзора над театром, был журналист и критик Фаддей Булгарин, требовавший ужесточить надзор над выпускаемыми пьесами: «Это потому, что театральные пьесы и журналы, имея обширный круг зрителей и читателей, скорее и сильнее действуют на умы и общее мнение. И как высшей полиции должно знать общее мнение и направлять умы по произволу правительства, то оно же и должно иметь в руках своих служащих к сему орудия»[127]. Помимо этого, 2 апреля 1848 года был сформирован «Секретный комитет», также называемый «Бутурлинским комитетом», который уделял особое внимание всем издаваемым произведениям на территории Российской империи и давал рекомендации Министерству внутренних дел по вопросам наказания «нерадивых» авторов[128]. Представления могли даваться только с разрешения полиции, она же заведовала цензурой театральных афиш[129].
Для драматических произведений была введена так называемая «двухступенчатая» цензура, суть которой состояла в максимальном усложнении попадания на сцену новых произведений. Подобные меры логически привели к значительному сокращению числа премьер[127]. Для театральных постановок в Северо- и Юго-Западном краях сочинений на иностранном языке требовалось разрешение генерал-губернатора, на представление драматических сочинений в театрах Кавказского края — разрешение главноначальствующего гражданской частью на Кавказе. На территории Царства Польского разрешение представлений не на русском языке было возложено на Варшавский цензурный комитет[129].
Через некоторое время цензурная политика Уварова привела к ещё большему усложнению и без того непростого положения театров; руководителем направления стал Леонтий Дубельт, без личного разрешения которого ни одна пьеса не могла появиться на сцене. Дубельт говорил: «Драматическое искусство, как и всякая отрасль литературы, должно иметь цель благодетельную: наставляя людей, вместе забавлять их, а это достигнем несравненно скорее картинами высокого, нежели описанием и низости, и разврата». С руки Дубельта множество произведений, позднее признанных классикой, были запрещены к постановке — в их число попали произведения Грибоедова, Гоголя, Лермонтова. Подобное положение дел в России сохранялось вплоть до начала XX века[127].
Кинематографическая
Цензура кинематографа появилась на закате существования Российской империи; датой её появления можно считать 27 ноября 1908 года, когда в Москве цензором кино был назначен надворный советник Б. Б. Шереметев[130] — ранее подобной специализированной должности попросту не существовало, а всю цензуру кинематографа осуществляли органы, занимавшиеся вопросами театра — чаще даже не осуществляли вовсе, поскольку реальной необходимости в этом до определённого момента не было[131].
Появление цензуры кинематографа было связано с началом повсеместного увлечения фильмами так называемого «парижского жанра»[131], как в России называли картины скабрёзного характера или, как гласили афиши кинотеатров тех времён, «пикантного содержания»[132]. Внимание властей к данному жанру привлёк новоутверждённый московский градоначальник — генерал-майор А. А. Андрианов, приступивший к служебным обязанностям в середине февраля 1908 года; именно с подачи Андрианова «парижский жанр» оказался под запретом, хотя фактически его и продолжали демонстрировать, сменив исключительно вывески — на «жизнь Парижа». С 27 апреля последовали первые закрытия кинотеатров, нарушавших запрет на демонстрацию фильмов непристойного содержания[133].
К концу первой декады века остро встал вопрос определения понятия «непристойности в кино» — единого мнения на этот счёт ни у цензоров, ни у искусствоведов не существовало; в юридической практике цензорам рекомендовалось при вынесении конечных решений соотносить содержание картины «с теми основными указаниями, кои содержатся в действующих Узаконениях». Это значило, в частности, что не допускалась демонстрация фильмов, противных «нравственности и благопристойности», «кощунственных», провоцирующих «бунтовщического или иного преступного деяния», а также картину к показу было возможно запретить, если демонстрирование «будет признано неудобным по местным условиям»[134]. В. П. Михайлов, таким образом, говорит о вопиющей неразберихе (а зачастую и откровенной несуразности) в вопросе цензуры кинематографа, иллюстрируя своё мнение пересказом известного случая с показом ленты «Анна Каренина», которая, демонстрируясь на одной стороне Невского проспекта, была запрещена на другой[135]. Некоторые периодические издания начала XX века приходили к аналогичным выводам: «Нельзя не признать — во многих районах цензура усердствует не по разуму» (цитата по статье в «Кино-журнале»)[136].
С появлением кинематографа в империи были тотчас введены цензурные ограничения на съёмки монарха и членов его семьи; разрешение на это имели исключительно кинооператоры Двора Его Императорского Величества. В виде исключения, в 1913 году, в связи с приближением торжественных мероприятий, посвящённых 300-летию дома Романовых, право на съёмку во время официальных церемоний (кроме богослужения) получили и другие кинорепортёры[136]. Ещё более непросто складывались отношения церкви с кинематографом; так, согласно мнению Синода, посещение кинотеатров для духовных лиц было равносильно согрешению[137], за что нередко назначались строгие наказания, такие как понижение в чине и непродолжительная ссылка в монастырь[138]. Мнение церкви окончательно оформилось к 1915 году, когда были официально изданы «Правила инсценировки религиозных обрядов в кинематографе»; в них, в частности, запрещались изображения «Господа Нашего Иисуса Христа, Пресвятой Богоматери, Святых Ангелов, Святых Угодников Божьих», изображения святого креста, внутренний вид православных храмов (иных вероисповеданий — допустимо), священные предметы (Евангелие, хоругви, «всякую церковную утварь»), православные религиозные процессии (иных вероисповеданий — допустимо), богослужения всех христианских вероисповеданий, религиозные обряды и таинства, инсценировка православных духовных лиц[139]. В дополнение к этому, церковью в официальном порядке запрещалась деятельность кинотеатров в канун и дни главных православных праздников[140].
С 1914 года в дела цензуры кинематографа начало систематически вмешиваться Министерство внутренних дел, запрещая показ картин, «которые могли бы вызвать нарушения общественного порядка, оскорбить религиозные, патриотические и национальные чувства»[141]. В общем и целом, цензурная политика Российской империи в отношении кинематографа разоряла производителей фильмов — из-за запретов колоссальные убытки несли практически все: фабриканты [производители фильмов], прокатные конторы, владельцы кинотеатров; особенно сильно страдал «киноцентр» страны — Москва[142]. С началом февральской революции цензура кино исчезла, спровоцировав «мутный поток всякого рода кинолент, в которых под видом разоблачения смаковались анекдоты о бывших самодержцах России и их любовных утехах». Но, отмечает Михайлов, их сумело пресечь уже к апрелю этого же года Временное правительство, поручив аппарату МВД взять цензуру под свой контроль и наделив его правом «по своему усмотрению запрещать любые картины „за безнравственность“»[143].
Цензура научной и научно-популярной литературы
Цензура оказала отрицательное влияние и на развитие исторической науки, в частности, научно-популярной литературы по истории. Ограничивалось обнародование любых исторических сочинений, описывавших социально-политические антагонизмы и антигосударственные выступления. Так, после публикации в 1849 году в журнале «Современник» статьи Сергея Соловьёва о Смутном времени появилась директива, предписывающая издавать подобные материалы исключительно в специализированных научных журналах. В 1821 году была запрещена публикация в малороссийских журналах исторических трудов о крестьянах, так как власти сочли причиной крестьянских бунтов появление в печати статьи, сравнивавшей Богдана Хмельницкого и гайдамаков)[144].
Под наиболее строгим надзором находились региональные и национальные историографии. В 1847 году после дела Кирилло-Мефодиевского братства Алексей Орлов предложил Министерству образования выпустить директиву, которая требовала бы от ученых и литераторов положительно отзываться исключительно об империи в целом, а не какой-либо отдельной её части. На территории Малороссии в 1835 году было запрещено издание любых исторических сочинений, «могущих пробудить симпатию к старой Польше и Литве». Как писал в 1860 году Николай Костомаров, сами термины «Украина», «Гетманщина» и даже «Малороссия» рассматривались цензорами как проявление нелояльности. Кроме Костомарова, с цензурными проблемами при издании своих сочинений в разное время сталкивались Михаил Максимович, Пантелеймон Кулиш, Дмитрий Яворницкий, Михаил Грушевский, Николай Сумцов, Даниил Мордовцев и другие авторы. Более редкими были случаи цензуры археографических и этнографических публикаций: так, в первом издании летописи Григория Грабянки был вырезан эпизод, который цензоры сочли антирусским; из-за цензурного запрета только в 1882 году было напечатано поэтическое произведение XVIII века «Разговор между Великороссией и Малороссией»; строгий выговор получил цензор за дозволение к печати украинских пословиц и поговорок, «могущих возбудить вражду между великороссами и малороссами»[144].
В целом же, тем не менее, куда большее внимание цензоры уделяли СМИ и массовым изданиям, часто оставляя академическую науку на откуп самим ученым.
Итоги и выводы
Русскоязычная историография
Отдельной темой в отношении имперской цензуры выделяется её «антигазетный» характер. По Рейфману, наиболее явно данный характер выразился в двух последних декадах XIX века на фоне усиления реакции прессы на убийство Александра II, когда правительство приняло решение о пресечении инакомыслия и прекращении деятельности «неугодных изданий». Так, пишет историк, последовал ряд репрессий и запрещений — за период с 1881 по 1891 год их было вынесено 174, причём в первые семь лет особо неугодные издания были или «приведены к повиновению», или вовсе запрещены. Временно приостановленная периодика после возобновления тщательно изучалась предварительной цензурой — любые либеральные идеи пресекались на корню[145]. Рейфман резюмирует:Большинство из запрещённых и прекративших выходить в результате цензурных репрессий периодических изданий были отнюдь не радикальными. Все они выступали иногда с оппозиционными статьями, критикуя отдельные стороны деятельности правительства, затрагивая более или менее острые вопросы <…> Но и такая критика вызывала недовольство властей. В рассматриваемый период даже нейтральная позиция, с точки зрения правительства, была недостаточной; от печати, да и вообще от благонамеренного обывателя, требовалась не пассивная, а активная лояльность[145].
«Антигазетный» характер цензуры сохранился и в XX веке; газеты, к началу первой декады века уже окончательно вытеснившие по части популярности журналы, окончательно утвердились в качестве основного источника оперативно поставляемой информации — однако же, пишет Жирков, самодержавная власть продолжала ориентировать свои цензурные действия на торможение информационного прогресса[146]; столичные и провинциальные издатели, к примеру, находились в существенно разных условиях. Так, Жирков пишет: «…[столичные газеты] выходили без предварительной цензуры в отличие от местных, кроме особо преданных правительству „Южного края“, „Киевлянина“, „Виленского вестника“. Столичные газеты могли быть приостановлены цензурой на срок не более 6 месяцев после получения 3 предварительных предостережений, местные же газеты — без всяких предостережений и сроком до 8 месяцев. Причём более половины приостановок цензурой провинциальных газет, отмечает Абрамов, падает именно на 8 месяцев, что „обыкновенно влекло за собою полную потерю подписчиков и прекращение самого издания“ вообще»[147]. Подобное бедственное положение периодики сохранялось вплоть до «периода бесцензурья», начавшегося сразу же после «кровавого воскресенья» 9 января 1905 года и продолжавшегося вплоть до 1917 года[74].
Современное изучение истории российской цензуры проводится в России с начала 1990-х годов. В мае 1993 года в Москве состоялась конференция «Цензура в царской России и Советском Союзе». Одновременно с конференцией была проведена книжная выставка. Впоследствии эти мероприятия были повторены в Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Аналогичные научные конференции проводились в 1995 году в Петербурге («Цензура в России: история и современность») и в Екатеринбурге (Международная научная конференция «Цензура в России»)[148][149]. В Российской государственной библиотеке собрана коллекция материалов по истории цензуры[150].
По вопросам истории цензуры в России проводятся научные исследования. В частности, в 2000 году на кафедре истории российской государственности и общественно-философской мысли Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации Д. В. Ивановым была защищена кандидатская диссертация по теме «Формирование военной цензуры России 1810—1905 гг.»[79]. Цензуре в Российской империи посвящены множество научных статей и ряд монографий.
В современной историографии некоторые исследователи склонны отдельной темой рассматривать антисексуализм цензуры в Российской империи в течение всего периода её существования. Так, И. С. Кон, говоря об исторических предпосылках неприятия темы секса, указывал на неразрывную связь церкви и государства. Ещё начиная со времени, когда цензура не имела разделения на духовную и светскую, а являлась прерогативой исключительно церкви, была заложена основа её антисексуального характера. Кон иллюстрирует свой тезис спецификой православной иконописи — строгой и аскетичной в сравнении с западной религиозной живописью: «…в русских иконах живёт только „лик“, тело же полностью закрыто или подчёркнуто измождено и аскетично. Ничего похожего на рафаэлевских мадонн или кранаховских Адама и Еву здесь нет»[151].
Для понимания специфики отношения ко всему эротическому в стране учёный выдвигает три основных фактора; первый, по мнению Кона, проявляется в сильном контрасте между «высоким» уровнем культуры, «освящённой церковью и антисексуальной по своему характеру», и «низкой бытовой культурой народных масс». Во вторую очередь, пишет исследователь, сложное эротическое искусство получило признание и пришло в страну гораздо позже, нежели на западе; исключительно же посредством должного принятия эротического искусства, комментирует Кон, возможна интеграция сексуальности в высокую культуру общества. В-третьих, наконец, «становление цивилизованных форм социально-бытовой жизни» было тесно связано с государством и им же контролировалось — народ постоянно находился под гнётом унификации его поведения со стороны власти, что сводило на нет индивидуализацию и диверсификацию; Кон заключает: «А без сложившихся и достаточно разнообразных субкультур не было базы и для нормативного плюрализма, от которого зависит многоцветье сексуально-эротической культуры»[151].
В современной историографии тему сексуальной культуры (отношение к сексуальности, сексуально-эротические ценности и соответствующие формы поведения — согласно И. С. Кону) России стали рассматривать сравнительно недавно — причём первые работы выходили из-под пера иностранных авторов; так, к примеру, первая монография-альбом по истории русского эротического искусства вышла в 1976 году (А. Флегон), первая исследовательская монография о православных славянах, центрированная на сексуальную жизнь — в 1989 (Е. Левин, Корнелльский университет). Русскоязычные работы по данной теме стали появляться только в 1990-е; Кон резюмирует: «Не удивительно, что знания о русском сексе, несмотря на наличие не менее богатых, чем на Западе, первоисточников <…> остаются крайне фрагментарными, а теоретические обобщения — спекулятивными, предварительными»[151].
Зарубежные исследования
Ряд иностранных источников сходится во мнении, что цензура в Российской империи сформировалась в упорядоченный институт гораздо позже, чем в Европе; отмечают, в частности, что произошло это исключительно к концу XVIII века, в то время как Восточная Европа к данному моменту от «цензурного гнёта» была уже свободна. В иностранной историографии, к примеру, применительно к цензуре в Российской империи иногда применяется термин «эффективная (продуктивная, производительная) цензура» (англ. productive censorship)[152]. Тэкс Чолдин, к примеру, пишет: «…цензура в этой стране [России] появилась на два века позже, чем в других странах, и к 1848 году не исчерпала себя. Страна, казалось, всегда немного отставала от Европы»[153]. В общем и целом, «точкой отсчёта» для истории российской цензуры многие исследователи называют появление «первого либерального устава» от 9 июня 1804 года (считается, что до этого времени цензура имела относительно неупорядоченный характер — особенно в отношении к литературе и театру[154][155]) и приход к власти императора Александра I[156][157][158][159].
Во второй декаде XIX века, считают зарубежные исследователи, имперская цензура претерпела значительные изменения от весьма умеренной до крайне жёсткой и всеобъемлющей, что пришлось на время правления Николая I; при Александре II для писателей и издателей ситуация стала чуть менее «раскалённой» — непростая борьба за свободу печатного слова (статистические данные показывают значительно более высокий процент запретов к печати изданий в XIX веке в России, чем во многих странах Европы[160]) логически завершилась исключительно в середине первого десятилетия XX века[157]. Отмечают, что именно на этот временной период пришёлся первый гарант свободы слова со стороны государства — однако единого мнения о характере «преемственности» цензуры в зарубежной историографии нет; Чарльз Руд, например, пишет, что невозможно рассматривать советскую цензуру в качестве «правопреемника» имперской цензуры, поскольку последняя развивалась почти что аналогичным с европейскими странами образом, в то время как цензура в СССР носила уже тоталитарный характер[161]. Тэкс Чолдин же придерживается противоположного мнения, отмечая тесную связь имперской и советской цензуры, отмечая, что последняя «уходит своими корнями глубоко в дореволюционную российскую цензуру»[162].
По вопросу общего курса развития цензурного аппарата, считают историки, ситуация в России была равносильна истории материковой Европы (в противовес Англии и США) — в качестве иллюстрации к данному мнению приводя предварительную цензуру, которая была практически одинаковой как в Европе, так и в Российской империи[158]. О множестве аналогий говорит и Тэкс Чолдин, называя французские законы базой для российского цензурного законодательства в отношении отечественных изданий, а прообразом правил к иностранным изданиям в однозначной форме указывая Пруссию и Австрию[163]. Делая вывод об отношении власти к потенциально опасной литературе, Тэкс Чолдин заключает, что основной угрозой правительство всегда видело восстание народа против установленного в России строя, института самодержавия как такового[164].
Использованные источники
- ↑ 1 2 3 Кобяк, Н. А. [www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4646 Списки отреченных книг]. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. pushkinskijdom.ru. Проверено 10 декабря 2011. [www.webcitation.org/64uoyB81U Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 3 Цензура // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.</span>
- ↑ 1 2 3 Цензура // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Жирков, 2001, XVIII век: период перехода от духовной к светской цензуре.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/vstuplenie/ Часть первая. Российская цензура. Глава 1. Вступление]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64upApZSA Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 Жирков, 2001, Первый цензурный устав (1804 г.): иллюзии и практика.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Жирков, 2001, Борьба за свободу печати: 1905-1907 гг..
- ↑ Блюм, 2011, с. 11.
- ↑ Творогов, Олег. [www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3972 Изборник 1073 г.]. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. pushkinskijdom.ru. Проверено 10 декабря 2011. [www.webcitation.org/64uozOe96 Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Буланин, Дмитрий. [www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=4475 Пандекты и Тактикон Никона Черногорца]. Институт русской литературы (Пушкинский дом) РАН. pushkinskijdom.ru. Проверено 10 декабря 2011. [www.webcitation.org/64up0Y4n3 Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.hrono.ru/dokum/1500dok/1551_100glav.php Стоглавый собор]. Хронос. Всемирная история в интернете. hrono.ru. Проверено 24 августа 2011. [www.webcitation.org/64up1Uufo Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/religiya/STOGLAVI_SOBOR.html Стоглавый собор]. krugosvet.ru. Проверено 24 августа 2011. [www.webcitation.org/64up2bWr7 Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Стоглав // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ [www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=3967 Иван Федоров (Москвитин)]. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского дома) РАН. pushkinskijdom.ru. Проверено 28 августа 2011. [www.webcitation.org/64up3pNmc Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.krugosvet.ru/enc/istoriya/FEDOROV_IVAN_FEDOROVICH.html Федоров, Иван Федорович]. Энциклопедия Кругосвет. krugosvet.ru. Проверено 29 августа 2011. [www.webcitation.org/64up4u5vS Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Опарина, Т. А. Иван Наседка и полемическое богословие киевской митрополии. — Новосибирск: Наука, 1998. — 431 с. — ISBN 5-02-031083-2.
- ↑ Забелин, Иван. Материалы для истории русской иконописи // Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских. — 1850. — Т. 7. — С. 83-4.
- ↑ Лубочные картинки // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Богданов А. П. От летописания к исследованию: русские историки последней четверти XVII века. М.: RISC, 1995. С. 215—301.; Панченко А. М. Сильвестр //Словарь книжников и книжности Древней Руси. СПб. 1998. Вып. 3. Ч. 3. С. 354—359.
- ↑ Богданов А. П. Русские патриархи (1589—1700): В 2 т. Т. 1. — М. 1999. С. 225—231.
- ↑ 1 2 3 Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/glava-1/ Глава первая. От Первого до второй. «Курносый злодей».]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64up6FAoE Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Духовный регламент // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ [www.pseudology.org/Documets/DuxovnyReglament.htm Духовный регламент. Полное собрание законов Российской империи. Собрание I. СПб., 1830. Т. VI. № 3718]. pseudology.org. Проверено 31 августа 2011.
- ↑ Блюм, 2009, с. 19.
- ↑ Толстой, Алексей. [www.litera.ru/stixiya/authors/tolstoj/poslushajte-rebyata-chto.html История государства Российского от Гостомысла до Тимашева]. litera.ru (1883). Проверено 9 декабря 2011. [www.webcitation.org/64vYTDcQN Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 [www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=481&c_id=5294 История печати. Том 1-й. IV. Россия]. Библиотека Центра экстремальной журналистики. library.cjes.ru. Проверено 14 ноября 2011. [www.webcitation.org/64vYhEvSw Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 [www.runivers.ru/bookreader/book9829/#page/786/mode/1up Указ Императрицы Екатерины II О позволенiи во всѣхъ городахъ столицахъ заводить Типографiи от].15 (26) января 1783 года
- ↑ Блюм, 2009, с. 24-5.
- ↑ Название учреждения для заботы об убогих детях. — См. Дом сиропитательный // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- ↑ Антипов М. [www.bogoslov.ru/text/311692.html Деятельность Санкт-Петербургского Комитета духовной цензуры как издательской структуры в XIX - начале ХХ вв.]. Научный богословский портал. bogoslov.ru (17.07.2008). Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64vYih8ah Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.eleven.co.il/?mode=article&id=14609&query=%D6%C5%CD%C7%D3%D0%C0 Цензура в Российской империи]. КЕЭ. Проверено 29 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqDxwQT Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 35.
- ↑ Блюм А. В. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=555 Местная книга и цензура дореформенной России (1784–1860)]. Открытый текст. Электронное периодическое издание (1966). Проверено 26 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqIH37Q Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 34.
- ↑ 1 2 Гринченко О. А. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=2361 Организация цензуры в России в I четверти XIX века]. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Проверено 26 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqJvfnk Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 3 4 Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/glava-2/ Часть первая. Российская цензура. Глава Вторая. «Дней Александровых прекрасное начало»… «Кочующий деспот»]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqM8qWY Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 37.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 28.
- ↑ 1 2 3 Жирков, 2001, Уставы николаевской эпохи: становление цензурного аппарата.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 52.
- ↑ Патрушева Н. Г., Гринченко Н. А. [www.pseudology.org/Tsenzura/TsensuraOffices.htm История цензурных учреждений в России в ХIХ - начале XX века]. Псевдология. pseudology.org. Проверено 24 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqMt116 Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 Жирков, 2001, «Казённый человек» на посту цензора..
- ↑ Блюм, 2009, с. 40.
- ↑ Блюм, 2009, с. 43.
- ↑ 1 2 Тэкс Чолдин, 2002, с. 53.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 58.
- ↑ 1 2 3 Ботова О. О. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=681 Московский цензурный комитет во второй четверти девятнадцатого века (Формирование. Состав. Деятельность)]. Открытый текст. Электронное периодическое издание (2003). Проверено 26 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqNJZkb Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 Жирков, 2001, Совершенствование деятельности цензурного ведомства..
- ↑ Блюм, 2011, с. 142.
- ↑ Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/glava-3/ Часть первая. Российская цензура. Глава третья. «Должно повиноваться, а рассуждения держать про себя»]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqOowtu Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Гринченко Н. А, Патрушева Н. Г. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=3629 Надзор за книжной торговлей в конце XVIII — начале XX века]. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Проверено 26 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqPy08v Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 51.
- ↑ 1 2 3 Жирков, 2001, Эпоха цензурного террора..
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 73.
- ↑ 1 2 Жирков, 2001, Комитет 2 апреля 1848 года..
- ↑ Блюм, 2011, с. 170.
- ↑ Жирков, 2001, Реформаторская деятельность А. В. Головина..
- ↑ Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/glava-6-chast-2/ Часть первая. Российская цензура. Глава шестая. «Песни о свободном слове»]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqRSUAO Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Патрушева Н. Г. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=875 Цензурная реформа в России 1865 г.]. Открытый текст. Электронное периодическое издание (1990). Проверено 26 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqSdzEZ Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Горев Б. [www.imli.ru/litnasledstvo/Tom%2022-24/5_vol22-24_Письма%20К.П.Победоносцева.pdf Победоносцев и цензура] // Литературное наследство. — М., 1935. — Т. 22-24.
- ↑ Жирков, 2001, Первый цензурный закон..
- ↑ Цит. по: Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/vstuplenie/ Часть первая. Российская цензура. Вступление]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64upApZSA Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.vehi.net/soloviev/korolenko.html В.Короленко."ДЕКЛАРАЦИЯ" В. С.СОЛОВЬЕВА]
- ↑ Все сведения о законодательных нормах в данном раззделе: [forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=2538 Устав о цензуре и печати, с позднейшими дополнениями, законодательными мотивами, разъяснениями Прав. Сената и административными распоряжениями] / Сост. В. П. Ширков. — СПб.: Изд. Н.К.Мартынова, 1900. — 302 с..
- ↑ Шварцбанд, С. М. История текстов: «Гавриилиада», «Подражания Корану», «Евгений Онегин». — РГГУ, 2004. — 240 с. — (Зарубежная филология в РГГУ). — ISBN 5-7281-0762-1.
- ↑ 1 2 [pushkin.niv.ru/pushkin/articles/alekseev/zametki-o-gavriiliade-2.htm Алексеев М.П.: Заметки о «Гавриилиаде». По поводу издания В. Брюсова]. Александр Сергеевич Пушкин. pushkin.niv.ru. Проверено 23 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqU3ANj Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.rvb.ru/pushkin/02comm/0786.htm Комментарий С. М. Бонди к поэме Пушкина «Гавриилиада»]. Русская виртуальная библиотека. rvb.ru. Проверено 23 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqUbQkM Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.pravda.ru/culture/literature/rusliterature/19-08-2008/279744-gavr-0/ Поэма «Гавриилиада» принесла Пушкину много неприятностей]. pravda.ru (19.08.2008). Проверено 23 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqVcA9u Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Грушкин, А. И. [www.ershov.org.ru/lib/ar/author/696 А.И.Грушкин о Ершове П.П.]. Русский писатель и поэт Петр Павлович Ершов. ershov.org.ru. Проверено 24 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqYohHh Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Савченкова, Татьяна. [www.lych.ru/online/0ainmenu-65/48--12010/535---l-r---l-r «Конёк-Горбунок» в зеркале «сенсационного литературоведения»]. Издательский дом «Литературная учёба». lych.ru. Проверено 24 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqZN2KO Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.lermontovtalk.info/lermontov/kritika/najdich/etyudy-o-lermontove-18.htm Найдич Э. - Этюды о Лермонтове. Спор о «Демоне»]. lermontovtalk.info. Проверено 23 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqadTvN Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Каролидес, Николас; Балд, Маргарет; Соува, Дон; Евстратов, Алексей. Конек-Горбунок // 100 запрещенных книг. — Ультра.Культура, 2008. — 640 с. — ISBN 978-5-9681-0120-4.
- ↑ Блюм, 2011, с. 265.
- ↑ 1 2 3 4 5 Рейфман, П.С. [reifman.ru/russ-tsenzura/glava-8/ Часть первая. Российская цензура. Глава восьмая. «Но в октябре его немножечко того...»]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqbRaVr Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 Бельгард, А. В. Воспоминания. — Новое литературное обозрение, 2009. — 688 с. — (Россия в мемуарах). — ISBN 978-5-86793-727-0.
- ↑ Блюм, 2009, с. 68.
- ↑ [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=3219 Белобородова А. Изменения в организации цензуры в Российской империи в 1914 г. (по материалам Курской губернии)]. Открытый текст. Электронное периодическое издание. opentextnn.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqcfLCR Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 Жирков, 2001, Цензура и журналистика при «обновленном строе».
- ↑ 1 2 Иванов, В. Д. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=1087 Формирование военной цензуры России 1810-1905 гг.]. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Проверено 26 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqe6kv8 Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Блюм, 2011, с. 325.
- ↑ Рейфман П. С. [reifman.ru/sovet-postsovet-tsenzura/vmesto-vstuplenija/ Часть II. Советская и постсоветская цензура. Вместо вступления]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 25 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqfZ40u Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Жирков, 2001, Советская цензура периода комиссародержавия 1917–1919 гг..
- ↑ Декрет о печати // [www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/press.htm Декреты Советской власти]. — М.: Политиздат, 1957.
- ↑ Жирков Г. В. Советская цензура периода комиссародержавия 1917—1919 гг. // [www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_book4df3.html?chapter_num=30&bid=79 История цензуры в России XIX—XX вв. Учебное пособие]. — М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2001. — 358 с. — ISBN 5-7567-0145-1.
- ↑ Ленин В. И. Сочинения. изд-е 4-е. Т. 26 стр. 253.
- ↑ Латынина А. Н. [magazines.russ.ru/novyi_mi/2008/10/la10.html «Пережиток Средневековья» или элемент культуры?] // «Новый мир» : журнал. — М., 2008. — № 10.
- ↑ Жирков Г. В. Партийный контроль над цензурой и её аппаратом // [www.pseudology.org/Tsenzura/TsetzuraHistory/library_view_bookb98b.html?chapter_num=39&bid=79 История цензуры в России XIX—XX вв. Учебное пособие]. — М.: Аспект пресс, 2001. — 358 с. — ISBN 5-7567-0145-1.
- ↑ Блюм А. В. Глава I. Система тотального контроля // [opentextnn.ru/censorship/russia/sov/libraries/books/blium/total/?id=547 Советская цензура в эпоху тотального террора. 1929—1953]. — Монография. — СПб.: Академический проект, 2000. — 283 с. — ISBN 5-7331-0190-3.
- ↑ Блюм, 2011, с. 13.
- ↑ Блюм, 2011, с. 14.
- ↑ Блюм, 2011, с. 33.
- ↑ Блюм, 2011, с. 41.
- ↑ Блюм, 2011, с. 42.
- ↑ Блюм, 2011, с. 48.
- ↑ Блюм, 2011, с. 54.
- ↑ Блюм, 2011, с. 105.
- ↑ Блюм, 2011, с. 141.
- ↑ Блюм, 2011, с. 15.
- ↑ Блюм, 2011, с. 16.
- ↑ Блюм, 2011, с. 17.
- ↑ Блюм, 2011, с. 19.
- ↑ Жирков, 2001, Период монополии цензуры РПЦ.
- ↑ Белобородова, А. А. [history.milportal.ru/2011/06/zashhita-gosudarstvennoj-tajny-v-rossijskoj-imperii-deyatelnost-voennoj-cenzury-v-1914-1917-gg/ Защита государственной тайны в Российской империи. Деятельность военной цензуры в 1914—1917 гг.]. Военно-исторический журнал. history.milportal.ru (06.07.2011). Проверено 31 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqgOX6P Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Белобородова, А. [www.opentextnn.ru/censorship/russia/dorev/libraries/book/?id=3219 Изменения в организации цензуры в Российской империи в 1914 г. (по материалам Курской губернии)]. Открытый текст. Электронное периодическое издание. [www.webcitation.org/64uqcfLCR Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Соболева, Татьяна. История шифровального дела в России. — ОЛМА-ПРЕСС, 2002. — С. 22. — 512 с. — (Досье). — 5 000 экз. — ISBN 5-224-03634-8.
- ↑ Новик, Виталий. [vivovoco.astronet.ru/VV/JOURNAL/VIET/EPINUS.HTM Академик Франц Эпинус (1724 - 1802): краткая биографическая хроника]. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина». vivovoco.astronet.ru. Проверено 12 декабря 2011. [www.webcitation.org/64uqhp7Lx Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 Измозик, В. С. [vivovoco.astronet.ru/VV/THEME/STOP/PERL.HTM Черный кабинет]. Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина». vivovoco.astronet.ru. Проверено 12 декабря 2011. [www.webcitation.org/64uqiTx6t Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 15.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 19.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 42.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 43.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 46.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 22.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 161.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 201.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 214.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 47.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 231.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 232.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 49.
- ↑ Блюм, 2011, с. 144.
- ↑ Жирков, 2001, Комитет 2 апреля 1848 года.
- ↑ Жирков, 2001, Влияние политики реформирования на развитие журналистики.
- ↑ Жирков, 2001, Реформаторская деятельность А. В. Головина.
- ↑ Жирков, 2001, Первый цензурный закон.
- ↑ 1 2 Патрушева, Н. Г. Книжное дело в России во второй половине XIX - начале XX века. — СПб.: РНБ, 1992. — С. 41-55.
- ↑ 1 2 3 [www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_kino/TSENZURA_TEATRALNAYA.html Цензура театральная]. Энциклопедия Кругосвет. krugosvet.ru. Проверено 29 августа 2011. [www.webcitation.org/64uqjsQpx Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [dic.academic.ru/dic.nsf/sie/19650/ЦЕНЗУРА%7Cwork=Советская историческая энциклопедия Цензура]. dic.academic.ru. Проверено 29 августа 2011.
- ↑ 1 2 [www.gd-archive.ru/index.php?data=teatr&page=4 Театр]. История Российской империи. gd-archive.ru. Проверено 2 сентября 2011. [www.webcitation.org/64uqj7r9Y Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Михайлов, 2003, с. 236.
- ↑ 1 2 Михайлов, 2003, с. 237.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 238.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 240.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 243.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 244.
- ↑ 1 2 Михайлов, 2003, с. 245.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 246.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 247.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 248-9.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 250.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 252.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 258-9.
- ↑ Михайлов, 2003, с. 260.
- ↑ 1 2 Stephen Velychenko. Tsarist Censorship and Ukrainian Historiography, 1828-1906 // Canadian-American Slavic Studies. — Vol. 23. — No. 4 (Winter 1989). — PP. 385—408.
- ↑ 1 2 Рейфман П. С. [reifman.ru/russ-tsenzura/glava-7/ Глава 7. Глухая пора листопада]. Из истории русской, советской и постсоветской цензуры. reifman.ru. Проверено 6 декабря 2011. [www.webcitation.org/64uql6C2R Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Жирков, 2001, Новый век-новые проблемы для цензуры.
- ↑ Жирков, 2001, Борьба за свободу печати: 1905–1907 гг..
- ↑ К.В. Лютова. [vivovoco.astronet.ru/VV/BOOKS/LUTOVA/INTRO.HTM Спецхран Библиотеки Академии наук. Введение]. vivovoco.astronet.ru. Проверено 17 сентября 2011. [www.webcitation.org/64uqmAIkO Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [www.nlr.ru/tus/160305/history.htm Цензура и доступ к информации: история и современность. История конференций]. Российская национальная библиотека. Проверено 17 сентября 2011. [www.webcitation.org/64uqmhJdH Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ [kp.rsl.ru/collections/theme/rsl/rsl10 Коллекция изданий по истории цензуры]. Российская государственная библиотека. Проверено 17 сентября 2011. [www.webcitation.org/64uqnSSfz Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ 1 2 3 Кон, Игорь. [www.neuronet.ru/sexology/chapt601.html Был ли секс на святой Руси?]. Сексуальная культура в России. neuronet.ru. Проверено 7 декабря 2011. [www.webcitation.org/64uqogYQB Архивировано из первоисточника 24 января 2012].
- ↑ Merkle, Denise; O'Sullivan, Carol; Doorslaer, Luc van; Wolf, Michaela. Literary Translation in the Age of Decembrists. The Birth of Productive Censorship in Russia // The power of the pen: translation & censorship in nineteenth-century Europe. — LIT Verlag Münster, 2010. — 298 p. — ISBN 9783643501769.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 27.
- ↑ O'Malley, Lurana Donnels. The dramatic works of Catherine the Great: theatre and politics in eighteenth-century Russia. — Ashgate Publishing, Ltd., 2006. — P. 54. — ISBN 9780754656289.
- ↑ Banham, Martin. The Cambridge guide to theatre. — Cambridge University Press, 1995. — P. 180. — ISBN 9780521434379.
- ↑ Survey of Russian History. — Taylor & Francis, 1961. — P. 102.
- ↑ 1 2 Leatherbarrow, William J.; Offored, Derek. History of Russian Thought. — Cambridge University Press, 2010. — P. 21-2. — ISBN 9780521875219.
- ↑ 1 2 Lee Blaszczyk, Regina. Producing fashion: commerce, culture, and consumers. — University of Pennsylvania Press, 2008. — P. 26. — ISBN 9780812240375.
- ↑ Tossi, Alessandra. Waiting for Pushkin: Russian fiction in the reign of Alexander I (1801-1825). — Rodopi, 2006. — P. 24. — ISBN 9789042018297.
- ↑ Goldsten, Robert Justin. The war for the public mind: political censorship in nineteenth-century Europe. — Greenwood Publishing Group, 2000. — P. 28. — ISBN 9780275964610.
- ↑ Ruud, Charles. Fighting Words: Imperial Censorship and the Russian Press, 1804-1906. — University of Toronto Press, 2009. — P. 7. — ISBN 9781442610248.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 14.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 28-9.
- ↑ Тэкс Чолдин, 2002, с. 228.
</ol>
Напишите отзыв о статье "Цензура в Российской империи"
Литература
- [elib.shpl.ru/ru/nodes/27391-akademiya-nauk-peterburg-zaklyuchenie-imperatorskiy-akademii-nauk-po-voprosu-o-svobode-pechati-v-rossii-proekt#page/1/mode/grid/zoom/1 Заключение императорский Академии наук по вопросу о свободе печати в России: проект. — Без обл. и тит. л., вых. дан. не указаны. — Ориентировоч. дата: 1904 . — II, 31 с. — На рус. яз.]
| |
Портал «Российская империя» |
|---|---|
| |
Портал «Политика» |
- Блюм, Арлен. От неолита до Главлита. — СПб.: Искусство России, 2009. — 272 с. — 5 000 экз. — ISBN 978-5-98361-095-8.
- Блюм, Арлен. Русские писатели о цензуре и цензорах. От Радищева до наших дней. 1790-1990. — Полиграф, 2011. — 608 с. — 2 000 экз. — ISBN 978-5-91868-003-2.
- Жирков, Геннадий. История цензуры в России XIX-XX века. — Аспект-Пресс, 2001. — 368 с. — ISBN 5-7567-0145-1.
- Лемке, Михаил. [leb.nlr.ru/edoc/288071/Эпоха-цензурных-реформ-1859-1865-годов Эпоха цензурных реформ. 1859-1865 годов]. — СПб.: Книгоиздательство М.В. Пирожкова, 1904. — 512 с.
- Рейфман, Павел. [reifman.ru/ Из истории русской, советской и постсоветской цензуры]. — 2001-2003.
- Энгельгардт, Николай. [gbooks.archeologia.ru/Lib_1_30.htm Очерк истории русской цензуры в связи с развитием печати (1703-1903)]. — СПб.: Издание А.С.Суворина, 1904. — 388 с.
- Тэкс Чолдин, Марианна. Империя за забором. История цензуры в царской России / пер. с англ. М. Галушкиной. — Рудомино, 2002. — 309 с. — ISBN 50738001788.
- Михайлов, Владимир. Рассказы о кинематографе старой Москвы. — Материк, 2003. — 280 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-85646-083-9.
- [forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=2538 Устав о цензуре и печати] / сост. В. П. Ширков. — СПб.: Изд. Н.К.Мартынова, 1900. — 302 с.
- [www.prlib.ru/elfapps/pageturner2d/viewer.aspx?orderdate=23.10.2011&DocUNC_ID=351&Token=FisYHMLGkQUEa2i4V5W8/w==&lang=ru-RU Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год]. — СПб.: Типография Морского министерства. — 462 с.
- [rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.2.htm Устав о цензуре и печати в редакции 1906 г.]
- Батурин Ю. М. [vivovoco.astronet.ru/VV/THEME/STOP/BATURIN.HTM Цензура против гласности: от Ивана Грозного до 1917 г.] // Советское государство и право. — Наука, 1989. — Вып. 3.
- Известная и неизвестная эстрада конца XIX — начала XX веков: Каталог фонда цензуры произведений для эстрады Отдела рукописей и редких книг Санкт-Петербургской государственной Театральной библиотеки: 1846—1917 / Сост., вступ. ст., подгот. текста, комм. А. А. Лопатина; Под ред. Т. В. Котовой. — СПб.: Балтийские сезоны, 2011. — 368 с.
- [xn--d1aml.xn--h1aaridg8g.xn--p1ai/19/vremennye-pravila-o-tsenzure-i-pechati/ Временные правила о цензуре и печати]. 06.04.1865. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».
Ссылки
- Водовозов В. В. Цензура // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Отрывок, характеризующий Цензура в Российской империи
Только что князь Андрей отъехал, он остановил его.– Et demandez lui, si les tirailleurs sont postes, – прибавил он. – Ce qu'ils font, ce qu'ils font! [И спросите, размещены ли стрелки. – Что они делают, что они делают!] – проговорил он про себя, все не отвечая австрийцу.
Князь Андрей поскакал исполнять поручение.
Обогнав всё шедшие впереди батальоны, он остановил 3 ю дивизию и убедился, что, действительно, впереди наших колонн не было стрелковой цепи. Полковой командир бывшего впереди полка был очень удивлен переданным ему от главнокомандующего приказанием рассыпать стрелков. Полковой командир стоял тут в полной уверенности, что впереди его есть еще войска, и что неприятель не может быть ближе 10 ти верст. Действительно, впереди ничего не было видно, кроме пустынной местности, склоняющейся вперед и застланной густым туманом. Приказав от имени главнокомандующего исполнить упущенное, князь Андрей поскакал назад. Кутузов стоял всё на том же месте и, старчески опустившись на седле своим тучным телом, тяжело зевал, закрывши глаза. Войска уже не двигались, а стояли ружья к ноге.
– Хорошо, хорошо, – сказал он князю Андрею и обратился к генералу, который с часами в руках говорил, что пора бы двигаться, так как все колонны с левого фланга уже спустились.
– Еще успеем, ваше превосходительство, – сквозь зевоту проговорил Кутузов. – Успеем! – повторил он.
В это время позади Кутузова послышались вдали звуки здоровающихся полков, и голоса эти стали быстро приближаться по всему протяжению растянувшейся линии наступавших русских колонн. Видно было, что тот, с кем здоровались, ехал скоро. Когда закричали солдаты того полка, перед которым стоял Кутузов, он отъехал несколько в сторону и сморщившись оглянулся. По дороге из Працена скакал как бы эскадрон разноцветных всадников. Два из них крупным галопом скакали рядом впереди остальных. Один был в черном мундире с белым султаном на рыжей энглизированной лошади, другой в белом мундире на вороной лошади. Это были два императора со свитой. Кутузов, с аффектацией служаки, находящегося во фронте, скомандовал «смирно» стоявшим войскам и, салютуя, подъехал к императору. Вся его фигура и манера вдруг изменились. Он принял вид подначальственного, нерассуждающего человека. Он с аффектацией почтительности, которая, очевидно, неприятно поразила императора Александра, подъехал и салютовал ему.
Неприятное впечатление, только как остатки тумана на ясном небе, пробежало по молодому и счастливому лицу императора и исчезло. Он был, после нездоровья, несколько худее в этот день, чем на ольмюцком поле, где его в первый раз за границей видел Болконский; но то же обворожительное соединение величавости и кротости было в его прекрасных, серых глазах, и на тонких губах та же возможность разнообразных выражений и преобладающее выражение благодушной, невинной молодости.
На ольмюцком смотру он был величавее, здесь он был веселее и энергичнее. Он несколько разрумянился, прогалопировав эти три версты, и, остановив лошадь, отдохновенно вздохнул и оглянулся на такие же молодые, такие же оживленные, как и его, лица своей свиты. Чарторижский и Новосильцев, и князь Болконский, и Строганов, и другие, все богато одетые, веселые, молодые люди, на прекрасных, выхоленных, свежих, только что слегка вспотевших лошадях, переговариваясь и улыбаясь, остановились позади государя. Император Франц, румяный длиннолицый молодой человек, чрезвычайно прямо сидел на красивом вороном жеребце и озабоченно и неторопливо оглядывался вокруг себя. Он подозвал одного из своих белых адъютантов и спросил что то. «Верно, в котором часу они выехали», подумал князь Андрей, наблюдая своего старого знакомого, с улыбкой, которую он не мог удержать, вспоминая свою аудиенцию. В свите императоров были отобранные молодцы ординарцы, русские и австрийские, гвардейских и армейских полков. Между ними велись берейторами в расшитых попонах красивые запасные царские лошади.
Как будто через растворенное окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную комнату, так пахнуло на невеселый Кутузовский штаб молодостью, энергией и уверенностью в успехе от этой прискакавшей блестящей молодежи.
– Что ж вы не начинаете, Михаил Ларионович? – поспешно обратился император Александр к Кутузову, в то же время учтиво взглянув на императора Франца.
– Я поджидаю, ваше величество, – отвечал Кутузов, почтительно наклоняясь вперед.
Император пригнул ухо, слегка нахмурясь и показывая, что он не расслышал.
– Поджидаю, ваше величество, – повторил Кутузов (князь Андрей заметил, что у Кутузова неестественно дрогнула верхняя губа, в то время как он говорил это поджидаю ). – Не все колонны еще собрались, ваше величество.
Государь расслышал, но ответ этот, видимо, не понравился ему; он пожал сутуловатыми плечами, взглянул на Новосильцева, стоявшего подле, как будто взглядом этим жалуясь на Кутузова.
– Ведь мы не на Царицыном лугу, Михаил Ларионович, где не начинают парада, пока не придут все полки, – сказал государь, снова взглянув в глаза императору Францу, как бы приглашая его, если не принять участие, то прислушаться к тому, что он говорит; но император Франц, продолжая оглядываться, не слушал.
– Потому и не начинаю, государь, – сказал звучным голосом Кутузов, как бы предупреждая возможность не быть расслышанным, и в лице его еще раз что то дрогнуло. – Потому и не начинаю, государь, что мы не на параде и не на Царицыном лугу, – выговорил он ясно и отчетливо.
В свите государя на всех лицах, мгновенно переглянувшихся друг с другом, выразился ропот и упрек. «Как он ни стар, он не должен бы, никак не должен бы говорить этак», выразили эти лица.
Государь пристально и внимательно посмотрел в глаза Кутузову, ожидая, не скажет ли он еще чего. Но Кутузов, с своей стороны, почтительно нагнув голову, тоже, казалось, ожидал. Молчание продолжалось около минуты.
– Впрочем, если прикажете, ваше величество, – сказал Кутузов, поднимая голову и снова изменяя тон на прежний тон тупого, нерассуждающего, но повинующегося генерала.
Он тронул лошадь и, подозвав к себе начальника колонны Милорадовича, передал ему приказание к наступлению.
Войско опять зашевелилось, и два батальона Новгородского полка и батальон Апшеронского полка тронулись вперед мимо государя.
В то время как проходил этот Апшеронский батальон, румяный Милорадович, без шинели, в мундире и орденах и со шляпой с огромным султаном, надетой набекрень и с поля, марш марш выскакал вперед и, молодецки салютуя, осадил лошадь перед государем.
– С Богом, генерал, – сказал ему государь.
– Ma foi, sire, nous ferons ce que qui sera dans notre possibilite, sire, [Право, ваше величество, мы сделаем, что будет нам возможно сделать, ваше величество,] – отвечал он весело, тем не менее вызывая насмешливую улыбку у господ свиты государя своим дурным французским выговором.
Милорадович круто повернул свою лошадь и стал несколько позади государя. Апшеронцы, возбуждаемые присутствием государя, молодецким, бойким шагом отбивая ногу, проходили мимо императоров и их свиты.
– Ребята! – крикнул громким, самоуверенным и веселым голосом Милорадович, видимо, до такой степени возбужденный звуками стрельбы, ожиданием сражения и видом молодцов апшеронцев, еще своих суворовских товарищей, бойко проходивших мимо императоров, что забыл о присутствии государя. – Ребята, вам не первую деревню брать! – крикнул он.
– Рады стараться! – прокричали солдаты.
Лошадь государя шарахнулась от неожиданного крика. Лошадь эта, носившая государя еще на смотрах в России, здесь, на Аустерлицком поле, несла своего седока, выдерживая его рассеянные удары левой ногой, настораживала уши от звуков выстрелов, точно так же, как она делала это на Марсовом поле, не понимая значения ни этих слышавшихся выстрелов, ни соседства вороного жеребца императора Франца, ни всего того, что говорил, думал, чувствовал в этот день тот, кто ехал на ней.
Государь с улыбкой обратился к одному из своих приближенных, указывая на молодцов апшеронцев, и что то сказал ему.
Кутузов, сопутствуемый своими адъютантами, поехал шагом за карабинерами.
Проехав с полверсты в хвосте колонны, он остановился у одинокого заброшенного дома (вероятно, бывшего трактира) подле разветвления двух дорог. Обе дороги спускались под гору, и по обеим шли войска.
Туман начинал расходиться, и неопределенно, верстах в двух расстояния, виднелись уже неприятельские войска на противоположных возвышенностях. Налево внизу стрельба становилась слышнее. Кутузов остановился, разговаривая с австрийским генералом. Князь Андрей, стоя несколько позади, вглядывался в них и, желая попросить зрительную трубу у адъютанта, обратился к нему.
– Посмотрите, посмотрите, – говорил этот адъютант, глядя не на дальнее войско, а вниз по горе перед собой. – Это французы!
Два генерала и адъютанты стали хвататься за трубу, вырывая ее один у другого. Все лица вдруг изменились, и на всех выразился ужас. Французов предполагали за две версты от нас, а они явились вдруг, неожиданно перед нами.
– Это неприятель?… Нет!… Да, смотрите, он… наверное… Что ж это? – послышались голоса.
Князь Андрей простым глазом увидал внизу направо поднимавшуюся навстречу апшеронцам густую колонну французов, не дальше пятисот шагов от того места, где стоял Кутузов.
«Вот она, наступила решительная минута! Дошло до меня дело», подумал князь Андрей, и ударив лошадь, подъехал к Кутузову. «Надо остановить апшеронцев, – закричал он, – ваше высокопревосходительство!» Но в тот же миг всё застлалось дымом, раздалась близкая стрельба, и наивно испуганный голос в двух шагах от князя Андрея закричал: «ну, братцы, шабаш!» И как будто голос этот был команда. По этому голосу всё бросилось бежать.
Смешанные, всё увеличивающиеся толпы бежали назад к тому месту, где пять минут тому назад войска проходили мимо императоров. Не только трудно было остановить эту толпу, но невозможно было самим не податься назад вместе с толпой.
Болконский только старался не отставать от нее и оглядывался, недоумевая и не в силах понять того, что делалось перед ним. Несвицкий с озлобленным видом, красный и на себя не похожий, кричал Кутузову, что ежели он не уедет сейчас, он будет взят в плен наверное. Кутузов стоял на том же месте и, не отвечая, доставал платок. Из щеки его текла кровь. Князь Андрей протеснился до него.
– Вы ранены? – спросил он, едва удерживая дрожание нижней челюсти.
– Раны не здесь, а вот где! – сказал Кутузов, прижимая платок к раненой щеке и указывая на бегущих. – Остановите их! – крикнул он и в то же время, вероятно убедясь, что невозможно было их остановить, ударил лошадь и поехал вправо.
Вновь нахлынувшая толпа бегущих захватила его с собой и повлекла назад.
Войска бежали такой густой толпой, что, раз попавши в середину толпы, трудно было из нее выбраться. Кто кричал: «Пошел! что замешкался?» Кто тут же, оборачиваясь, стрелял в воздух; кто бил лошадь, на которой ехал сам Кутузов. С величайшим усилием выбравшись из потока толпы влево, Кутузов со свитой, уменьшенной более чем вдвое, поехал на звуки близких орудийных выстрелов. Выбравшись из толпы бегущих, князь Андрей, стараясь не отставать от Кутузова, увидал на спуске горы, в дыму, еще стрелявшую русскую батарею и подбегающих к ней французов. Повыше стояла русская пехота, не двигаясь ни вперед на помощь батарее, ни назад по одному направлению с бегущими. Генерал верхом отделился от этой пехоты и подъехал к Кутузову. Из свиты Кутузова осталось только четыре человека. Все были бледны и молча переглядывались.
– Остановите этих мерзавцев! – задыхаясь, проговорил Кутузов полковому командиру, указывая на бегущих; но в то же мгновение, как будто в наказание за эти слова, как рой птичек, со свистом пролетели пули по полку и свите Кутузова.
Французы атаковали батарею и, увидав Кутузова, выстрелили по нем. С этим залпом полковой командир схватился за ногу; упало несколько солдат, и подпрапорщик, стоявший с знаменем, выпустил его из рук; знамя зашаталось и упало, задержавшись на ружьях соседних солдат.
Солдаты без команды стали стрелять.
– Ооох! – с выражением отчаяния промычал Кутузов и оглянулся. – Болконский, – прошептал он дрожащим от сознания своего старческого бессилия голосом. – Болконский, – прошептал он, указывая на расстроенный батальон и на неприятеля, – что ж это?
Но прежде чем он договорил эти слова, князь Андрей, чувствуя слезы стыда и злобы, подступавшие ему к горлу, уже соскакивал с лошади и бежал к знамени.
– Ребята, вперед! – крикнул он детски пронзительно.
«Вот оно!» думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно, направленных именно против него. Несколько солдат упало.
– Ура! – закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним.
Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя и, волоча его за древко, бежал с батальоном. Впереди себя он видел наших артиллеристов, из которых одни дрались, другие бросали пушки и бежали к нему навстречу; он видел и французских пехотных солдат, которые хватали артиллерийских лошадей и поворачивали пушки. Князь Андрей с батальоном уже был в 20 ти шагах от орудий. Он слышал над собою неперестававший свист пуль, и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них; он вглядывался только в то, что происходило впереди его – на батарее. Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с сбитым на бок кивером, тянущего с одной стороны банник, тогда как французский солдат тянул банник к себе за другую сторону. Князь Андрей видел уже ясно растерянное и вместе озлобленное выражение лиц этих двух людей, видимо, не понимавших того, что они делали.
«Что они делают? – думал князь Андрей, глядя на них: – зачем не бежит рыжий артиллерист, когда у него нет оружия? Зачем не колет его француз? Не успеет добежать, как француз вспомнит о ружье и заколет его».
Действительно, другой француз, с ружьем на перевес подбежал к борющимся, и участь рыжего артиллериста, всё еще не понимавшего того, что ожидает его, и с торжеством выдернувшего банник, должна была решиться. Но князь Андрей не видал, чем это кончилось. Как бы со всего размаха крепкой палкой кто то из ближайших солдат, как ему показалось, ударил его в голову. Немного это больно было, а главное, неприятно, потому что боль эта развлекала его и мешала ему видеть то, на что он смотрел.
«Что это? я падаю? у меня ноги подкашиваются», подумал он и упал на спину. Он раскрыл глаза, надеясь увидать, чем кончилась борьба французов с артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист, взяты или спасены пушки. Но он ничего не видал. Над ним не было ничего уже, кроме неба – высокого неба, не ясного, но всё таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем серыми облаками. «Как тихо, спокойно и торжественно, совсем не так, как я бежал, – подумал князь Андрей, – не так, как мы бежали, кричали и дрались; совсем не так, как с озлобленными и испуганными лицами тащили друг у друга банник француз и артиллерист, – совсем не так ползут облака по этому высокому бесконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, я, что узнал его наконец. Да! всё пустое, всё обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме его. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И слава Богу!…»
На правом фланге у Багратиона в 9 ть часов дело еще не начиналось. Не желая согласиться на требование Долгорукова начинать дело и желая отклонить от себя ответственность, князь Багратион предложил Долгорукову послать спросить о том главнокомандующего. Багратион знал, что, по расстоянию почти 10 ти верст, отделявшему один фланг от другого, ежели не убьют того, кого пошлют (что было очень вероятно), и ежели он даже и найдет главнокомандующего, что было весьма трудно, посланный не успеет вернуться раньше вечера.
Багратион оглянул свою свиту своими большими, ничего невыражающими, невыспавшимися глазами, и невольно замиравшее от волнения и надежды детское лицо Ростова первое бросилось ему в глаза. Он послал его.
– А ежели я встречу его величество прежде, чем главнокомандующего, ваше сиятельство? – сказал Ростов, держа руку у козырька.
– Можете передать его величеству, – поспешно перебивая Багратиона, сказал Долгоруков.
Сменившись из цепи, Ростов успел соснуть несколько часов перед утром и чувствовал себя веселым, смелым, решительным, с тою упругостью движений, уверенностью в свое счастие и в том расположении духа, в котором всё кажется легко, весело и возможно.
Все желания его исполнялись в это утро; давалось генеральное сражение, он участвовал в нем; мало того, он был ординарцем при храбрейшем генерале; мало того, он ехал с поручением к Кутузову, а может быть, и к самому государю. Утро было ясное, лошадь под ним была добрая. На душе его было радостно и счастливо. Получив приказание, он пустил лошадь и поскакал вдоль по линии. Сначала он ехал по линии Багратионовых войск, еще не вступавших в дело и стоявших неподвижно; потом он въехал в пространство, занимаемое кавалерией Уварова и здесь заметил уже передвижения и признаки приготовлений к делу; проехав кавалерию Уварова, он уже ясно услыхал звуки пушечной и орудийной стрельбы впереди себя. Стрельба всё усиливалась.
В свежем, утреннем воздухе раздавались уже, не как прежде в неравные промежутки, по два, по три выстрела и потом один или два орудийных выстрела, а по скатам гор, впереди Працена, слышались перекаты ружейной пальбы, перебиваемой такими частыми выстрелами из орудий, что иногда несколько пушечных выстрелов уже не отделялись друг от друга, а сливались в один общий гул.
Видно было, как по скатам дымки ружей как будто бегали, догоняя друг друга, и как дымы орудий клубились, расплывались и сливались одни с другими. Видны были, по блеску штыков между дымом, двигавшиеся массы пехоты и узкие полосы артиллерии с зелеными ящиками.
Ростов на пригорке остановил на минуту лошадь, чтобы рассмотреть то, что делалось; но как он ни напрягал внимание, он ничего не мог ни понять, ни разобрать из того, что делалось: двигались там в дыму какие то люди, двигались и спереди и сзади какие то холсты войск; но зачем? кто? куда? нельзя было понять. Вид этот и звуки эти не только не возбуждали в нем какого нибудь унылого или робкого чувства, но, напротив, придавали ему энергии и решительности.
«Ну, еще, еще наддай!» – обращался он мысленно к этим звукам и опять пускался скакать по линии, всё дальше и дальше проникая в область войск, уже вступивших в дело.
«Уж как это там будет, не знаю, а всё будет хорошо!» думал Ростов.
Проехав какие то австрийские войска, Ростов заметил, что следующая за тем часть линии (это была гвардия) уже вступила в дело.
«Тем лучше! посмотрю вблизи», подумал он.
Он поехал почти по передней линии. Несколько всадников скакали по направлению к нему. Это были наши лейб уланы, которые расстроенными рядами возвращались из атаки. Ростов миновал их, заметил невольно одного из них в крови и поскакал дальше.
«Мне до этого дела нет!» подумал он. Не успел он проехать нескольких сот шагов после этого, как влево от него, наперерез ему, показалась на всем протяжении поля огромная масса кавалеристов на вороных лошадях, в белых блестящих мундирах, которые рысью шли прямо на него. Ростов пустил лошадь во весь скок, для того чтоб уехать с дороги от этих кавалеристов, и он бы уехал от них, ежели бы они шли всё тем же аллюром, но они всё прибавляли хода, так что некоторые лошади уже скакали. Ростову всё слышнее и слышнее становился их топот и бряцание их оружия и виднее становились их лошади, фигуры и даже лица. Это были наши кавалергарды, шедшие в атаку на французскую кавалерию, подвигавшуюся им навстречу.
Кавалергарды скакали, но еще удерживая лошадей. Ростов уже видел их лица и услышал команду: «марш, марш!» произнесенную офицером, выпустившим во весь мах свою кровную лошадь. Ростов, опасаясь быть раздавленным или завлеченным в атаку на французов, скакал вдоль фронта, что было мочи у его лошади, и всё таки не успел миновать их.
Крайний кавалергард, огромный ростом рябой мужчина, злобно нахмурился, увидав перед собой Ростова, с которым он неминуемо должен был столкнуться. Этот кавалергард непременно сбил бы с ног Ростова с его Бедуином (Ростов сам себе казался таким маленьким и слабеньким в сравнении с этими громадными людьми и лошадьми), ежели бы он не догадался взмахнуть нагайкой в глаза кавалергардовой лошади. Вороная, тяжелая, пятивершковая лошадь шарахнулась, приложив уши; но рябой кавалергард всадил ей с размаху в бока огромные шпоры, и лошадь, взмахнув хвостом и вытянув шею, понеслась еще быстрее. Едва кавалергарды миновали Ростова, как он услыхал их крик: «Ура!» и оглянувшись увидал, что передние ряды их смешивались с чужими, вероятно французскими, кавалеристами в красных эполетах. Дальше нельзя было ничего видеть, потому что тотчас же после этого откуда то стали стрелять пушки, и всё застлалось дымом.
В ту минуту как кавалергарды, миновав его, скрылись в дыму, Ростов колебался, скакать ли ему за ними или ехать туда, куда ему нужно было. Это была та блестящая атака кавалергардов, которой удивлялись сами французы. Ростову страшно было слышать потом, что из всей этой массы огромных красавцев людей, из всех этих блестящих, на тысячных лошадях, богачей юношей, офицеров и юнкеров, проскакавших мимо его, после атаки осталось только осьмнадцать человек.
«Что мне завидовать, мое не уйдет, и я сейчас, может быть, увижу государя!» подумал Ростов и поскакал дальше.
Поровнявшись с гвардейской пехотой, он заметил, что чрез нее и около нее летали ядры, не столько потому, что он слышал звук ядер, сколько потому, что на лицах солдат он увидал беспокойство и на лицах офицеров – неестественную, воинственную торжественность.
Проезжая позади одной из линий пехотных гвардейских полков, он услыхал голос, назвавший его по имени.
– Ростов!
– Что? – откликнулся он, не узнавая Бориса.
– Каково? в первую линию попали! Наш полк в атаку ходил! – сказал Борис, улыбаясь той счастливой улыбкой, которая бывает у молодых людей, в первый раз побывавших в огне.
Ростов остановился.
– Вот как! – сказал он. – Ну что?
– Отбили! – оживленно сказал Борис, сделавшийся болтливым. – Ты можешь себе представить?
И Борис стал рассказывать, каким образом гвардия, ставши на место и увидав перед собой войска, приняла их за австрийцев и вдруг по ядрам, пущенным из этих войск, узнала, что она в первой линии, и неожиданно должна была вступить в дело. Ростов, не дослушав Бориса, тронул свою лошадь.
– Ты куда? – спросил Борис.
– К его величеству с поручением.
– Вот он! – сказал Борис, которому послышалось, что Ростову нужно было его высочество, вместо его величества.
И он указал ему на великого князя, который в ста шагах от них, в каске и в кавалергардском колете, с своими поднятыми плечами и нахмуренными бровями, что то кричал австрийскому белому и бледному офицеру.
– Да ведь это великий князь, а мне к главнокомандующему или к государю, – сказал Ростов и тронул было лошадь.
– Граф, граф! – кричал Берг, такой же оживленный, как и Борис, подбегая с другой стороны, – граф, я в правую руку ранен (говорил он, показывая кисть руки, окровавленную, обвязанную носовым платком) и остался во фронте. Граф, держу шпагу в левой руке: в нашей породе фон Бергов, граф, все были рыцари.
Берг еще что то говорил, но Ростов, не дослушав его, уже поехал дальше.
Проехав гвардию и пустой промежуток, Ростов, для того чтобы не попасть опять в первую линию, как он попал под атаку кавалергардов, поехал по линии резервов, далеко объезжая то место, где слышалась самая жаркая стрельба и канонада. Вдруг впереди себя и позади наших войск, в таком месте, где он никак не мог предполагать неприятеля, он услыхал близкую ружейную стрельбу.
«Что это может быть? – подумал Ростов. – Неприятель в тылу наших войск? Не может быть, – подумал Ростов, и ужас страха за себя и за исход всего сражения вдруг нашел на него. – Что бы это ни было, однако, – подумал он, – теперь уже нечего объезжать. Я должен искать главнокомандующего здесь, и ежели всё погибло, то и мое дело погибнуть со всеми вместе».
Дурное предчувствие, нашедшее вдруг на Ростова, подтверждалось всё более и более, чем дальше он въезжал в занятое толпами разнородных войск пространство, находящееся за деревнею Працом.
– Что такое? Что такое? По ком стреляют? Кто стреляет? – спрашивал Ростов, ровняясь с русскими и австрийскими солдатами, бежавшими перемешанными толпами наперерез его дороги.
– А чорт их знает? Всех побил! Пропадай всё! – отвечали ему по русски, по немецки и по чешски толпы бегущих и непонимавших точно так же, как и он, того, что тут делалось.
– Бей немцев! – кричал один.
– А чорт их дери, – изменников.
– Zum Henker diese Ruesen… [К чорту этих русских…] – что то ворчал немец.
Несколько раненых шли по дороге. Ругательства, крики, стоны сливались в один общий гул. Стрельба затихла и, как потом узнал Ростов, стреляли друг в друга русские и австрийские солдаты.
«Боже мой! что ж это такое? – думал Ростов. – И здесь, где всякую минуту государь может увидать их… Но нет, это, верно, только несколько мерзавцев. Это пройдет, это не то, это не может быть, – думал он. – Только поскорее, поскорее проехать их!»
Мысль о поражении и бегстве не могла притти в голову Ростову. Хотя он и видел французские орудия и войска именно на Праценской горе, на той самой, где ему велено было отыскивать главнокомандующего, он не мог и не хотел верить этому.
Около деревни Праца Ростову велено было искать Кутузова и государя. Но здесь не только не было их, но не было ни одного начальника, а были разнородные толпы расстроенных войск.
Он погонял уставшую уже лошадь, чтобы скорее проехать эти толпы, но чем дальше он подвигался, тем толпы становились расстроеннее. По большой дороге, на которую он выехал, толпились коляски, экипажи всех сортов, русские и австрийские солдаты, всех родов войск, раненые и нераненые. Всё это гудело и смешанно копошилось под мрачный звук летавших ядер с французских батарей, поставленных на Праценских высотах.
– Где государь? где Кутузов? – спрашивал Ростов у всех, кого мог остановить, и ни от кого не мог получить ответа.
Наконец, ухватив за воротник солдата, он заставил его ответить себе.
– Э! брат! Уж давно все там, вперед удрали! – сказал Ростову солдат, смеясь чему то и вырываясь.
Оставив этого солдата, который, очевидно, был пьян, Ростов остановил лошадь денщика или берейтора важного лица и стал расспрашивать его. Денщик объявил Ростову, что государя с час тому назад провезли во весь дух в карете по этой самой дороге, и что государь опасно ранен.
– Не может быть, – сказал Ростов, – верно, другой кто.
– Сам я видел, – сказал денщик с самоуверенной усмешкой. – Уж мне то пора знать государя: кажется, сколько раз в Петербурге вот так то видал. Бледный, пребледный в карете сидит. Четверню вороных как припустит, батюшки мои, мимо нас прогремел: пора, кажется, и царских лошадей и Илью Иваныча знать; кажется, с другим как с царем Илья кучер не ездит.
Ростов пустил его лошадь и хотел ехать дальше. Шедший мимо раненый офицер обратился к нему.
– Да вам кого нужно? – спросил офицер. – Главнокомандующего? Так убит ядром, в грудь убит при нашем полку.
– Не убит, ранен, – поправил другой офицер.
– Да кто? Кутузов? – спросил Ростов.
– Не Кутузов, а как бишь его, – ну, да всё одно, живых не много осталось. Вон туда ступайте, вон к той деревне, там всё начальство собралось, – сказал этот офицер, указывая на деревню Гостиерадек, и прошел мимо.
Ростов ехал шагом, не зная, зачем и к кому он теперь поедет. Государь ранен, сражение проиграно. Нельзя было не верить этому теперь. Ростов ехал по тому направлению, которое ему указали и по которому виднелись вдалеке башня и церковь. Куда ему было торопиться? Что ему было теперь говорить государю или Кутузову, ежели бы даже они и были живы и не ранены?
– Этой дорогой, ваше благородие, поезжайте, а тут прямо убьют, – закричал ему солдат. – Тут убьют!
– О! что говоришь! сказал другой. – Куда он поедет? Тут ближе.
Ростов задумался и поехал именно по тому направлению, где ему говорили, что убьют.
«Теперь всё равно: уж ежели государь ранен, неужели мне беречь себя?» думал он. Он въехал в то пространство, на котором более всего погибло людей, бегущих с Працена. Французы еще не занимали этого места, а русские, те, которые были живы или ранены, давно оставили его. На поле, как копны на хорошей пашне, лежало человек десять, пятнадцать убитых, раненых на каждой десятине места. Раненые сползались по два, по три вместе, и слышались неприятные, иногда притворные, как казалось Ростову, их крики и стоны. Ростов пустил лошадь рысью, чтобы не видать всех этих страдающих людей, и ему стало страшно. Он боялся не за свою жизнь, а за то мужество, которое ему нужно было и которое, он знал, не выдержит вида этих несчастных.
Французы, переставшие стрелять по этому, усеянному мертвыми и ранеными, полю, потому что уже никого на нем живого не было, увидав едущего по нем адъютанта, навели на него орудие и бросили несколько ядер. Чувство этих свистящих, страшных звуков и окружающие мертвецы слились для Ростова в одно впечатление ужаса и сожаления к себе. Ему вспомнилось последнее письмо матери. «Что бы она почувствовала, – подумал он, – коль бы она видела меня теперь здесь, на этом поле и с направленными на меня орудиями».
В деревне Гостиерадеке были хотя и спутанные, но в большем порядке русские войска, шедшие прочь с поля сражения. Сюда уже не доставали французские ядра, и звуки стрельбы казались далекими. Здесь все уже ясно видели и говорили, что сражение проиграно. К кому ни обращался Ростов, никто не мог сказать ему, ни где был государь, ни где был Кутузов. Одни говорили, что слух о ране государя справедлив, другие говорили, что нет, и объясняли этот ложный распространившийся слух тем, что, действительно, в карете государя проскакал назад с поля сражения бледный и испуганный обер гофмаршал граф Толстой, выехавший с другими в свите императора на поле сражения. Один офицер сказал Ростову, что за деревней, налево, он видел кого то из высшего начальства, и Ростов поехал туда, уже не надеясь найти кого нибудь, но для того только, чтобы перед самим собою очистить свою совесть. Проехав версты три и миновав последние русские войска, около огорода, окопанного канавой, Ростов увидал двух стоявших против канавы всадников. Один, с белым султаном на шляпе, показался почему то знакомым Ростову; другой, незнакомый всадник, на прекрасной рыжей лошади (лошадь эта показалась знакомою Ростову) подъехал к канаве, толкнул лошадь шпорами и, выпустив поводья, легко перепрыгнул через канаву огорода. Только земля осыпалась с насыпи от задних копыт лошади. Круто повернув лошадь, он опять назад перепрыгнул канаву и почтительно обратился к всаднику с белым султаном, очевидно, предлагая ему сделать то же. Всадник, которого фигура показалась знакома Ростову и почему то невольно приковала к себе его внимание, сделал отрицательный жест головой и рукой, и по этому жесту Ростов мгновенно узнал своего оплакиваемого, обожаемого государя.
«Но это не мог быть он, один посреди этого пустого поля», подумал Ростов. В это время Александр повернул голову, и Ростов увидал так живо врезавшиеся в его памяти любимые черты. Государь был бледен, щеки его впали и глаза ввалились; но тем больше прелести, кротости было в его чертах. Ростов был счастлив, убедившись в том, что слух о ране государя был несправедлив. Он был счастлив, что видел его. Он знал, что мог, даже должен был прямо обратиться к нему и передать то, что приказано было ему передать от Долгорукова.
Но как влюбленный юноша дрожит и млеет, не смея сказать того, о чем он мечтает ночи, и испуганно оглядывается, ища помощи или возможности отсрочки и бегства, когда наступила желанная минута, и он стоит наедине с ней, так и Ростов теперь, достигнув того, чего он желал больше всего на свете, не знал, как подступить к государю, и ему представлялись тысячи соображений, почему это было неудобно, неприлично и невозможно.
«Как! Я как будто рад случаю воспользоваться тем, что он один и в унынии. Ему неприятно и тяжело может показаться неизвестное лицо в эту минуту печали; потом, что я могу сказать ему теперь, когда при одном взгляде на него у меня замирает сердце и пересыхает во рту?» Ни одна из тех бесчисленных речей, которые он, обращая к государю, слагал в своем воображении, не приходила ему теперь в голову. Те речи большею частию держались совсем при других условиях, те говорились большею частию в минуту побед и торжеств и преимущественно на смертном одре от полученных ран, в то время как государь благодарил его за геройские поступки, и он, умирая, высказывал ему подтвержденную на деле любовь свою.
«Потом, что же я буду спрашивать государя об его приказаниях на правый фланг, когда уже теперь 4 й час вечера, и сражение проиграно? Нет, решительно я не должен подъезжать к нему. Не должен нарушать его задумчивость. Лучше умереть тысячу раз, чем получить от него дурной взгляд, дурное мнение», решил Ростов и с грустью и с отчаянием в сердце поехал прочь, беспрестанно оглядываясь на всё еще стоявшего в том же положении нерешительности государя.
В то время как Ростов делал эти соображения и печально отъезжал от государя, капитан фон Толь случайно наехал на то же место и, увидав государя, прямо подъехал к нему, предложил ему свои услуги и помог перейти пешком через канаву. Государь, желая отдохнуть и чувствуя себя нездоровым, сел под яблочное дерево, и Толь остановился подле него. Ростов издалека с завистью и раскаянием видел, как фон Толь что то долго и с жаром говорил государю, как государь, видимо, заплакав, закрыл глаза рукой и пожал руку Толю.
«И это я мог бы быть на его месте?» подумал про себя Ростов и, едва удерживая слезы сожаления об участи государя, в совершенном отчаянии поехал дальше, не зная, куда и зачем он теперь едет.
Его отчаяние было тем сильнее, что он чувствовал, что его собственная слабость была причиной его горя.
Он мог бы… не только мог бы, но он должен был подъехать к государю. И это был единственный случай показать государю свою преданность. И он не воспользовался им… «Что я наделал?» подумал он. И он повернул лошадь и поскакал назад к тому месту, где видел императора; но никого уже не было за канавой. Только ехали повозки и экипажи. От одного фурмана Ростов узнал, что Кутузовский штаб находится неподалеку в деревне, куда шли обозы. Ростов поехал за ними.
Впереди его шел берейтор Кутузова, ведя лошадей в попонах. За берейтором ехала повозка, и за повозкой шел старик дворовый, в картузе, полушубке и с кривыми ногами.
– Тит, а Тит! – сказал берейтор.
– Чего? – рассеянно отвечал старик.
– Тит! Ступай молотить.
– Э, дурак, тьфу! – сердито плюнув, сказал старик. Прошло несколько времени молчаливого движения, и повторилась опять та же шутка.
В пятом часу вечера сражение было проиграно на всех пунктах. Более ста орудий находилось уже во власти французов.
Пржебышевский с своим корпусом положил оружие. Другие колонны, растеряв около половины людей, отступали расстроенными, перемешанными толпами.
Остатки войск Ланжерона и Дохтурова, смешавшись, теснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Аугеста.
В 6 м часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канонада одних французов, выстроивших многочисленные батареи на спуске Праценских высот и бивших по нашим отступающим войскам.
В арьергарде Дохтуров и другие, собирая батальоны, отстреливались от французской кавалерии, преследовавшей наших. Начинало смеркаться. На узкой плотине Аугеста, на которой столько лет мирно сиживал в колпаке старичок мельник с удочками, в то время как внук его, засучив рукава рубашки, перебирал в лейке серебряную трепещущую рыбу; на этой плотине, по которой столько лет мирно проезжали на своих парных возах, нагруженных пшеницей, в мохнатых шапках и синих куртках моравы и, запыленные мукой, с белыми возами уезжали по той же плотине, – на этой узкой плотине теперь между фурами и пушками, под лошадьми и между колес толпились обезображенные страхом смерти люди, давя друг друга, умирая, шагая через умирающих и убивая друг друга для того только, чтобы, пройдя несколько шагов, быть точно. так же убитыми.
Каждые десять секунд, нагнетая воздух, шлепало ядро или разрывалась граната в средине этой густой толпы, убивая и обрызгивая кровью тех, которые стояли близко. Долохов, раненый в руку, пешком с десятком солдат своей роты (он был уже офицер) и его полковой командир, верхом, представляли из себя остатки всего полка. Влекомые толпой, они втеснились во вход к плотине и, сжатые со всех сторон, остановились, потому что впереди упала лошадь под пушкой, и толпа вытаскивала ее. Одно ядро убило кого то сзади их, другое ударилось впереди и забрызгало кровью Долохова. Толпа отчаянно надвинулась, сжалась, тронулась несколько шагов и опять остановилась.
Пройти эти сто шагов, и, наверное, спасен; простоять еще две минуты, и погиб, наверное, думал каждый. Долохов, стоявший в середине толпы, рванулся к краю плотины, сбив с ног двух солдат, и сбежал на скользкий лед, покрывший пруд.
– Сворачивай, – закричал он, подпрыгивая по льду, который трещал под ним, – сворачивай! – кричал он на орудие. – Держит!…
Лед держал его, но гнулся и трещал, и очевидно было, что не только под орудием или толпой народа, но под ним одним он сейчас рухнется. На него смотрели и жались к берегу, не решаясь еще ступить на лед. Командир полка, стоявший верхом у въезда, поднял руку и раскрыл рот, обращаясь к Долохову. Вдруг одно из ядер так низко засвистело над толпой, что все нагнулись. Что то шлепнулось в мокрое, и генерал упал с лошадью в лужу крови. Никто не взглянул на генерала, не подумал поднять его.
– Пошел на лед! пошел по льду! Пошел! вороти! аль не слышишь! Пошел! – вдруг после ядра, попавшего в генерала, послышались бесчисленные голоса, сами не зная, что и зачем кричавшие.
Одно из задних орудий, вступавшее на плотину, своротило на лед. Толпы солдат с плотины стали сбегать на замерзший пруд. Под одним из передних солдат треснул лед, и одна нога ушла в воду; он хотел оправиться и провалился по пояс.
Ближайшие солдаты замялись, орудийный ездовой остановил свою лошадь, но сзади всё еще слышались крики: «Пошел на лед, что стал, пошел! пошел!» И крики ужаса послышались в толпе. Солдаты, окружавшие орудие, махали на лошадей и били их, чтобы они сворачивали и подвигались. Лошади тронулись с берега. Лед, державший пеших, рухнулся огромным куском, и человек сорок, бывших на льду, бросились кто вперед, кто назад, потопляя один другого.
Ядра всё так же равномерно свистели и шлепались на лед, в воду и чаще всего в толпу, покрывавшую плотину, пруды и берег.
На Праценской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Болконский, истекая кровью, и, сам не зная того, стонал тихим, жалостным и детским стоном.
К вечеру он перестал стонать и совершенно затих. Он не знал, как долго продолжалось его забытье. Вдруг он опять чувствовал себя живым и страдающим от жгучей и разрывающей что то боли в голове.
«Где оно, это высокое небо, которое я не знал до сих пор и увидал нынче?» было первою его мыслью. «И страдания этого я не знал также, – подумал он. – Да, я ничего, ничего не знал до сих пор. Но где я?»
Он стал прислушиваться и услыхал звуки приближающегося топота лошадей и звуки голосов, говоривших по французски. Он раскрыл глаза. Над ним было опять всё то же высокое небо с еще выше поднявшимися плывущими облаками, сквозь которые виднелась синеющая бесконечность. Он не поворачивал головы и не видал тех, которые, судя по звуку копыт и голосов, подъехали к нему и остановились.
Подъехавшие верховые были Наполеон, сопутствуемый двумя адъютантами. Бонапарте, объезжая поле сражения, отдавал последние приказания об усилении батарей стреляющих по плотине Аугеста и рассматривал убитых и раненых, оставшихся на поле сражения.
– De beaux hommes! [Красавцы!] – сказал Наполеон, глядя на убитого русского гренадера, который с уткнутым в землю лицом и почернелым затылком лежал на животе, откинув далеко одну уже закоченевшую руку.
– Les munitions des pieces de position sont epuisees, sire! [Батарейных зарядов больше нет, ваше величество!] – сказал в это время адъютант, приехавший с батарей, стрелявших по Аугесту.
– Faites avancer celles de la reserve, [Велите привезти из резервов,] – сказал Наполеон, и, отъехав несколько шагов, он остановился над князем Андреем, лежавшим навзничь с брошенным подле него древком знамени (знамя уже, как трофей, было взято французами).
– Voila une belle mort, [Вот прекрасная смерть,] – сказал Наполеон, глядя на Болконского.
Князь Андрей понял, что это было сказано о нем, и что говорит это Наполеон. Он слышал, как называли sire того, кто сказал эти слова. Но он слышал эти слова, как бы он слышал жужжание мухи. Он не только не интересовался ими, но он и не заметил, а тотчас же забыл их. Ему жгло голову; он чувствовал, что он исходит кровью, и он видел над собою далекое, высокое и вечное небо. Он знал, что это был Наполеон – его герой, но в эту минуту Наполеон казался ему столь маленьким, ничтожным человеком в сравнении с тем, что происходило теперь между его душой и этим высоким, бесконечным небом с бегущими по нем облаками. Ему было совершенно всё равно в эту минуту, кто бы ни стоял над ним, что бы ни говорил об нем; он рад был только тому, что остановились над ним люди, и желал только, чтоб эти люди помогли ему и возвратили бы его к жизни, которая казалась ему столь прекрасною, потому что он так иначе понимал ее теперь. Он собрал все свои силы, чтобы пошевелиться и произвести какой нибудь звук. Он слабо пошевелил ногою и произвел самого его разжалобивший, слабый, болезненный стон.
– А! он жив, – сказал Наполеон. – Поднять этого молодого человека, ce jeune homme, и свезти на перевязочный пункт!
Сказав это, Наполеон поехал дальше навстречу к маршалу Лану, который, сняв шляпу, улыбаясь и поздравляя с победой, подъезжал к императору.
Князь Андрей не помнил ничего дальше: он потерял сознание от страшной боли, которую причинили ему укладывание на носилки, толчки во время движения и сондирование раны на перевязочном пункте. Он очнулся уже только в конце дня, когда его, соединив с другими русскими ранеными и пленными офицерами, понесли в госпиталь. На этом передвижении он чувствовал себя несколько свежее и мог оглядываться и даже говорить.
Первые слова, которые он услыхал, когда очнулся, – были слова французского конвойного офицера, который поспешно говорил:
– Надо здесь остановиться: император сейчас проедет; ему доставит удовольствие видеть этих пленных господ.
– Нынче так много пленных, чуть не вся русская армия, что ему, вероятно, это наскучило, – сказал другой офицер.
– Ну, однако! Этот, говорят, командир всей гвардии императора Александра, – сказал первый, указывая на раненого русского офицера в белом кавалергардском мундире.
Болконский узнал князя Репнина, которого он встречал в петербургском свете. Рядом с ним стоял другой, 19 летний мальчик, тоже раненый кавалергардский офицер.
Бонапарте, подъехав галопом, остановил лошадь.
– Кто старший? – сказал он, увидав пленных.
Назвали полковника, князя Репнина.
– Вы командир кавалергардского полка императора Александра? – спросил Наполеон.
– Я командовал эскадроном, – отвечал Репнин.
– Ваш полк честно исполнил долг свой, – сказал Наполеон.
– Похвала великого полководца есть лучшая награда cолдату, – сказал Репнин.
– С удовольствием отдаю ее вам, – сказал Наполеон. – Кто этот молодой человек подле вас?
Князь Репнин назвал поручика Сухтелена.
Посмотрев на него, Наполеон сказал, улыбаясь:
– II est venu bien jeune se frotter a nous. [Молод же явился он состязаться с нами.]
– Молодость не мешает быть храбрым, – проговорил обрывающимся голосом Сухтелен.
– Прекрасный ответ, – сказал Наполеон. – Молодой человек, вы далеко пойдете!
Князь Андрей, для полноты трофея пленников выставленный также вперед, на глаза императору, не мог не привлечь его внимания. Наполеон, видимо, вспомнил, что он видел его на поле и, обращаясь к нему, употребил то самое наименование молодого человека – jeune homme, под которым Болконский в первый раз отразился в его памяти.
– Et vous, jeune homme? Ну, а вы, молодой человек? – обратился он к нему, – как вы себя чувствуете, mon brave?
Несмотря на то, что за пять минут перед этим князь Андрей мог сказать несколько слов солдатам, переносившим его, он теперь, прямо устремив свои глаза на Наполеона, молчал… Ему так ничтожны казались в эту минуту все интересы, занимавшие Наполеона, так мелочен казался ему сам герой его, с этим мелким тщеславием и радостью победы, в сравнении с тем высоким, справедливым и добрым небом, которое он видел и понял, – что он не мог отвечать ему.
Да и всё казалось так бесполезно и ничтожно в сравнении с тем строгим и величественным строем мысли, который вызывали в нем ослабление сил от истекшей крови, страдание и близкое ожидание смерти. Глядя в глаза Наполеону, князь Андрей думал о ничтожности величия, о ничтожности жизни, которой никто не мог понять значения, и о еще большем ничтожестве смерти, смысл которой никто не мог понять и объяснить из живущих.
Император, не дождавшись ответа, отвернулся и, отъезжая, обратился к одному из начальников:
– Пусть позаботятся об этих господах и свезут их в мой бивуак; пускай мой доктор Ларрей осмотрит их раны. До свидания, князь Репнин, – и он, тронув лошадь, галопом поехал дальше.
На лице его было сиянье самодовольства и счастия.
Солдаты, принесшие князя Андрея и снявшие с него попавшийся им золотой образок, навешенный на брата княжною Марьею, увидав ласковость, с которою обращался император с пленными, поспешили возвратить образок.
Князь Андрей не видал, кто и как надел его опять, но на груди его сверх мундира вдруг очутился образок на мелкой золотой цепочке.
«Хорошо бы это было, – подумал князь Андрей, взглянув на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесила на него сестра, – хорошо бы это было, ежели бы всё было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!… Но кому я скажу это! Или сила – неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, – великое всё или ничего, – говорил он сам себе, – или это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладонке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего то непонятного, но важнейшего!»
Носилки тронулись. При каждом толчке он опять чувствовал невыносимую боль; лихорадочное состояние усилилось, и он начинал бредить. Те мечтания об отце, жене, сестре и будущем сыне и нежность, которую он испытывал в ночь накануне сражения, фигура маленького, ничтожного Наполеона и над всем этим высокое небо, составляли главное основание его горячечных представлений.
Тихая жизнь и спокойное семейное счастие в Лысых Горах представлялись ему. Он уже наслаждался этим счастием, когда вдруг являлся маленький Напoлеон с своим безучастным, ограниченным и счастливым от несчастия других взглядом, и начинались сомнения, муки, и только небо обещало успокоение. К утру все мечтания смешались и слились в хаос и мрак беспамятства и забвения, которые гораздо вероятнее, по мнению самого Ларрея, доктора Наполеона, должны были разрешиться смертью, чем выздоровлением.
– C'est un sujet nerveux et bilieux, – сказал Ларрей, – il n'en rechappera pas. [Это человек нервный и желчный, он не выздоровеет.]
Князь Андрей, в числе других безнадежных раненых, был сдан на попечение жителей.
В начале 1806 года Николай Ростов вернулся в отпуск. Денисов ехал тоже домой в Воронеж, и Ростов уговорил его ехать с собой до Москвы и остановиться у них в доме. На предпоследней станции, встретив товарища, Денисов выпил с ним три бутылки вина и подъезжая к Москве, несмотря на ухабы дороги, не просыпался, лежа на дне перекладных саней, подле Ростова, который, по мере приближения к Москве, приходил все более и более в нетерпение.
«Скоро ли? Скоро ли? О, эти несносные улицы, лавки, калачи, фонари, извозчики!» думал Ростов, когда уже они записали свои отпуски на заставе и въехали в Москву.
– Денисов, приехали! Спит! – говорил он, всем телом подаваясь вперед, как будто он этим положением надеялся ускорить движение саней. Денисов не откликался.
– Вот он угол перекресток, где Захар извозчик стоит; вот он и Захар, и всё та же лошадь. Вот и лавочка, где пряники покупали. Скоро ли? Ну!
– К какому дому то? – спросил ямщик.
– Да вон на конце, к большому, как ты не видишь! Это наш дом, – говорил Ростов, – ведь это наш дом! Денисов! Денисов! Сейчас приедем.
Денисов поднял голову, откашлялся и ничего не ответил.
– Дмитрий, – обратился Ростов к лакею на облучке. – Ведь это у нас огонь?
– Так точно с и у папеньки в кабинете светится.
– Еще не ложились? А? как ты думаешь? Смотри же не забудь, тотчас достань мне новую венгерку, – прибавил Ростов, ощупывая новые усы. – Ну же пошел, – кричал он ямщику. – Да проснись же, Вася, – обращался он к Денисову, который опять опустил голову. – Да ну же, пошел, три целковых на водку, пошел! – закричал Ростов, когда уже сани были за три дома от подъезда. Ему казалось, что лошади не двигаются. Наконец сани взяли вправо к подъезду; над головой своей Ростов увидал знакомый карниз с отбитой штукатуркой, крыльцо, тротуарный столб. Он на ходу выскочил из саней и побежал в сени. Дом также стоял неподвижно, нерадушно, как будто ему дела не было до того, кто приехал в него. В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым, покривившимся ступеням. Всё та же дверная ручка замка, за нечистоту которой сердилась графиня, также слабо отворялась. В передней горела одна сальная свеча.
Старик Михайла спал на ларе. Прокофий, выездной лакей, тот, который был так силен, что за задок поднимал карету, сидел и вязал из покромок лапти. Он взглянул на отворившуюся дверь, и равнодушное, сонное выражение его вдруг преобразилось в восторженно испуганное.
– Батюшки, светы! Граф молодой! – вскрикнул он, узнав молодого барина. – Что ж это? Голубчик мой! – И Прокофий, трясясь от волненья, бросился к двери в гостиную, вероятно для того, чтобы объявить, но видно опять раздумал, вернулся назад и припал к плечу молодого барина.
– Здоровы? – спросил Ростов, выдергивая у него свою руку.
– Слава Богу! Всё слава Богу! сейчас только покушали! Дай на себя посмотреть, ваше сиятельство!
– Всё совсем благополучно?
– Слава Богу, слава Богу!
Ростов, забыв совершенно о Денисове, не желая никому дать предупредить себя, скинул шубу и на цыпочках побежал в темную, большую залу. Всё то же, те же ломберные столы, та же люстра в чехле; но кто то уж видел молодого барина, и не успел он добежать до гостиной, как что то стремительно, как буря, вылетело из боковой двери и обняло и стало целовать его. Еще другое, третье такое же существо выскочило из другой, третьей двери; еще объятия, еще поцелуи, еще крики, слезы радости. Он не мог разобрать, где и кто папа, кто Наташа, кто Петя. Все кричали, говорили и целовали его в одно и то же время. Только матери не было в числе их – это он помнил.
– А я то, не знал… Николушка… друг мой!
– Вот он… наш то… Друг мой, Коля… Переменился! Нет свечей! Чаю!
– Да меня то поцелуй!
– Душенька… а меня то.
Соня, Наташа, Петя, Анна Михайловна, Вера, старый граф, обнимали его; и люди и горничные, наполнив комнаты, приговаривали и ахали.
Петя повис на его ногах. – А меня то! – кричал он. Наташа, после того, как она, пригнув его к себе, расцеловала всё его лицо, отскочила от него и держась за полу его венгерки, прыгала как коза всё на одном месте и пронзительно визжала.
Со всех сторон были блестящие слезами радости, любящие глаза, со всех сторон были губы, искавшие поцелуя.
Соня красная, как кумач, тоже держалась за его руку и вся сияла в блаженном взгляде, устремленном в его глаза, которых она ждала. Соне минуло уже 16 лет, и она была очень красива, особенно в эту минуту счастливого, восторженного оживления. Она смотрела на него, не спуская глаз, улыбаясь и задерживая дыхание. Он благодарно взглянул на нее; но всё еще ждал и искал кого то. Старая графиня еще не выходила. И вот послышались шаги в дверях. Шаги такие быстрые, что это не могли быть шаги его матери.
Но это была она в новом, незнакомом еще ему, сшитом без него платье. Все оставили его, и он побежал к ней. Когда они сошлись, она упала на его грудь рыдая. Она не могла поднять лица и только прижимала его к холодным снуркам его венгерки. Денисов, никем не замеченный, войдя в комнату, стоял тут же и, глядя на них, тер себе глаза.
– Василий Денисов, друг вашего сына, – сказал он, рекомендуясь графу, вопросительно смотревшему на него.
– Милости прошу. Знаю, знаю, – сказал граф, целуя и обнимая Денисова. – Николушка писал… Наташа, Вера, вот он Денисов.
Те же счастливые, восторженные лица обратились на мохнатую фигуру Денисова и окружили его.
– Голубчик, Денисов! – визгнула Наташа, не помнившая себя от восторга, подскочила к нему, обняла и поцеловала его. Все смутились поступком Наташи. Денисов тоже покраснел, но улыбнулся и взяв руку Наташи, поцеловал ее.
Денисова отвели в приготовленную для него комнату, а Ростовы все собрались в диванную около Николушки.
Старая графиня, не выпуская его руки, которую она всякую минуту целовала, сидела с ним рядом; остальные, столпившись вокруг них, ловили каждое его движенье, слово, взгляд, и не спускали с него восторженно влюбленных глаз. Брат и сестры спорили и перехватывали места друг у друга поближе к нему, и дрались за то, кому принести ему чай, платок, трубку.
Ростов был очень счастлив любовью, которую ему выказывали; но первая минута его встречи была так блаженна, что теперешнего его счастия ему казалось мало, и он всё ждал чего то еще, и еще, и еще.
На другое утро приезжие спали с дороги до 10 го часа.
В предшествующей комнате валялись сабли, сумки, ташки, раскрытые чемоданы, грязные сапоги. Вычищенные две пары со шпорами были только что поставлены у стенки. Слуги приносили умывальники, горячую воду для бритья и вычищенные платья. Пахло табаком и мужчинами.
– Гей, Г'ишка, т'убку! – крикнул хриплый голос Васьки Денисова. – Ростов, вставай!
Ростов, протирая слипавшиеся глаза, поднял спутанную голову с жаркой подушки.
– А что поздно? – Поздно, 10 й час, – отвечал Наташин голос, и в соседней комнате послышалось шуршанье крахмаленных платьев, шопот и смех девичьих голосов, и в чуть растворенную дверь мелькнуло что то голубое, ленты, черные волоса и веселые лица. Это была Наташа с Соней и Петей, которые пришли наведаться, не встал ли.
– Николенька, вставай! – опять послышался голос Наташи у двери.
– Сейчас!
В это время Петя, в первой комнате, увидав и схватив сабли, и испытывая тот восторг, который испытывают мальчики, при виде воинственного старшего брата, и забыв, что сестрам неприлично видеть раздетых мужчин, отворил дверь.
– Это твоя сабля? – кричал он. Девочки отскочили. Денисов с испуганными глазами спрятал свои мохнатые ноги в одеяло, оглядываясь за помощью на товарища. Дверь пропустила Петю и опять затворилась. За дверью послышался смех.
– Николенька, выходи в халате, – проговорил голос Наташи.
– Это твоя сабля? – спросил Петя, – или это ваша? – с подобострастным уважением обратился он к усатому, черному Денисову.
Ростов поспешно обулся, надел халат и вышел. Наташа надела один сапог с шпорой и влезала в другой. Соня кружилась и только что хотела раздуть платье и присесть, когда он вышел. Обе были в одинаковых, новеньких, голубых платьях – свежие, румяные, веселые. Соня убежала, а Наташа, взяв брата под руку, повела его в диванную, и у них начался разговор. Они не успевали спрашивать друг друга и отвечать на вопросы о тысячах мелочей, которые могли интересовать только их одних. Наташа смеялась при всяком слове, которое он говорил и которое она говорила, не потому, чтобы было смешно то, что они говорили, но потому, что ей было весело и она не в силах была удерживать своей радости, выражавшейся смехом.
– Ах, как хорошо, отлично! – приговаривала она ко всему. Ростов почувствовал, как под влиянием жарких лучей любви, в первый раз через полтора года, на душе его и на лице распускалась та детская улыбка, которою он ни разу не улыбался с тех пор, как выехал из дома.
– Нет, послушай, – сказала она, – ты теперь совсем мужчина? Я ужасно рада, что ты мой брат. – Она тронула его усы. – Мне хочется знать, какие вы мужчины? Такие ли, как мы? Нет?
– Отчего Соня убежала? – спрашивал Ростов.
– Да. Это еще целая история! Как ты будешь говорить с Соней? Ты или вы?
– Как случится, – сказал Ростов.
– Говори ей вы, пожалуйста, я тебе после скажу.
– Да что же?
– Ну я теперь скажу. Ты знаешь, что Соня мой друг, такой друг, что я руку сожгу для нее. Вот посмотри. – Она засучила свой кисейный рукав и показала на своей длинной, худой и нежной ручке под плечом, гораздо выше локтя (в том месте, которое закрыто бывает и бальными платьями) красную метину.
– Это я сожгла, чтобы доказать ей любовь. Просто линейку разожгла на огне, да и прижала.
Сидя в своей прежней классной комнате, на диване с подушечками на ручках, и глядя в эти отчаянно оживленные глаза Наташи, Ростов опять вошел в тот свой семейный, детский мир, который не имел ни для кого никакого смысла, кроме как для него, но который доставлял ему одни из лучших наслаждений в жизни; и сожжение руки линейкой, для показания любви, показалось ему не бесполезно: он понимал и не удивлялся этому.
– Так что же? только? – спросил он.
– Ну так дружны, так дружны! Это что, глупости – линейкой; но мы навсегда друзья. Она кого полюбит, так навсегда; а я этого не понимаю, я забуду сейчас.
– Ну так что же?
– Да, так она любит меня и тебя. – Наташа вдруг покраснела, – ну ты помнишь, перед отъездом… Так она говорит, что ты это всё забудь… Она сказала: я буду любить его всегда, а он пускай будет свободен. Ведь правда, что это отлично, благородно! – Да, да? очень благородно? да? – спрашивала Наташа так серьезно и взволнованно, что видно было, что то, что она говорила теперь, она прежде говорила со слезами.
Ростов задумался.
– Я ни в чем не беру назад своего слова, – сказал он. – И потом, Соня такая прелесть, что какой же дурак станет отказываться от своего счастия?
– Нет, нет, – закричала Наташа. – Мы про это уже с нею говорили. Мы знали, что ты это скажешь. Но это нельзя, потому что, понимаешь, ежели ты так говоришь – считаешь себя связанным словом, то выходит, что она как будто нарочно это сказала. Выходит, что ты всё таки насильно на ней женишься, и выходит совсем не то.
Ростов видел, что всё это было хорошо придумано ими. Соня и вчера поразила его своей красотой. Нынче, увидав ее мельком, она ему показалась еще лучше. Она была прелестная 16 тилетняя девочка, очевидно страстно его любящая (в этом он не сомневался ни на минуту). Отчего же ему было не любить ее теперь, и не жениться даже, думал Ростов, но теперь столько еще других радостей и занятий! «Да, они это прекрасно придумали», подумал он, «надо оставаться свободным».
– Ну и прекрасно, – сказал он, – после поговорим. Ах как я тебе рад! – прибавил он.
– Ну, а что же ты, Борису не изменила? – спросил брат.
– Вот глупости! – смеясь крикнула Наташа. – Ни об нем и ни о ком я не думаю и знать не хочу.
– Вот как! Так ты что же?
– Я? – переспросила Наташа, и счастливая улыбка осветила ее лицо. – Ты видел Duport'a?
– Нет.
– Знаменитого Дюпора, танцовщика не видал? Ну так ты не поймешь. Я вот что такое. – Наташа взяла, округлив руки, свою юбку, как танцуют, отбежала несколько шагов, перевернулась, сделала антраша, побила ножкой об ножку и, став на самые кончики носков, прошла несколько шагов.
– Ведь стою? ведь вот, – говорила она; но не удержалась на цыпочках. – Так вот я что такое! Никогда ни за кого не пойду замуж, а пойду в танцовщицы. Только никому не говори.
Ростов так громко и весело захохотал, что Денисову из своей комнаты стало завидно, и Наташа не могла удержаться, засмеялась с ним вместе. – Нет, ведь хорошо? – всё говорила она.
– Хорошо, за Бориса уже не хочешь выходить замуж?
Наташа вспыхнула. – Я не хочу ни за кого замуж итти. Я ему то же самое скажу, когда увижу.
– Вот как! – сказал Ростов.
– Ну, да, это всё пустяки, – продолжала болтать Наташа. – А что Денисов хороший? – спросила она.
– Хороший.
– Ну и прощай, одевайся. Он страшный, Денисов?
– Отчего страшный? – спросил Nicolas. – Нет. Васька славный.
– Ты его Васькой зовешь – странно. А, что он очень хорош?
– Очень хорош.
– Ну, приходи скорей чай пить. Все вместе.
И Наташа встала на цыпочках и прошлась из комнаты так, как делают танцовщицы, но улыбаясь так, как только улыбаются счастливые 15 летние девочки. Встретившись в гостиной с Соней, Ростов покраснел. Он не знал, как обойтись с ней. Вчера они поцеловались в первую минуту радости свидания, но нынче они чувствовали, что нельзя было этого сделать; он чувствовал, что все, и мать и сестры, смотрели на него вопросительно и от него ожидали, как он поведет себя с нею. Он поцеловал ее руку и назвал ее вы – Соня . Но глаза их, встретившись, сказали друг другу «ты» и нежно поцеловались. Она просила своим взглядом у него прощения за то, что в посольстве Наташи она смела напомнить ему о его обещании и благодарила его за его любовь. Он своим взглядом благодарил ее за предложение свободы и говорил, что так ли, иначе ли, он никогда не перестанет любить ее, потому что нельзя не любить ее.
– Как однако странно, – сказала Вера, выбрав общую минуту молчания, – что Соня с Николенькой теперь встретились на вы и как чужие. – Замечание Веры было справедливо, как и все ее замечания; но как и от большей части ее замечаний всем сделалось неловко, и не только Соня, Николай и Наташа, но и старая графиня, которая боялась этой любви сына к Соне, могущей лишить его блестящей партии, тоже покраснела, как девочка. Денисов, к удивлению Ростова, в новом мундире, напомаженный и надушенный, явился в гостиную таким же щеголем, каким он был в сражениях, и таким любезным с дамами и кавалерами, каким Ростов никак не ожидал его видеть.
Вернувшись в Москву из армии, Николай Ростов был принят домашними как лучший сын, герой и ненаглядный Николушка; родными – как милый, приятный и почтительный молодой человек; знакомыми – как красивый гусарский поручик, ловкий танцор и один из лучших женихов Москвы.
Знакомство у Ростовых была вся Москва; денег в нынешний год у старого графа было достаточно, потому что были перезаложены все имения, и потому Николушка, заведя своего собственного рысака и самые модные рейтузы, особенные, каких ни у кого еще в Москве не было, и сапоги, самые модные, с самыми острыми носками и маленькими серебряными шпорами, проводил время очень весело. Ростов, вернувшись домой, испытал приятное чувство после некоторого промежутка времени примеривания себя к старым условиям жизни. Ему казалось, что он очень возмужал и вырос. Отчаяние за невыдержанный из закона Божьего экзамен, занимание денег у Гаврилы на извозчика, тайные поцелуи с Соней, он про всё это вспоминал, как про ребячество, от которого он неизмеримо был далек теперь. Теперь он – гусарский поручик в серебряном ментике, с солдатским Георгием, готовит своего рысака на бег, вместе с известными охотниками, пожилыми, почтенными. У него знакомая дама на бульваре, к которой он ездит вечером. Он дирижировал мазурку на бале у Архаровых, разговаривал о войне с фельдмаршалом Каменским, бывал в английском клубе, и был на ты с одним сорокалетним полковником, с которым познакомил его Денисов.
Страсть его к государю несколько ослабела в Москве, так как он за это время не видал его. Но он часто рассказывал о государе, о своей любви к нему, давая чувствовать, что он еще не всё рассказывает, что что то еще есть в его чувстве к государю, что не может быть всем понятно; и от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожания к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время было дано наименование ангела во плоти.
В это короткое пребывание Ростова в Москве, до отъезда в армию, он не сблизился, а напротив разошелся с Соней. Она была очень хороша, мила, и, очевидно, страстно влюблена в него; но он был в той поре молодости, когда кажется так много дела, что некогда этим заниматься, и молодой человек боится связываться – дорожит своей свободой, которая ему нужна на многое другое. Когда он думал о Соне в это новое пребывание в Москве, он говорил себе: Э! еще много, много таких будет и есть там, где то, мне еще неизвестных. Еще успею, когда захочу, заняться и любовью, а теперь некогда. Кроме того, ему казалось что то унизительное для своего мужества в женском обществе. Он ездил на балы и в женское общество, притворяясь, что делал это против воли. Бега, английский клуб, кутеж с Денисовым, поездка туда – это было другое дело: это было прилично молодцу гусару.
В начале марта, старый граф Илья Андреич Ростов был озабочен устройством обеда в английском клубе для приема князя Багратиона.
Граф в халате ходил по зале, отдавая приказания клубному эконому и знаменитому Феоктисту, старшему повару английского клуба, о спарже, свежих огурцах, землянике, теленке и рыбе для обеда князя Багратиона. Граф, со дня основания клуба, был его членом и старшиною. Ему было поручено от клуба устройство торжества для Багратиона, потому что редко кто умел так на широкую руку, хлебосольно устроить пир, особенно потому, что редко кто умел и хотел приложить свои деньги, если они понадобятся на устройство пира. Повар и эконом клуба с веселыми лицами слушали приказания графа, потому что они знали, что ни при ком, как при нем, нельзя было лучше поживиться на обеде, который стоил несколько тысяч.
– Так смотри же, гребешков, гребешков в тортю положи, знаешь! – Холодных стало быть три?… – спрашивал повар. Граф задумался. – Нельзя меньше, три… майонез раз, – сказал он, загибая палец…
– Так прикажете стерлядей больших взять? – спросил эконом. – Что ж делать, возьми, коли не уступают. Да, батюшка ты мой, я было и забыл. Ведь надо еще другую антре на стол. Ах, отцы мои! – Он схватился за голову. – Да кто же мне цветы привезет?
– Митинька! А Митинька! Скачи ты, Митинька, в подмосковную, – обратился он к вошедшему на его зов управляющему, – скачи ты в подмосковную и вели ты сейчас нарядить барщину Максимке садовнику. Скажи, чтобы все оранжереи сюда волок, укутывал бы войлоками. Да чтобы мне двести горшков тут к пятнице были.
Отдав еще и еще разные приказания, он вышел было отдохнуть к графинюшке, но вспомнил еще нужное, вернулся сам, вернул повара и эконома и опять стал приказывать. В дверях послышалась легкая, мужская походка, бряцанье шпор, и красивый, румяный, с чернеющимися усиками, видимо отдохнувший и выхолившийся на спокойном житье в Москве, вошел молодой граф.
– Ах, братец мой! Голова кругом идет, – сказал старик, как бы стыдясь, улыбаясь перед сыном. – Хоть вот ты бы помог! Надо ведь еще песенников. Музыка у меня есть, да цыган что ли позвать? Ваша братия военные это любят.
– Право, папенька, я думаю, князь Багратион, когда готовился к Шенграбенскому сражению, меньше хлопотал, чем вы теперь, – сказал сын, улыбаясь.
Старый граф притворился рассерженным. – Да, ты толкуй, ты попробуй!
И граф обратился к повару, который с умным и почтенным лицом, наблюдательно и ласково поглядывал на отца и сына.
– Какова молодежь то, а, Феоктист? – сказал он, – смеется над нашим братом стариками.
– Что ж, ваше сиятельство, им бы только покушать хорошо, а как всё собрать да сервировать , это не их дело.
– Так, так, – закричал граф, и весело схватив сына за обе руки, закричал: – Так вот же что, попался ты мне! Возьми ты сейчас сани парные и ступай ты к Безухову, и скажи, что граф, мол, Илья Андреич прислали просить у вас земляники и ананасов свежих. Больше ни у кого не достанешь. Самого то нет, так ты зайди, княжнам скажи, и оттуда, вот что, поезжай ты на Разгуляй – Ипатка кучер знает – найди ты там Ильюшку цыгана, вот что у графа Орлова тогда плясал, помнишь, в белом казакине, и притащи ты его сюда, ко мне.
– И с цыганками его сюда привести? – спросил Николай смеясь. – Ну, ну!…
В это время неслышными шагами, с деловым, озабоченным и вместе христиански кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в комнату Анна Михайловна. Несмотря на то, что каждый день Анна Михайловна заставала графа в халате, всякий раз он конфузился при ней и просил извинения за свой костюм.
– Ничего, граф, голубчик, – сказала она, кротко закрывая глаза. – А к Безухому я съезжу, – сказала она. – Пьер приехал, и теперь мы всё достанем, граф, из его оранжерей. Мне и нужно было видеть его. Он мне прислал письмо от Бориса. Слава Богу, Боря теперь при штабе.
Граф обрадовался, что Анна Михайловна брала одну часть его поручений, и велел ей заложить маленькую карету.
– Вы Безухову скажите, чтоб он приезжал. Я его запишу. Что он с женой? – спросил он.
Анна Михайловна завела глаза, и на лице ее выразилась глубокая скорбь…
– Ах, мой друг, он очень несчастлив, – сказала она. – Ежели правда, что мы слышали, это ужасно. И думали ли мы, когда так радовались его счастию! И такая высокая, небесная душа, этот молодой Безухов! Да, я от души жалею его и постараюсь дать ему утешение, которое от меня будет зависеть.
– Да что ж такое? – спросили оба Ростова, старший и младший.
Анна Михайловна глубоко вздохнула: – Долохов, Марьи Ивановны сын, – сказала она таинственным шопотом, – говорят, совсем компрометировал ее. Он его вывел, пригласил к себе в дом в Петербурге, и вот… Она сюда приехала, и этот сорви голова за ней, – сказала Анна Михайловна, желая выразить свое сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и полуулыбкою выказывая сочувствие сорви голове, как она назвала Долохова. – Говорят, сам Пьер совсем убит своим горем.
– Ну, всё таки скажите ему, чтоб он приезжал в клуб, – всё рассеется. Пир горой будет.
На другой день, 3 го марта, во 2 м часу по полудни, 250 человек членов Английского клуба и 50 человек гостей ожидали к обеду дорогого гостя и героя Австрийского похода, князя Багратиона. В первое время по получении известия об Аустерлицком сражении Москва пришла в недоумение. В то время русские так привыкли к победам, что, получив известие о поражении, одни просто не верили, другие искали объяснений такому странному событию в каких нибудь необыкновенных причинах. В Английском клубе, где собиралось всё, что было знатного, имеющего верные сведения и вес, в декабре месяце, когда стали приходить известия, ничего не говорили про войну и про последнее сражение, как будто все сговорились молчать о нем. Люди, дававшие направление разговорам, как то: граф Ростопчин, князь Юрий Владимирович Долгорукий, Валуев, гр. Марков, кн. Вяземский, не показывались в клубе, а собирались по домам, в своих интимных кружках, и москвичи, говорившие с чужих голосов (к которым принадлежал и Илья Андреич Ростов), оставались на короткое время без определенного суждения о деле войны и без руководителей. Москвичи чувствовали, что что то нехорошо и что обсуждать эти дурные вести трудно, и потому лучше молчать. Но через несколько времени, как присяжные выходят из совещательной комнаты, появились и тузы, дававшие мнение в клубе, и всё заговорило ясно и определенно. Были найдены причины тому неимоверному, неслыханному и невозможному событию, что русские были побиты, и все стало ясно, и во всех углах Москвы заговорили одно и то же. Причины эти были: измена австрийцев, дурное продовольствие войска, измена поляка Пшебышевского и француза Ланжерона, неспособность Кутузова, и (потихоньку говорили) молодость и неопытность государя, вверившегося дурным и ничтожным людям. Но войска, русские войска, говорили все, были необыкновенны и делали чудеса храбрости. Солдаты, офицеры, генералы – были герои. Но героем из героев был князь Багратион, прославившийся своим Шенграбенским делом и отступлением от Аустерлица, где он один провел свою колонну нерасстроенною и целый день отбивал вдвое сильнейшего неприятеля. Тому, что Багратион выбран был героем в Москве, содействовало и то, что он не имел связей в Москве, и был чужой. В лице его отдавалась должная честь боевому, простому, без связей и интриг, русскому солдату, еще связанному воспоминаниями Итальянского похода с именем Суворова. Кроме того в воздаянии ему таких почестей лучше всего показывалось нерасположение и неодобрение Кутузову.
– Ежели бы не было Багратиона, il faudrait l'inventer, [надо бы изобрести его.] – сказал шутник Шиншин, пародируя слова Вольтера. Про Кутузова никто не говорил, и некоторые шопотом бранили его, называя придворною вертушкой и старым сатиром. По всей Москве повторялись слова князя Долгорукова: «лепя, лепя и облепишься», утешавшегося в нашем поражении воспоминанием прежних побед, и повторялись слова Ростопчина про то, что французских солдат надо возбуждать к сражениям высокопарными фразами, что с Немцами надо логически рассуждать, убеждая их, что опаснее бежать, чем итти вперед; но что русских солдат надо только удерживать и просить: потише! Со всex сторон слышны были новые и новые рассказы об отдельных примерах мужества, оказанных нашими солдатами и офицерами при Аустерлице. Тот спас знамя, тот убил 5 ть французов, тот один заряжал 5 ть пушек. Говорили и про Берга, кто его не знал, что он, раненый в правую руку, взял шпагу в левую и пошел вперед. Про Болконского ничего не говорили, и только близко знавшие его жалели, что он рано умер, оставив беременную жену и чудака отца.
3 го марта во всех комнатах Английского клуба стоял стон разговаривающих голосов и, как пчелы на весеннем пролете, сновали взад и вперед, сидели, стояли, сходились и расходились, в мундирах, фраках и еще кое кто в пудре и кафтанах, члены и гости клуба. Пудренные, в чулках и башмаках ливрейные лакеи стояли у каждой двери и напряженно старались уловить каждое движение гостей и членов клуба, чтобы предложить свои услуги. Большинство присутствовавших были старые, почтенные люди с широкими, самоуверенными лицами, толстыми пальцами, твердыми движениями и голосами. Этого рода гости и члены сидели по известным, привычным местам и сходились в известных, привычных кружках. Малая часть присутствовавших состояла из случайных гостей – преимущественно молодежи, в числе которой были Денисов, Ростов и Долохов, который был опять семеновским офицером. На лицах молодежи, особенно военной, было выражение того чувства презрительной почтительности к старикам, которое как будто говорит старому поколению: уважать и почитать вас мы готовы, но помните, что всё таки за нами будущность.
Несвицкий был тут же, как старый член клуба. Пьер, по приказанию жены отпустивший волоса, снявший очки и одетый по модному, но с грустным и унылым видом, ходил по залам. Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянной презрительностью обращался с ними.
По годам он бы должен был быть с молодыми, по богатству и связям он был членом кружков старых, почтенных гостей, и потому он переходил от одного кружка к другому.
Старики из самых значительных составляли центр кружков, к которым почтительно приближались даже незнакомые, чтобы послушать известных людей. Большие кружки составлялись около графа Ростопчина, Валуева и Нарышкина. Ростопчин рассказывал про то, как русские были смяты бежавшими австрийцами и должны были штыком прокладывать себе дорогу сквозь беглецов.
Валуев конфиденциально рассказывал, что Уваров был прислан из Петербурга, для того чтобы узнать мнение москвичей об Аустерлице.
В третьем кружке Нарышкин говорил о заседании австрийского военного совета, в котором Суворов закричал петухом в ответ на глупость австрийских генералов. Шиншин, стоявший тут же, хотел пошутить, сказав, что Кутузов, видно, и этому нетрудному искусству – кричать по петушиному – не мог выучиться у Суворова; но старички строго посмотрели на шутника, давая ему тем чувствовать, что здесь и в нынешний день так неприлично было говорить про Кутузова.
Граф Илья Андреич Ростов, озабоченно, торопливо похаживал в своих мягких сапогах из столовой в гостиную, поспешно и совершенно одинаково здороваясь с важными и неважными лицами, которых он всех знал, и изредка отыскивая глазами своего стройного молодца сына, радостно останавливал на нем свой взгляд и подмигивал ему. Молодой Ростов стоял у окна с Долоховым, с которым он недавно познакомился, и знакомством которого он дорожил. Старый граф подошел к ним и пожал руку Долохову.
– Ко мне милости прошу, вот ты с моим молодцом знаком… вместе там, вместе геройствовали… A! Василий Игнатьич… здорово старый, – обратился он к проходившему старичку, но не успел еще договорить приветствия, как всё зашевелилось, и прибежавший лакей, с испуганным лицом, доложил: пожаловали!
Раздались звонки; старшины бросились вперед; разбросанные в разных комнатах гости, как встряхнутая рожь на лопате, столпились в одну кучу и остановились в большой гостиной у дверей залы.
В дверях передней показался Багратион, без шляпы и шпаги, которые он, по клубному обычаю, оставил у швейцара. Он был не в смушковом картузе с нагайкой через плечо, как видел его Ростов в ночь накануне Аустерлицкого сражения, а в новом узком мундире с русскими и иностранными орденами и с георгиевской звездой на левой стороне груди. Он видимо сейчас, перед обедом, подстриг волосы и бакенбарды, что невыгодно изменяло его физиономию. На лице его было что то наивно праздничное, дававшее, в соединении с его твердыми, мужественными чертами, даже несколько комическое выражение его лицу. Беклешов и Федор Петрович Уваров, приехавшие с ним вместе, остановились в дверях, желая, чтобы он, как главный гость, прошел вперед их. Багратион смешался, не желая воспользоваться их учтивостью; произошла остановка в дверях, и наконец Багратион всё таки прошел вперед. Он шел, не зная куда девать руки, застенчиво и неловко, по паркету приемной: ему привычнее и легче было ходить под пулями по вспаханному полю, как он шел перед Курским полком в Шенграбене. Старшины встретили его у первой двери, сказав ему несколько слов о радости видеть столь дорогого гостя, и недождавшись его ответа, как бы завладев им, окружили его и повели в гостиную. В дверях гостиной не было возможности пройти от столпившихся членов и гостей, давивших друг друга и через плечи друг друга старавшихся, как редкого зверя, рассмотреть Багратиона. Граф Илья Андреич, энергичнее всех, смеясь и приговаривая: – пусти, mon cher, пусти, пусти, – протолкал толпу, провел гостей в гостиную и посадил на средний диван. Тузы, почетнейшие члены клуба, обступили вновь прибывших. Граф Илья Андреич, проталкиваясь опять через толпу, вышел из гостиной и с другим старшиной через минуту явился, неся большое серебряное блюдо, которое он поднес князю Багратиону. На блюде лежали сочиненные и напечатанные в честь героя стихи. Багратион, увидав блюдо, испуганно оглянулся, как бы отыскивая помощи. Но во всех глазах было требование того, чтобы он покорился. Чувствуя себя в их власти, Багратион решительно, обеими руками, взял блюдо и сердито, укоризненно посмотрел на графа, подносившего его. Кто то услужливо вынул из рук Багратиона блюдо (а то бы он, казалось, намерен был держать его так до вечера и так итти к столу) и обратил его внимание на стихи. «Ну и прочту», как будто сказал Багратион и устремив усталые глаза на бумагу, стал читать с сосредоточенным и серьезным видом. Сам сочинитель взял стихи и стал читать. Князь Багратион склонил голову и слушал.
«Славь Александра век
И охраняй нам Тита на престоле,
Будь купно страшный вождь и добрый человек,
Рифей в отечестве а Цесарь в бранном поле.
Да счастливый Наполеон,
Познав чрез опыты, каков Багратион,
Не смеет утруждать Алкидов русских боле…»
Но еще он не кончил стихов, как громогласный дворецкий провозгласил: «Кушанье готово!» Дверь отворилась, загремел из столовой польский: «Гром победы раздавайся, веселися храбрый росс», и граф Илья Андреич, сердито посмотрев на автора, продолжавшего читать стихи, раскланялся перед Багратионом. Все встали, чувствуя, что обед был важнее стихов, и опять Багратион впереди всех пошел к столу. На первом месте, между двух Александров – Беклешова и Нарышкина, что тоже имело значение по отношению к имени государя, посадили Багратиона: 300 человек разместились в столовой по чинам и важности, кто поважнее, поближе к чествуемому гостю: так же естественно, как вода разливается туда глубже, где местность ниже.
Перед самым обедом граф Илья Андреич представил князю своего сына. Багратион, узнав его, сказал несколько нескладных, неловких слов, как и все слова, которые он говорил в этот день. Граф Илья Андреич радостно и гордо оглядывал всех в то время, как Багратион говорил с его сыном.
Николай Ростов с Денисовым и новым знакомцем Долоховым сели вместе почти на середине стола. Напротив них сел Пьер рядом с князем Несвицким. Граф Илья Андреич сидел напротив Багратиона с другими старшинами и угащивал князя, олицетворяя в себе московское радушие.
Труды его не пропали даром. Обеды его, постный и скоромный, были великолепны, но совершенно спокоен он всё таки не мог быть до конца обеда. Он подмигивал буфетчику, шопотом приказывал лакеям, и не без волнения ожидал каждого, знакомого ему блюда. Всё было прекрасно. На втором блюде, вместе с исполинской стерлядью (увидав которую, Илья Андреич покраснел от радости и застенчивости), уже лакеи стали хлопать пробками и наливать шампанское. После рыбы, которая произвела некоторое впечатление, граф Илья Андреич переглянулся с другими старшинами. – «Много тостов будет, пора начинать!» – шепнул он и взяв бокал в руки – встал. Все замолкли и ожидали, что он скажет.
– Здоровье государя императора! – крикнул он, и в ту же минуту добрые глаза его увлажились слезами радости и восторга. В ту же минуту заиграли: «Гром победы раздавайся».Все встали с своих мест и закричали ура! и Багратион закричал ура! тем же голосом, каким он кричал на Шенграбенском поле. Восторженный голос молодого Ростова был слышен из за всех 300 голосов. Он чуть не плакал. – Здоровье государя императора, – кричал он, – ура! – Выпив залпом свой бокал, он бросил его на пол. Многие последовали его примеру. И долго продолжались громкие крики. Когда замолкли голоса, лакеи подобрали разбитую посуду, и все стали усаживаться, и улыбаясь своему крику переговариваться. Граф Илья Андреич поднялся опять, взглянул на записочку, лежавшую подле его тарелки и провозгласил тост за здоровье героя нашей последней кампании, князя Петра Ивановича Багратиона и опять голубые глаза графа увлажились слезами. Ура! опять закричали голоса 300 гостей, и вместо музыки послышались певчие, певшие кантату сочинения Павла Ивановича Кутузова.
«Тщетны россам все препоны,
Храбрость есть побед залог,
Есть у нас Багратионы,
Будут все враги у ног» и т.д.
Только что кончили певчие, как последовали новые и новые тосты, при которых всё больше и больше расчувствовался граф Илья Андреич, и еще больше билось посуды, и еще больше кричалось. Пили за здоровье Беклешова, Нарышкина, Уварова, Долгорукова, Апраксина, Валуева, за здоровье старшин, за здоровье распорядителя, за здоровье всех членов клуба, за здоровье всех гостей клуба и наконец отдельно за здоровье учредителя обеда графа Ильи Андреича. При этом тосте граф вынул платок и, закрыв им лицо, совершенно расплакался.
Пьер сидел против Долохова и Николая Ростова. Он много и жадно ел и много пил, как и всегда. Но те, которые его знали коротко, видели, что в нем произошла в нынешний день какая то большая перемена. Он молчал всё время обеда и, щурясь и морщась, глядел кругом себя или остановив глаза, с видом совершенной рассеянности, потирал пальцем переносицу. Лицо его было уныло и мрачно. Он, казалось, не видел и не слышал ничего, происходящего вокруг него, и думал о чем то одном, тяжелом и неразрешенном.
Этот неразрешенный, мучивший его вопрос, были намеки княжны в Москве на близость Долохова к его жене и в нынешнее утро полученное им анонимное письмо, в котором было сказано с той подлой шутливостью, которая свойственна всем анонимным письмам, что он плохо видит сквозь свои очки, и что связь его жены с Долоховым есть тайна только для одного него. Пьер решительно не поверил ни намекам княжны, ни письму, но ему страшно было теперь смотреть на Долохова, сидевшего перед ним. Всякий раз, как нечаянно взгляд его встречался с прекрасными, наглыми глазами Долохова, Пьер чувствовал, как что то ужасное, безобразное поднималось в его душе, и он скорее отворачивался. Невольно вспоминая всё прошедшее своей жены и ее отношения с Долоховым, Пьер видел ясно, что то, что сказано было в письме, могло быть правда, могло по крайней мере казаться правдой, ежели бы это касалось не его жены. Пьер вспоминал невольно, как Долохов, которому было возвращено всё после кампании, вернулся в Петербург и приехал к нему. Пользуясь своими кутежными отношениями дружбы с Пьером, Долохов прямо приехал к нему в дом, и Пьер поместил его и дал ему взаймы денег. Пьер вспоминал, как Элен улыбаясь выражала свое неудовольствие за то, что Долохов живет в их доме, и как Долохов цинически хвалил ему красоту его жены, и как он с того времени до приезда в Москву ни на минуту не разлучался с ними.
«Да, он очень красив, думал Пьер, я знаю его. Для него была бы особенная прелесть в том, чтобы осрамить мое имя и посмеяться надо мной, именно потому, что я хлопотал за него и призрел его, помог ему. Я знаю, я понимаю, какую соль это в его глазах должно бы придавать его обману, ежели бы это была правда. Да, ежели бы это была правда; но я не верю, не имею права и не могу верить». Он вспоминал то выражение, которое принимало лицо Долохова, когда на него находили минуты жестокости, как те, в которые он связывал квартального с медведем и пускал его на воду, или когда он вызывал без всякой причины на дуэль человека, или убивал из пистолета лошадь ямщика. Это выражение часто было на лице Долохова, когда он смотрел на него. «Да, он бретёр, думал Пьер, ему ничего не значит убить человека, ему должно казаться, что все боятся его, ему должно быть приятно это. Он должен думать, что и я боюсь его. И действительно я боюсь его», думал Пьер, и опять при этих мыслях он чувствовал, как что то страшное и безобразное поднималось в его душе. Долохов, Денисов и Ростов сидели теперь против Пьера и казались очень веселы. Ростов весело переговаривался с своими двумя приятелями, из которых один был лихой гусар, другой известный бретёр и повеса, и изредка насмешливо поглядывал на Пьера, который на этом обеде поражал своей сосредоточенной, рассеянной, массивной фигурой. Ростов недоброжелательно смотрел на Пьера, во первых, потому, что Пьер в его гусарских глазах был штатский богач, муж красавицы, вообще баба; во вторых, потому, что Пьер в сосредоточенности и рассеянности своего настроения не узнал Ростова и не ответил на его поклон. Когда стали пить здоровье государя, Пьер задумавшись не встал и не взял бокала.
– Что ж вы? – закричал ему Ростов, восторженно озлобленными глазами глядя на него. – Разве вы не слышите; здоровье государя императора! – Пьер, вздохнув, покорно встал, выпил свой бокал и, дождавшись, когда все сели, с своей доброй улыбкой обратился к Ростову.
– А я вас и не узнал, – сказал он. – Но Ростову было не до этого, он кричал ура!
– Что ж ты не возобновишь знакомство, – сказал Долохов Ростову.
– Бог с ним, дурак, – сказал Ростов.
– Надо лелеять мужей хорошеньких женщин, – сказал Денисов. Пьер не слышал, что они говорили, но знал, что говорят про него. Он покраснел и отвернулся.
– Ну, теперь за здоровье красивых женщин, – сказал Долохов, и с серьезным выражением, но с улыбающимся в углах ртом, с бокалом обратился к Пьеру.
– За здоровье красивых женщин, Петруша, и их любовников, – сказал он.
Пьер, опустив глаза, пил из своего бокала, не глядя на Долохова и не отвечая ему. Лакей, раздававший кантату Кутузова, положил листок Пьеру, как более почетному гостю. Он хотел взять его, но Долохов перегнулся, выхватил листок из его руки и стал читать. Пьер взглянул на Долохова, зрачки его опустились: что то страшное и безобразное, мутившее его во всё время обеда, поднялось и овладело им. Он нагнулся всем тучным телом через стол: – Не смейте брать! – крикнул он.
Услыхав этот крик и увидав, к кому он относился, Несвицкий и сосед с правой стороны испуганно и поспешно обратились к Безухову.
– Полноте, полно, что вы? – шептали испуганные голоса. Долохов посмотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же улыбкой, как будто он говорил: «А вот это я люблю». – Не дам, – проговорил он отчетливо.
Бледный, с трясущейся губой, Пьер рванул лист. – Вы… вы… негодяй!.. я вас вызываю, – проговорил он, и двинув стул, встал из за стола. В ту самую секунду, как Пьер сделал это и произнес эти слова, он почувствовал, что вопрос о виновности его жены, мучивший его эти последние сутки, был окончательно и несомненно решен утвердительно. Он ненавидел ее и навсегда был разорван с нею. Несмотря на просьбы Денисова, чтобы Ростов не вмешивался в это дело, Ростов согласился быть секундантом Долохова, и после стола переговорил с Несвицким, секундантом Безухова, об условиях дуэли. Пьер уехал домой, а Ростов с Долоховым и Денисовым до позднего вечера просидели в клубе, слушая цыган и песенников.
– Так до завтра, в Сокольниках, – сказал Долохов, прощаясь с Ростовым на крыльце клуба.
– И ты спокоен? – спросил Ростов…
Долохов остановился. – Вот видишь ли, я тебе в двух словах открою всю тайну дуэли. Ежели ты идешь на дуэль и пишешь завещания да нежные письма родителям, ежели ты думаешь о том, что тебя могут убить, ты – дурак и наверно пропал; а ты иди с твердым намерением его убить, как можно поскорее и повернее, тогда всё исправно. Как мне говаривал наш костромской медвежатник: медведя то, говорит, как не бояться? да как увидишь его, и страх прошел, как бы только не ушел! Ну так то и я. A demain, mon cher! [До завтра, мой милый!]
На другой день, в 8 часов утра, Пьер с Несвицким приехали в Сокольницкий лес и нашли там уже Долохова, Денисова и Ростова. Пьер имел вид человека, занятого какими то соображениями, вовсе не касающимися до предстоящего дела. Осунувшееся лицо его было желто. Он видимо не спал ту ночь. Он рассеянно оглядывался вокруг себя и морщился, как будто от яркого солнца. Два соображения исключительно занимали его: виновность его жены, в которой после бессонной ночи уже не оставалось ни малейшего сомнения, и невинность Долохова, не имевшего никакой причины беречь честь чужого для него человека. «Может быть, я бы то же самое сделал бы на его месте, думал Пьер. Даже наверное я бы сделал то же самое; к чему же эта дуэль, это убийство? Или я убью его, или он попадет мне в голову, в локоть, в коленку. Уйти отсюда, бежать, зарыться куда нибудь», приходило ему в голову. Но именно в те минуты, когда ему приходили такие мысли. он с особенно спокойным и рассеянным видом, внушавшим уважение смотревшим на него, спрашивал: «Скоро ли, и готово ли?»
Когда всё было готово, сабли воткнуты в снег, означая барьер, до которого следовало сходиться, и пистолеты заряжены, Несвицкий подошел к Пьеру.
– Я бы не исполнил своей обязанности, граф, – сказал он робким голосом, – и не оправдал бы того доверия и чести, которые вы мне сделали, выбрав меня своим секундантом, ежели бы я в эту важную минуту, очень важную минуту, не сказал вам всю правду. Я полагаю, что дело это не имеет достаточно причин, и что не стоит того, чтобы за него проливать кровь… Вы были неправы, не совсем правы, вы погорячились…
– Ах да, ужасно глупо… – сказал Пьер.
– Так позвольте мне передать ваше сожаление, и я уверен, что наши противники согласятся принять ваше извинение, – сказал Несвицкий (так же как и другие участники дела и как и все в подобных делах, не веря еще, чтобы дело дошло до действительной дуэли). – Вы знаете, граф, гораздо благороднее сознать свою ошибку, чем довести дело до непоправимого. Обиды ни с одной стороны не было. Позвольте мне переговорить…
– Нет, об чем же говорить! – сказал Пьер, – всё равно… Так готово? – прибавил он. – Вы мне скажите только, как куда ходить, и стрелять куда? – сказал он, неестественно кротко улыбаясь. – Он взял в руки пистолет, стал расспрашивать о способе спуска, так как он до сих пор не держал в руках пистолета, в чем он не хотел сознаваться. – Ах да, вот так, я знаю, я забыл только, – говорил он.
– Никаких извинений, ничего решительно, – говорил Долохов Денисову, который с своей стороны тоже сделал попытку примирения, и тоже подошел к назначенному месту.
Место для поединка было выбрано шагах в 80 ти от дороги, на которой остались сани, на небольшой полянке соснового леса, покрытой истаявшим от стоявших последние дни оттепелей снегом. Противники стояли шагах в 40 ка друг от друга, у краев поляны. Секунданты, размеряя шаги, проложили, отпечатавшиеся по мокрому, глубокому снегу, следы от того места, где они стояли, до сабель Несвицкого и Денисова, означавших барьер и воткнутых в 10 ти шагах друг от друга. Оттепель и туман продолжались; за 40 шагов ничего не было видно. Минуты три всё было уже готово, и всё таки медлили начинать, все молчали.
– Ну, начинать! – сказал Долохов.
– Что же, – сказал Пьер, всё так же улыбаясь. – Становилось страшно. Очевидно было, что дело, начавшееся так легко, уже ничем не могло быть предотвращено, что оно шло само собою, уже независимо от воли людей, и должно было совершиться. Денисов первый вышел вперед до барьера и провозгласил:
– Так как п'отивники отказались от п'ими'ения, то не угодно ли начинать: взять пистолеты и по слову т'и начинать сходиться.
– Г…'аз! Два! Т'и!… – сердито прокричал Денисов и отошел в сторону. Оба пошли по протоптанным дорожкам всё ближе и ближе, в тумане узнавая друг друга. Противники имели право, сходясь до барьера, стрелять, когда кто захочет. Долохов шел медленно, не поднимая пистолета, вглядываясь своими светлыми, блестящими, голубыми глазами в лицо своего противника. Рот его, как и всегда, имел на себе подобие улыбки.
– Так когда хочу – могу стрелять! – сказал Пьер, при слове три быстрыми шагами пошел вперед, сбиваясь с протоптанной дорожки и шагая по цельному снегу. Пьер держал пистолет, вытянув вперед правую руку, видимо боясь как бы из этого пистолета не убить самого себя. Левую руку он старательно отставлял назад, потому что ему хотелось поддержать ею правую руку, а он знал, что этого нельзя было. Пройдя шагов шесть и сбившись с дорожки в снег, Пьер оглянулся под ноги, опять быстро взглянул на Долохова, и потянув пальцем, как его учили, выстрелил. Никак не ожидая такого сильного звука, Пьер вздрогнул от своего выстрела, потом улыбнулся сам своему впечатлению и остановился. Дым, особенно густой от тумана, помешал ему видеть в первое мгновение; но другого выстрела, которого он ждал, не последовало. Только слышны были торопливые шаги Долохова, и из за дыма показалась его фигура. Одной рукой он держался за левый бок, другой сжимал опущенный пистолет. Лицо его было бледно. Ростов подбежал и что то сказал ему.
– Не…е…т, – проговорил сквозь зубы Долохов, – нет, не кончено, – и сделав еще несколько падающих, ковыляющих шагов до самой сабли, упал на снег подле нее. Левая рука его была в крови, он обтер ее о сюртук и оперся ею. Лицо его было бледно, нахмуренно и дрожало.
– Пожалу… – начал Долохов, но не мог сразу выговорить… – пожалуйте, договорил он с усилием. Пьер, едва удерживая рыдания, побежал к Долохову, и хотел уже перейти пространство, отделяющее барьеры, как Долохов крикнул: – к барьеру! – и Пьер, поняв в чем дело, остановился у своей сабли. Только 10 шагов разделяло их. Долохов опустился головой к снегу, жадно укусил снег, опять поднял голову, поправился, подобрал ноги и сел, отыскивая прочный центр тяжести. Он глотал холодный снег и сосал его; губы его дрожали, но всё улыбаясь; глаза блестели усилием и злобой последних собранных сил. Он поднял пистолет и стал целиться.
– Боком, закройтесь пистолетом, – проговорил Несвицкий.
– 3ак'ойтесь! – не выдержав, крикнул даже Денисов своему противнику.
Пьер с кроткой улыбкой сожаления и раскаяния, беспомощно расставив ноги и руки, прямо своей широкой грудью стоял перед Долоховым и грустно смотрел на него. Денисов, Ростов и Несвицкий зажмурились. В одно и то же время они услыхали выстрел и злой крик Долохова.
– Мимо! – крикнул Долохов и бессильно лег на снег лицом книзу. Пьер схватился за голову и, повернувшись назад, пошел в лес, шагая целиком по снегу и вслух приговаривая непонятные слова:
– Глупо… глупо! Смерть… ложь… – твердил он морщась. Несвицкий остановил его и повез домой.
Ростов с Денисовым повезли раненого Долохова.
Долохов, молча, с закрытыми глазами, лежал в санях и ни слова не отвечал на вопросы, которые ему делали; но, въехав в Москву, он вдруг очнулся и, с трудом приподняв голову, взял за руку сидевшего подле себя Ростова. Ростова поразило совершенно изменившееся и неожиданно восторженно нежное выражение лица Долохова.
– Ну, что? как ты чувствуешь себя? – спросил Ростов.
– Скверно! но не в том дело. Друг мой, – сказал Долохов прерывающимся голосом, – где мы? Мы в Москве, я знаю. Я ничего, но я убил ее, убил… Она не перенесет этого. Она не перенесет…
– Кто? – спросил Ростов.
– Мать моя. Моя мать, мой ангел, мой обожаемый ангел, мать, – и Долохов заплакал, сжимая руку Ростова. Когда он несколько успокоился, он объяснил Ростову, что живет с матерью, что ежели мать увидит его умирающим, она не перенесет этого. Он умолял Ростова ехать к ней и приготовить ее.
Ростов поехал вперед исполнять поручение, и к великому удивлению своему узнал, что Долохов, этот буян, бретёр Долохов жил в Москве с старушкой матерью и горбатой сестрой, и был самый нежный сын и брат.
Пьер в последнее время редко виделся с женою с глазу на глаз. И в Петербурге, и в Москве дом их постоянно бывал полон гостями. В следующую ночь после дуэли, он, как и часто делал, не пошел в спальню, а остался в своем огромном, отцовском кабинете, в том самом, в котором умер граф Безухий.
Он прилег на диван и хотел заснуть, для того чтобы забыть всё, что было с ним, но он не мог этого сделать. Такая буря чувств, мыслей, воспоминаний вдруг поднялась в его душе, что он не только не мог спать, но не мог сидеть на месте и должен был вскочить с дивана и быстрыми шагами ходить по комнате. То ему представлялась она в первое время после женитьбы, с открытыми плечами и усталым, страстным взглядом, и тотчас же рядом с нею представлялось красивое, наглое и твердо насмешливое лицо Долохова, каким оно было на обеде, и то же лицо Долохова, бледное, дрожащее и страдающее, каким оно было, когда он повернулся и упал на снег.
«Что ж было? – спрашивал он сам себя. – Я убил любовника , да, убил любовника своей жены. Да, это было. Отчего? Как я дошел до этого? – Оттого, что ты женился на ней, – отвечал внутренний голос.
«Но в чем же я виноват? – спрашивал он. – В том, что ты женился не любя ее, в том, что ты обманул и себя и ее, – и ему живо представилась та минута после ужина у князя Василья, когда он сказал эти невыходившие из него слова: „Je vous aime“. [Я вас люблю.] Всё от этого! Я и тогда чувствовал, думал он, я чувствовал тогда, что это было не то, что я не имел на это права. Так и вышло». Он вспомнил медовый месяц, и покраснел при этом воспоминании. Особенно живо, оскорбительно и постыдно было для него воспоминание о том, как однажды, вскоре после своей женитьбы, он в 12 м часу дня, в шелковом халате пришел из спальни в кабинет, и в кабинете застал главного управляющего, который почтительно поклонился, поглядел на лицо Пьера, на его халат и слегка улыбнулся, как бы выражая этой улыбкой почтительное сочувствие счастию своего принципала.
«А сколько раз я гордился ею, гордился ее величавой красотой, ее светским тактом, думал он; гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург, гордился ее неприступностью и красотой. Так вот чем я гордился?! Я тогда думал, что не понимаю ее. Как часто, вдумываясь в ее характер, я говорил себе, что я виноват, что не понимаю ее, не понимаю этого всегдашнего спокойствия, удовлетворенности и отсутствия всяких пристрастий и желаний, а вся разгадка была в том страшном слове, что она развратная женщина: сказал себе это страшное слово, и всё стало ясно!
«Анатоль ездил к ней занимать у нее денег и целовал ее в голые плечи. Она не давала ему денег, но позволяла целовать себя. Отец, шутя, возбуждал ее ревность; она с спокойной улыбкой говорила, что она не так глупа, чтобы быть ревнивой: пусть делает, что хочет, говорила она про меня. Я спросил у нее однажды, не чувствует ли она признаков беременности. Она засмеялась презрительно и сказала, что она не дура, чтобы желать иметь детей, и что от меня детей у нее не будет».
Потом он вспомнил грубость, ясность ее мыслей и вульгарность выражений, свойственных ей, несмотря на ее воспитание в высшем аристократическом кругу. «Я не какая нибудь дура… поди сам попробуй… allez vous promener», [убирайся,] говорила она. Часто, глядя на ее успех в глазах старых и молодых мужчин и женщин, Пьер не мог понять, отчего он не любил ее. Да я никогда не любил ее, говорил себе Пьер; я знал, что она развратная женщина, повторял он сам себе, но не смел признаться в этом.
И теперь Долохов, вот он сидит на снегу и насильно улыбается, и умирает, может быть, притворным каким то молодечеством отвечая на мое раскаянье!»
Пьер был один из тех людей, которые, несмотря на свою внешнюю, так называемую слабость характера, не ищут поверенного для своего горя. Он переработывал один в себе свое горе.
«Она во всем, во всем она одна виновата, – говорил он сам себе; – но что ж из этого? Зачем я себя связал с нею, зачем я ей сказал этот: „Je vous aime“, [Я вас люблю?] который был ложь и еще хуже чем ложь, говорил он сам себе. Я виноват и должен нести… Что? Позор имени, несчастие жизни? Э, всё вздор, – подумал он, – и позор имени, и честь, всё условно, всё независимо от меня.
«Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник (пришло Пьеру в голову), и они были правы с своей точки зрения, так же как правы и те, которые за него умирали мученической смертью и причисляли его к лику святых. Потом Робеспьера казнили за то, что он был деспот. Кто прав, кто виноват? Никто. А жив и живи: завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. И стоит ли того мучиться, когда жить остается одну секунду в сравнении с вечностью? – Но в ту минуту, как он считал себя успокоенным такого рода рассуждениями, ему вдруг представлялась она и в те минуты, когда он сильнее всего выказывал ей свою неискреннюю любовь, и он чувствовал прилив крови к сердцу, и должен был опять вставать, двигаться, и ломать, и рвать попадающиеся ему под руки вещи. «Зачем я сказал ей: „Je vous aime?“ все повторял он сам себе. И повторив 10 й раз этот вопрос, ему пришло в голову Мольерово: mais que diable allait il faire dans cette galere? [но за каким чортом понесло его на эту галеру?] и он засмеялся сам над собою.
Ночью он позвал камердинера и велел укладываться, чтоб ехать в Петербург. Он не мог оставаться с ней под одной кровлей. Он не мог представить себе, как бы он стал теперь говорить с ней. Он решил, что завтра он уедет и оставит ей письмо, в котором объявит ей свое намерение навсегда разлучиться с нею.
Утром, когда камердинер, внося кофе, вошел в кабинет, Пьер лежал на отоманке и с раскрытой книгой в руке спал.
Он очнулся и долго испуганно оглядывался не в силах понять, где он находится.
– Графиня приказала спросить, дома ли ваше сиятельство? – спросил камердинер.
Но не успел еще Пьер решиться на ответ, который он сделает, как сама графиня в белом, атласном халате, шитом серебром, и в простых волосах (две огромные косы en diademe [в виде диадемы] огибали два раза ее прелестную голову) вошла в комнату спокойно и величественно; только на мраморном несколько выпуклом лбе ее была морщинка гнева. Она с своим всёвыдерживающим спокойствием не стала говорить при камердинере. Она знала о дуэли и пришла говорить о ней. Она дождалась, пока камердинер уставил кофей и вышел. Пьер робко чрез очки посмотрел на нее, и, как заяц, окруженный собаками, прижимая уши, продолжает лежать в виду своих врагов, так и он попробовал продолжать читать: но чувствовал, что это бессмысленно и невозможно и опять робко взглянул на нее. Она не села, и с презрительной улыбкой смотрела на него, ожидая пока выйдет камердинер.
– Это еще что? Что вы наделали, я вас спрашиваю, – сказала она строго.
– Я? что я? – сказал Пьер.
– Вот храбрец отыскался! Ну, отвечайте, что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать! Что? Я вас спрашиваю. – Пьер тяжело повернулся на диване, открыл рот, но не мог ответить.
– Коли вы не отвечаете, то я вам скажу… – продолжала Элен. – Вы верите всему, что вам скажут, вам сказали… – Элен засмеялась, – что Долохов мой любовник, – сказала она по французски, с своей грубой точностью речи, выговаривая слово «любовник», как и всякое другое слово, – и вы поверили! Но что же вы этим доказали? Что вы доказали этой дуэлью! То, что вы дурак, que vous etes un sot, [что вы дурак,] так это все знали! К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы; к тому, чтобы всякий сказал, что вы в пьяном виде, не помня себя, вызвали на дуэль человека, которого вы без основания ревнуете, – Элен всё более и более возвышала голос и одушевлялась, – который лучше вас во всех отношениях…
– Гм… гм… – мычал Пьер, морщась, не глядя на нее и не шевелясь ни одним членом.
– И почему вы могли поверить, что он мой любовник?… Почему? Потому что я люблю его общество? Ежели бы вы были умнее и приятнее, то я бы предпочитала ваше.
– Не говорите со мной… умоляю, – хрипло прошептал Пьер.
– Отчего мне не говорить! Я могу говорить и смело скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников (des аmants), а я этого не сделала, – сказала она. Пьер хотел что то сказать, взглянул на нее странными глазами, которых выражения она не поняла, и опять лег. Он физически страдал в эту минуту: грудь его стесняло, и он не мог дышать. Он знал, что ему надо что то сделать, чтобы прекратить это страдание, но то, что он хотел сделать, было слишком страшно.
– Нам лучше расстаться, – проговорил он прерывисто.
– Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, – сказала Элен… Расстаться, вот чем испугали!
Пьер вскочил с дивана и шатаясь бросился к ней.
– Я тебя убью! – закричал он, и схватив со стола мраморную доску, с неизвестной еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее.
Лицо Элен сделалось страшно: она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: «Вон!!» таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы
Элен не выбежала из комнаты.
Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло большую половину его состояния, и один уехал в Петербург.
Прошло два месяца после получения известий в Лысых Горах об Аустерлицком сражении и о погибели князя Андрея, и несмотря на все письма через посольство и на все розыски, тело его не было найдено, и его не было в числе пленных. Хуже всего для его родных было то, что оставалась всё таки надежда на то, что он был поднят жителями на поле сражения, и может быть лежал выздоравливающий или умирающий где нибудь один, среди чужих, и не в силах дать о себе вести. В газетах, из которых впервые узнал старый князь об Аустерлицком поражении, было написано, как и всегда, весьма кратко и неопределенно, о том, что русские после блестящих баталий должны были отретироваться и ретираду произвели в совершенном порядке. Старый князь понял из этого официального известия, что наши были разбиты. Через неделю после газеты, принесшей известие об Аустерлицкой битве, пришло письмо Кутузова, который извещал князя об участи, постигшей его сына.
«Ваш сын, в моих глазах, писал Кутузов, с знаменем в руках, впереди полка, пал героем, достойным своего отца и своего отечества. К общему сожалению моему и всей армии, до сих пор неизвестно – жив ли он, или нет. Себя и вас надеждой льщу, что сын ваш жив, ибо в противном случае в числе найденных на поле сражения офицеров, о коих список мне подан через парламентеров, и он бы поименован был».
Получив это известие поздно вечером, когда он был один в. своем кабинете, старый князь, как и обыкновенно, на другой день пошел на свою утреннюю прогулку; но был молчалив с приказчиком, садовником и архитектором и, хотя и был гневен на вид, ничего никому не сказал.
Когда, в обычное время, княжна Марья вошла к нему, он стоял за станком и точил, но, как обыкновенно, не оглянулся на нее.
– А! Княжна Марья! – вдруг сказал он неестественно и бросил стамеску. (Колесо еще вертелось от размаха. Княжна Марья долго помнила этот замирающий скрип колеса, который слился для нее с тем,что последовало.)
Княжна Марья подвинулась к нему, увидала его лицо, и что то вдруг опустилось в ней. Глаза ее перестали видеть ясно. Она по лицу отца, не грустному, не убитому, но злому и неестественно над собой работающему лицу, увидала, что вот, вот над ней повисло и задавит ее страшное несчастие, худшее в жизни, несчастие, еще не испытанное ею, несчастие непоправимое, непостижимое, смерть того, кого любишь.
– Mon pere! Andre? [Отец! Андрей?] – Сказала неграциозная, неловкая княжна с такой невыразимой прелестью печали и самозабвения, что отец не выдержал ее взгляда, и всхлипнув отвернулся.
– Получил известие. В числе пленных нет, в числе убитых нет. Кутузов пишет, – крикнул он пронзительно, как будто желая прогнать княжну этим криком, – убит!
Княжна не упала, с ней не сделалось дурноты. Она была уже бледна, но когда она услыхала эти слова, лицо ее изменилось, и что то просияло в ее лучистых, прекрасных глазах. Как будто радость, высшая радость, независимая от печалей и радостей этого мира, разлилась сверх той сильной печали, которая была в ней. Она забыла весь страх к отцу, подошла к нему, взяла его за руку, потянула к себе и обняла за сухую, жилистую шею.
– Mon pere, – сказала она. – Не отвертывайтесь от меня, будемте плакать вместе.
– Мерзавцы, подлецы! – закричал старик, отстраняя от нее лицо. – Губить армию, губить людей! За что? Поди, поди, скажи Лизе. – Княжна бессильно опустилась в кресло подле отца и заплакала. Она видела теперь брата в ту минуту, как он прощался с ней и с Лизой, с своим нежным и вместе высокомерным видом. Она видела его в ту минуту, как он нежно и насмешливо надевал образок на себя. «Верил ли он? Раскаялся ли он в своем неверии? Там ли он теперь? Там ли, в обители вечного спокойствия и блаженства?» думала она.
– Mon pere, [Отец,] скажите мне, как это было? – спросила она сквозь слезы.
– Иди, иди, убит в сражении, в котором повели убивать русских лучших людей и русскую славу. Идите, княжна Марья. Иди и скажи Лизе. Я приду.
Когда княжна Марья вернулась от отца, маленькая княгиня сидела за работой, и с тем особенным выражением внутреннего и счастливо спокойного взгляда, свойственного только беременным женщинам, посмотрела на княжну Марью. Видно было, что глаза ее не видали княжну Марью, а смотрели вглубь – в себя – во что то счастливое и таинственное, совершающееся в ней.
– Marie, – сказала она, отстраняясь от пялец и переваливаясь назад, – дай сюда твою руку. – Она взяла руку княжны и наложила ее себе на живот.
Глаза ее улыбались ожидая, губка с усиками поднялась, и детски счастливо осталась поднятой.
Княжна Марья стала на колени перед ней, и спрятала лицо в складках платья невестки.
– Вот, вот – слышишь? Мне так странно. И знаешь, Мари, я очень буду любить его, – сказала Лиза, блестящими, счастливыми глазами глядя на золовку. Княжна Марья не могла поднять головы: она плакала.
– Что с тобой, Маша?
– Ничего… так мне грустно стало… грустно об Андрее, – сказала она, отирая слезы о колени невестки. Несколько раз, в продолжение утра, княжна Марья начинала приготавливать невестку, и всякий раз начинала плакать. Слезы эти, которых причину не понимала маленькая княгиня, встревожили ее, как ни мало она была наблюдательна. Она ничего не говорила, но беспокойно оглядывалась, отыскивая чего то. Перед обедом в ее комнату вошел старый князь, которого она всегда боялась, теперь с особенно неспокойным, злым лицом и, ни слова не сказав, вышел. Она посмотрела на княжну Марью, потом задумалась с тем выражением глаз устремленного внутрь себя внимания, которое бывает у беременных женщин, и вдруг заплакала.
– Получили от Андрея что нибудь? – сказала она.
– Нет, ты знаешь, что еще не могло притти известие, но mon реrе беспокоится, и мне страшно.
– Так ничего?
– Ничего, – сказала княжна Марья, лучистыми глазами твердо глядя на невестку. Она решилась не говорить ей и уговорила отца скрыть получение страшного известия от невестки до ее разрешения, которое должно было быть на днях. Княжна Марья и старый князь, каждый по своему, носили и скрывали свое горе. Старый князь не хотел надеяться: он решил, что князь Андрей убит, и не смотря на то, что он послал чиновника в Австрию розыскивать след сына, он заказал ему в Москве памятник, который намерен был поставить в своем саду, и всем говорил, что сын его убит. Он старался не изменяя вести прежний образ жизни, но силы изменяли ему: он меньше ходил, меньше ел, меньше спал, и с каждым днем делался слабее. Княжна Марья надеялась. Она молилась за брата, как за живого и каждую минуту ждала известия о его возвращении.
– Ma bonne amie, [Мой добрый друг,] – сказала маленькая княгиня утром 19 го марта после завтрака, и губка ее с усиками поднялась по старой привычке; но как и во всех не только улыбках, но звуках речей, даже походках в этом доме со дня получения страшного известия была печаль, то и теперь улыбка маленькой княгини, поддавшейся общему настроению, хотя и не знавшей его причины, – была такая, что она еще более напоминала об общей печали.
– Ma bonne amie, je crains que le fruschtique (comme dit Фока – повар) de ce matin ne m'aie pas fait du mal. [Дружочек, боюсь, чтоб от нынешнего фриштика (как называет его повар Фока) мне не было дурно.]
– А что с тобой, моя душа? Ты бледна. Ах, ты очень бледна, – испуганно сказала княжна Марья, своими тяжелыми, мягкими шагами подбегая к невестке.
– Ваше сиятельство, не послать ли за Марьей Богдановной? – сказала одна из бывших тут горничных. (Марья Богдановна была акушерка из уездного города, жившая в Лысых Горах уже другую неделю.)
– И в самом деле, – подхватила княжна Марья, – может быть, точно. Я пойду. Courage, mon ange! [Не бойся, мой ангел.] Она поцеловала Лизу и хотела выйти из комнаты.
– Ах, нет, нет! – И кроме бледности, на лице маленькой княгини выразился детский страх неотвратимого физического страдания.
– Non, c'est l'estomac… dites que c'est l'estomac, dites, Marie, dites…, [Нет это желудок… скажи, Маша, что это желудок…] – и княгиня заплакала детски страдальчески, капризно и даже несколько притворно, ломая свои маленькие ручки. Княжна выбежала из комнаты за Марьей Богдановной.
– Mon Dieu! Mon Dieu! [Боже мой! Боже мой!] Oh! – слышала она сзади себя.
Потирая полные, небольшие, белые руки, ей навстречу, с значительно спокойным лицом, уже шла акушерка.
– Марья Богдановна! Кажется началось, – сказала княжна Марья, испуганно раскрытыми глазами глядя на бабушку.
– Ну и слава Богу, княжна, – не прибавляя шага, сказала Марья Богдановна. – Вам девицам про это знать не следует.
– Но как же из Москвы доктор еще не приехал? – сказала княжна. (По желанию Лизы и князя Андрея к сроку было послано в Москву за акушером, и его ждали каждую минуту.)
– Ничего, княжна, не беспокойтесь, – сказала Марья Богдановна, – и без доктора всё хорошо будет.
Через пять минут княжна из своей комнаты услыхала, что несут что то тяжелое. Она выглянула – официанты несли для чего то в спальню кожаный диван, стоявший в кабинете князя Андрея. На лицах несших людей было что то торжественное и тихое.
Княжна Марья сидела одна в своей комнате, прислушиваясь к звукам дома, изредка отворяя дверь, когда проходили мимо, и приглядываясь к тому, что происходило в коридоре. Несколько женщин тихими шагами проходили туда и оттуда, оглядывались на княжну и отворачивались от нее. Она не смела спрашивать, затворяла дверь, возвращалась к себе, и то садилась в свое кресло, то бралась за молитвенник, то становилась на колена пред киотом. К несчастию и удивлению своему, она чувствовала, что молитва не утишала ее волнения. Вдруг дверь ее комнаты тихо отворилась и на пороге ее показалась повязанная платком ее старая няня Прасковья Савишна, почти никогда, вследствие запрещения князя,не входившая к ней в комнату.
– С тобой, Машенька, пришла посидеть, – сказала няня, – да вот княжовы свечи венчальные перед угодником зажечь принесла, мой ангел, – сказала она вздохнув.
– Ах как я рада, няня.
– Бог милостив, голубка. – Няня зажгла перед киотом обвитые золотом свечи и с чулком села у двери. Княжна Марья взяла книгу и стала читать. Только когда слышались шаги или голоса, княжна испуганно, вопросительно, а няня успокоительно смотрели друг на друга. Во всех концах дома было разлито и владело всеми то же чувство, которое испытывала княжна Марья, сидя в своей комнате. По поверью, что чем меньше людей знает о страданиях родильницы, тем меньше она страдает, все старались притвориться незнающими; никто не говорил об этом, но во всех людях, кроме обычной степенности и почтительности хороших манер, царствовавших в доме князя, видна была одна какая то общая забота, смягченность сердца и сознание чего то великого, непостижимого, совершающегося в эту минуту.
В большой девичьей не слышно было смеха. В официантской все люди сидели и молчали, на готове чего то. На дворне жгли лучины и свечи и не спали. Старый князь, ступая на пятку, ходил по кабинету и послал Тихона к Марье Богдановне спросить: что? – Только скажи: князь приказал спросить что? и приди скажи, что она скажет.
– Доложи князю, что роды начались, – сказала Марья Богдановна, значительно посмотрев на посланного. Тихон пошел и доложил князю.
– Хорошо, – сказал князь, затворяя за собою дверь, и Тихон не слыхал более ни малейшего звука в кабинете. Немного погодя, Тихон вошел в кабинет, как будто для того, чтобы поправить свечи. Увидав, что князь лежал на диване, Тихон посмотрел на князя, на его расстроенное лицо, покачал головой, молча приблизился к нему и, поцеловав его в плечо, вышел, не поправив свечей и не сказав, зачем он приходил. Таинство торжественнейшее в мире продолжало совершаться. Прошел вечер, наступила ночь. И чувство ожидания и смягчения сердечного перед непостижимым не падало, а возвышалось. Никто не спал.
Была одна из тех мартовских ночей, когда зима как будто хочет взять свое и высыпает с отчаянной злобой свои последние снега и бураны. Навстречу немца доктора из Москвы, которого ждали каждую минуту и за которым была выслана подстава на большую дорогу, к повороту на проселок, были высланы верховые с фонарями, чтобы проводить его по ухабам и зажорам.
Княжна Марья уже давно оставила книгу: она сидела молча, устремив лучистые глаза на сморщенное, до малейших подробностей знакомое, лицо няни: на прядку седых волос, выбившуюся из под платка, на висящий мешочек кожи под подбородком.
Няня Савишна, с чулком в руках, тихим голосом рассказывала, сама не слыша и не понимая своих слов, сотни раз рассказанное о том, как покойница княгиня в Кишиневе рожала княжну Марью, с крестьянской бабой молдаванкой, вместо бабушки.
– Бог помилует, никогда дохтура не нужны, – говорила она. Вдруг порыв ветра налег на одну из выставленных рам комнаты (по воле князя всегда с жаворонками выставлялось по одной раме в каждой комнате) и, отбив плохо задвинутую задвижку, затрепал штофной гардиной, и пахнув холодом, снегом, задул свечу. Княжна Марья вздрогнула; няня, положив чулок, подошла к окну и высунувшись стала ловить откинутую раму. Холодный ветер трепал концами ее платка и седыми, выбившимися прядями волос.
– Княжна, матушка, едут по прешпекту кто то! – сказала она, держа раму и не затворяя ее. – С фонарями, должно, дохтур…
– Ах Боже мой! Слава Богу! – сказала княжна Марья, – надо пойти встретить его: он не знает по русски.
Княжна Марья накинула шаль и побежала навстречу ехавшим. Когда она проходила переднюю, она в окно видела, что какой то экипаж и фонари стояли у подъезда. Она вышла на лестницу. На столбике перил стояла сальная свеча и текла от ветра. Официант Филипп, с испуганным лицом и с другой свечей в руке, стоял ниже, на первой площадке лестницы. Еще пониже, за поворотом, по лестнице, слышны были подвигавшиеся шаги в теплых сапогах. И какой то знакомый, как показалось княжне Марье, голос, говорил что то.
– Слава Богу! – сказал голос. – А батюшка?
– Почивать легли, – отвечал голос дворецкого Демьяна, бывшего уже внизу.
Потом еще что то сказал голос, что то ответил Демьян, и шаги в теплых сапогах стали быстрее приближаться по невидному повороту лестницы. «Это Андрей! – подумала княжна Марья. Нет, это не может быть, это было бы слишком необыкновенно», подумала она, и в ту же минуту, как она думала это, на площадке, на которой стоял официант со свечой, показались лицо и фигура князя Андрея в шубе с воротником, обсыпанным снегом. Да, это был он, но бледный и худой, и с измененным, странно смягченным, но тревожным выражением лица. Он вошел на лестницу и обнял сестру.
– Вы не получили моего письма? – спросил он, и не дожидаясь ответа, которого бы он и не получил, потому что княжна не могла говорить, он вернулся, и с акушером, который вошел вслед за ним (он съехался с ним на последней станции), быстрыми шагами опять вошел на лестницу и опять обнял сестру. – Какая судьба! – проговорил он, – Маша милая – и, скинув шубу и сапоги, пошел на половину княгини.
Маленькая княгиня лежала на подушках, в белом чепчике. (Страдания только что отпустили ее.) Черные волосы прядями вились у ее воспаленных, вспотевших щек; румяный, прелестный ротик с губкой, покрытой черными волосиками, был раскрыт, и она радостно улыбалась. Князь Андрей вошел в комнату и остановился перед ней, у изножья дивана, на котором она лежала. Блестящие глаза, смотревшие детски, испуганно и взволнованно, остановились на нем, не изменяя выражения. «Я вас всех люблю, я никому зла не делала, за что я страдаю? помогите мне», говорило ее выражение. Она видела мужа, но не понимала значения его появления теперь перед нею. Князь Андрей обошел диван и в лоб поцеловал ее.
– Душенька моя, – сказал он: слово, которое никогда не говорил ей. – Бог милостив. – Она вопросительно, детски укоризненно посмотрела на него.
– Я от тебя ждала помощи, и ничего, ничего, и ты тоже! – сказали ее глаза. Она не удивилась, что он приехал; она не поняла того, что он приехал. Его приезд не имел никакого отношения до ее страданий и облегчения их. Муки вновь начались, и Марья Богдановна посоветовала князю Андрею выйти из комнаты.
Акушер вошел в комнату. Князь Андрей вышел и, встретив княжну Марью, опять подошел к ней. Они шопотом заговорили, но всякую минуту разговор замолкал. Они ждали и прислушивались.
– Allez, mon ami, [Иди, мой друг,] – сказала княжна Марья. Князь Андрей опять пошел к жене, и в соседней комнате сел дожидаясь. Какая то женщина вышла из ее комнаты с испуганным лицом и смутилась, увидав князя Андрея. Он закрыл лицо руками и просидел так несколько минут. Жалкие, беспомощно животные стоны слышались из за двери. Князь Андрей встал, подошел к двери и хотел отворить ее. Дверь держал кто то.