Марк Антоний
| Марк Антоний лат. Marcus Antonius<tr><td colspan="2" style="text-align: center; border-top: solid darkgray 1px;">  </td></tr> </td></tr>
<tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Бюст римлянина, который традиционно отождествляют с Марком Антонием. Конец I века н. э., Ватиканские музеи</td></tr> | ||
| ||
|---|---|---|
| 31 год до н. э. (не вступил в должность) | ||
| ||
| 34 год до н. э. | ||
| Соправитель: | Луций Скрибоний Либон | |
| Предшественник: | Публий Корнелий Долабелла и Тит Педуцей | |
| Преемник: | Луций Семпроний Атратин и Павел Эмилий Лепид (суффекты) | |
| ||
| 43 — 33 годы до н. э. | ||
| Соправитель: | Гай Юлий Цезарь Октавиан и Марк Эмилий Лепид | |
| ||
| 44 год до н. э. | ||
| Соправитель: | Гай Юлий Цезарь (до 15 марта), Публий Корнелий Долабелла (консул-суффект) | |
| Предшественник: | Гай Каниний Ребил и Гай Требоний | |
| Преемник: | Гай Вибий Панса Цетрониан и Авл Гирций | |
| ||
| 48 — 47 годы до н. э. | ||
| Соправитель: | Гай Юлий Цезарь (диктатор) | |
| Предшественник: | Квинт Цецилий Метелл Пий | |
| Преемник: | Марк Эмилий Лепид | |
| Рождение: | 14 января 83 до н. э. | |
| Смерть: | 1 августа 30 до н. э. (53 года) Александрия | |
| Отец: | Марк Антоний Кретик | |
| Мать: | Юлия Антония | |
| Супруга: | 1) Фадия 2) Антония Гибрида Младшая (50-е — 47 до н. э.) 3) Фульвия (ок. 47—40 до н. э.) 4) Октавия Младшая (40—32 до н. э.) 5) Клеопатра (32—30 до н. э.) | |
| Дети: | 1) дети от Фадии (подробности неизвестны) 2) Антония (от Антонии) 3) Марк Антоний Антилл 4) Юл Антоний (от Фульвии) 5) Антония Старшая 6) Антония Младшая (от Октавии) 7) Александр Гелиос 8) Клеопатра Селена II 9) Птолемей Филадельф (от Клеопатры)[коммент. 1] | |
Марк Анто́ний (лат. Marcus Antonius; предположительно 14 января 83 года до н. э. — 1 августа 30 года до н. э., Александрия Египетская) — древнеримский политик и военачальник, участник второго триумвирата 43—33 годов до н. э., трижды консул 44 до н. э., 34 до н. э. и 31 до н. э. (в последний раз официально не вступил в должность).
Антоний происходил из древнего, но лишь недавно возвысившегося плебейского рода. В молодости он проводил время в кругу столичной «золотой молодёжи», чем изрядно подпортил свою репутацию. Завоевал славу талантливого военачальника, сражаясь под началом Габиния в Иудее и Египте, а позднее — под командованием Цезаря в Галльской и гражданской войнах. Марк стал одним из ближайших соратников Цезаря и быстро возвысился под его патронажем. Когда после убийства Цезаря его наследником был объявлен Гай Октавий (Октавиан), Антоний сперва попытался захватить власть в одиночку, а затем объединился с Октавианом и Лепидом, создав второй триумвират под предлогом борьбы с республиканцами — участниками заговора против Цезаря. Триумвиры устроили жестокие проскрипции, перебив богачей и своих личных врагов, причём именно Антонию приписывается инициатива казни известного оратора и философа Цицерона. После победы над республиканцами Брутом и Кассием в битве при Филиппах он стал управлять восточными провинциями.
На Востоке Антоний познакомился с египетской царицей Клеопатрой и влюбился в неё, и впоследствии их отношения стали источником множества романтических легенд. В середине 30-х годов до н. э. Антоний предпринял поход против усиливавшегося Парфянского государства, однако с большими потерями отступил. Когда срок полномочий триумвирата завершился, Антоний собрал свои войска в Греции для отражения нападения Октавиана, но оказался заперт в Амбракийском заливе. 2 сентября 31 года до н. э. Антоний и Клеопатра прорвали блокаду Октавиана в битве при Акции и вернулись в Египет, но потеряли большую часть флота и всякую надежду на победу. Марк покончил жизнь самоубийством в осаждённой Октавианом Александрии, а через несколько дней его примеру последовала и Клеопатра.
Старший сын Антония был убит Октавианом, хотя император помиловал других его детей. Благодаря удачно заключённым бракам двух дочерей, Марк Антоний — дед императора Клавдия, прадед императора Калигулы и прапрадед императора Нерона.
Содержание
- 1 Происхождение, молодость и начало карьеры
- 2 Возвышение при Цезаре
- 3 Карьера после убийства Цезаря. Основание второго триумвирата
- 4 Антоний на Востоке
- 5 Битва при Акции и смерть
- 6 Личность
- 7 Образ Антония в культуре, искусстве и историографии
- 8 Комментарии и цитаты
- 9 Примечания
- 10 Литература
Происхождение, молодость и начало карьеры
Происхождение
Марк Антоний происходил из известного в Риме семейства, принадлежавшего к узкой прослойке правящей элиты — нобилитета. Его отцом был Марк Антоний Кретик (то есть «Критский»), матерью — Юлия. Антонии были древним родом и имели, подобно большинству старых римских семейств, общую легенду о своём происхождении, возводя свой род к Антону, сыну Геракла[3]. Представители рода Антониев занимали высокие должности в Римской республике ещё в V веке до н. э., а один из них участвовал в составлении знаменитых Законов двенадцати таблиц. В основном это были представители патрицианской ветви рода, а плебейская ветвь, к которой принадлежали и предки Марка, возвысилась значительно позднее. Лишь в 99 году до н. э. дед будущего триумвира Марк Антоний, прозванный «Оратором», впервые в семействе добился должности консула, а двумя годами спустя — должности цензора. В 87 году до н. э. его казнили по приказу Гая Мария[4], но его сыну удалось избежать преследования. Возможно, отцу будущего триумвира пришлось скрываться вместе с беременной женой Юлией[5]. Как следствие, точное место рождения Антония неизвестно.
Мать Антония происходила из древнего патрицианского рода Юлиев и приходилась дальней родственницей Гаю Юлию Цезарю и будущему императору Октавиану. Впрочем, ветвь Юлиев Цезарей, к которой относилась мать Антония, не поддерживала тесных связей с родственниками Цезаря и Октавиана — сторонниками Гая Мария, — встав на сторону Луция Корнелия Суллы[6].
Детство
Согласно наиболее распространённой версии, Марк Антоний родился в 83 году до н. э.[5] (иногда предполагается, что он родился в 82 году до н. э.[7]). Плутарх указывает на существование других источников, согласно которым полководцу к моменту смерти было 56 лет, а не 53 — соответственно, в этом случае рождение Антония должно относиться к 86 году до н. э.[8] Существует предположение о рождении Марка 14 января[коммент. 2].
У Антония было два младших брата — Луций и Гай. Подробности его детства и воспитания неизвестны — биограф Антония Плутарх ничего не сообщает об этих деталях. Как и многие отпрыски знатных семейств, он, по-видимому, получил хорошее домашнее образование: Цицерон замечает, что в молодости он считался «подающим надежды»[12]. Кроме того, Антоний всегда находился в великолепной физической форме, поэтому он наверняка преуспел в гимнастических упражнениях и военно-подготовительных тренировках — важном компоненте воспитания юных нобилей[13][7]. Возможно, в юном возрасте Марк стал жрецом-луперком: обычно луперками становились юноши из знатных семейств, а впоследствии его участие на празднике Луперкалий достоверно засвидетельствовано[14].
Благодаря деду Марка род Антониев укрепил своё влияние. За услуги, которые Марк оказывал италикам и жителям римских провинций, они должны были расплачиваться поддержкой своих патронов — членов рода Антониев. Отец Марка добился должности претора в 74 году до н. э. и получил почти неограниченные полномочия для борьбы с пиратами, которые наносили серьёзный урон торговле в Средиземном море. Впрочем, ему не удалось воспользоваться переданной ему властью, и он запомнился лишь хищениями в провинциях и некомпетентностью в организации военных действий против пиратов. Умер он на острове Крит в 71 году до н. э.[15]
Отец Марка оставил после себя огромные долги. Общая их сумма была так велика, что Антонии отказались от одного из оставленных Марком имений — вместе с землёй и домом полагались огромные долговые обязательства[5]. Юлия вскоре вышла замуж во второй раз за Публия Корнелия Лентула Суру, консула 71 года до н. э. В следующем году после консулата цензоры исключили его из состава сената — по официальной формулировке, за распутство[16]. Поскольку Цицерон впоследствии утверждал, что Антоний был банкротом ещё в детстве, то предполагается, что Лентул Сура не успел, не захотел или не смог выплатить все долги Марка Антония-старшего[5].
 В 63 году до н. э. Лентул Сура примкнул к заговору Катилины (в число важнейших требований Катилины входила отмена всех долгов — tabulae novae), но был разоблачён и казнён 5 декабря 63 года до н. э.[16] Возможно, именно тогда была заложена основа для вражды Антония и Цицерона: тот приложил значительные усилия для раскрытия заговора[17] и впоследствии всегда хвалился этим. Цезарь же, напротив, выступал за замену смертной казни, почти не применявшейся в Риме, пожизненным заключением, что в будущем могло содействовать сближению Антония с ним[18]. В этом же году одним из двух консулов был Гай Антоний Гибрида, дядя Марка по отцовской линии[15]. Его также подозревали в причастности к заговорщикам, но ему удалось избежать преследования. Впрочем, в 59 году до н. э. его всё же осудили за нарушения в годы наместничества в Македонии и приговорили к изгнанию — высшей мере наказания в мирное время за большинство преступлений[16]. Дядя по материнской линии Луций Юлий Цезарь в это время примыкал к консерваторам-оптиматам. В частности, он выступал за казнь участников заговора Катилины, хотя Лентул Сура приходился ему зятем[19].
В 63 году до н. э. Лентул Сура примкнул к заговору Катилины (в число важнейших требований Катилины входила отмена всех долгов — tabulae novae), но был разоблачён и казнён 5 декабря 63 года до н. э.[16] Возможно, именно тогда была заложена основа для вражды Антония и Цицерона: тот приложил значительные усилия для раскрытия заговора[17] и впоследствии всегда хвалился этим. Цезарь же, напротив, выступал за замену смертной казни, почти не применявшейся в Риме, пожизненным заключением, что в будущем могло содействовать сближению Антония с ним[18]. В этом же году одним из двух консулов был Гай Антоний Гибрида, дядя Марка по отцовской линии[15]. Его также подозревали в причастности к заговорщикам, но ему удалось избежать преследования. Впрочем, в 59 году до н. э. его всё же осудили за нарушения в годы наместничества в Македонии и приговорили к изгнанию — высшей мере наказания в мирное время за большинство преступлений[16]. Дядя по материнской линии Луций Юлий Цезарь в это время примыкал к консерваторам-оптиматам. В частности, он выступал за казнь участников заговора Катилины, хотя Лентул Сура приходился ему зятем[19].
Молодость
Юность Антония пришлась на сравнительно спокойное для Римской республики время. В это время крупные военные кампании велись очень далеко от столицы, и знатная молодёжь вместо военной службы проводила время в Риме. Молодые нобили стремились к свободе самовыражения: например, Цезарь очень легко подпоясывал тунику и носил рукава с бахромой. Антоний же отрастил бороду и, подражая своему мифическому предку Гераклу, «опоясывал тунику у самых бёдер, к поясу пристёгивал длинный меч и закутывался в тяжёлый военный плащ»[3][13]. Большое влияние на Антония имел Гай Скрибоний Курион, сын консула 76 года до н. э. По утверждению Плутарха, именно из-за Куриона Антоний пристрастился к выпивке, женщинам и непозволительно роскошному образу жизни[17]. Эта сомнительная дружба впоследствии послужила источником для множества слухов и сплетен (см. раздел «Личная жизнь»). Цицерон утверждает, что Курион-старший под давлением сына и при посредничестве Марка Туллия выплатил часть долгов Марка Антония или поручился за него, но при этом запретил сыну видеться с ним[20].
В конце 60-х годов до н. э. Антоний близко сошёлся с известным демагогом Клодием[14], любимцем радикально настроенной городской бедноты. Впрочем, вскоре их пути разошлись. Цицерон считает причиной разрыва роман Марка с женой Клодия Фульвией[21].
Несмотря на благородное происхождение, уже в молодости репутация Антония была начисто подорвана, и родственники не смогли договориться о браке с девушкой из знатной семьи. В результате, первой женой Марка стала Фадия, дочь богатого вольноотпущенника (раба, получившего свободу) Квинта Фадия Галла. Впрочем, подробностей этого брака сохранилось очень мало — к 44 году до н. э. она наверняка умерла. Брак с дочерью вольноотпущенника считался мезальянсом, и чаще всего причиной для таких отношений были деньги[14][13].
Служба под началом Габиния. Кампании в Иудее и Египте
Вмешательство Куриона и брак с Фадией не решили проблему долгов Антония[22]. Впоследствии его упрекали в том, что он жил так, как будто не был банкротом. В частности, в театре он якобы занимал место в одном из четырнадцати рядов, отведённых для всадников по закону Росция. При этом Марк больше не соответствовал имущественному цензу сословия всадников и должен был сидеть в менее почётных рядах[23].
В 58 году до н. э. Антоний покинул Рим и отправился в Грецию. Среди причин внезапного путешествия называются давление кредиторов, ссора с возвысившимся Клодием из-за Фульвии и, в последнюю очередь, желание Марка улучшить своё ораторское мастерство — важный навык для успешной политической карьеры в Римской республике. Отчасти благодаря хорошему образованию в детстве, отчасти из-за стажировки в Греции Марк преуспел в публичных выступлениях, придерживаясь традиций азиатской (азианской) ораторской школы, представители которой ориентировались на пышный и изысканный стиль. Известно также, что Антоний злоупотреблял архаизмами в своих публичных выступлениях — в этом его впоследствии обвинял Октавиан[21][17].
В том же году Марк принял предложение консула Авла Габиния о службе под его началом в Сирии. После окончания консульства Габиний должен был отправиться туда в ранге проконсула, а Антонию он предложил стать командующим кавалерией в своих отрядах[21]. По другой версии, новый наместник пригласил Антония, уже направляясь в свою провинцию через Грецию[24]. Среди причин, побудивших Габиния взять с собой известного представителя «золотой молодёжи» без опыта руководства войсками, называются и связи двух родов в прошлом: дед Авла служил квестором под началом деда Марка в Киликии в 102 году до н. э.[25] Первоначально Габиний предлагал Антонию младшую должность, но он потребовал более важное место префекта кавалерии (под командованием префекта кавалерии — praefectus equitum — находились один или несколько отрядов по 400—500 кавалеристов каждый)[24].
Перед новым наместником Сирии, помимо обычного разбора дел в провинции, стояла также задача восстановить римское влияние в Иудее: сын свергнутого царя Аристобула II, содержавшегося в плену в Риме, Александр Яннай II собрал армию и попытался свергнуть римского ставленника Гиркана II. Во время штурма крепости Александрион (Сартаба)[en], опоры мятежного принца, Антоний первым поднялся на стену, заслужив «муральную корону» (лат. corona muralis) — почётную воинскую награду. Марк участвовал и во взятии других важных крепостей мятежников — Махерона и Гиркании[en][26]. Вскоре из Рима бежал сам Аристобул II. После прибытия в Иудею он поднял новое восстание. На этот раз Габиний поручил ведение войны трём своим подчинённым — Антонию, Сизенне (своему сыну) и Сервилию. Возле Александриона они разбили войска Аристобула и вернули его в Рим[26][24].
По-видимому, Габиний готовился напасть на Парфию и даже сконцентрировал свои войска возле Евфрата, когда к нему обратился изгнанный из Египта фараон Птолемей XII Авлет. В 59 году до н. э. он заплатил триумвирам и лично Цезарю огромную взятку за признание своей власти (тем самым Рим отказывался от претензий на владение Египтом по наверняка поддельному завещанию Птолемея XI) и за признание себя «другом и союзником римского народа». Впрочем, уже в 58 году до н. э. Птолемея свергли, и он попросил у Рима поддержку. Сенаторы отказали фараону, а жрецы обнаружили в священных Сивиллиных книгах фрагмент, который истолковали как запрет на поддержку Птолемея. После неудачи в Риме Птолемей обратился напрямую к Габинию, пообещав ему огромную взятку в 10 тысяч талантов за использование римской армии для своего восстановления на троне[27].
После некоторых раздумий Авл согласился, хотя и знал про изданный в Риме религиозный запрет. Кроме того, по закону наместник не мог покидать провинцию и вторгаться в другие земли без специального разрешения сената или народного собрания. Антоний последовал за наместником, хотя многие другие офицеры отказались ввязываться в нелегальное предприятие[28]. Плутарх и вовсе считает, что именно Антоний склонил Габиния к египетской авантюре[29]. Гиркан, благодарный Габинию за сохранение его власти, снабжал римские войска продовольствием и отправил вместе с ними контингент своих войск во главе с Антипатром Идумеянином[24].
Осенью 56 года до н. э. Габиний обвинил новые египетские власти в покровительстве пиратам и в подготовке мощного флота, создававшего угрозу римскому господству на море. Под этим предлогом он ввёл свои войска в Египет. Антонию поручалась важная задача по захвату Пелузия — стратегически важного пункта, через который лежал путь на Александрию. Кавалерия Марка быстро прошла через пустыни Синая и солёные заболоченные лагуны Суэцкого перешейка, после чего заняла Пелузий[28]. Большую помощь во взятии города оказал Антипатр: он уговорил отряд еврейских наёмников на египетской службе открыть ворота римлянам[24]. Прибывший в город с основными войсками Птолемей распорядился казнить местных жителей за то, что они признали новую царицу Беренику, но Марк заступился за них и уговорил царя отказаться от казней. Вскоре недалеко от Александрии состоялась битва Птолемея и Габиния против войск Береники. Исход этого сражения решил Антоний, который завёл римскую конницу в тыл египтянам и тем самым решил исход сражения[28].
После взятия Александрии Марк нашёл тело мужа Береники и царя-консорта Египта Архелая (они были знакомы и раньше), похоронив его с царскими почестями, чем заслужил уважение египтян[24]. Александрийский историк Аппиан во II веке записал легенду, будто именно во время экспедиции Габиния Антоний впервые увидел дочь Птолемея Клеопатру и влюбился с первого взгляда[24]. Вскоре Габиний вместе с Антонием покинул Египет, чтобы подавить новый мятеж в Иудее и отбить нападение набатейских арабов. Поскольку Птолемей не смог выплатить всю обещанную сумму взятки сразу, Антоний едва ли получил прибыль от египетской кампании[30].
В 54 году до н. э. срок наместничества Габиния в Сирии истекал, и он покинул провинцию. Наместник вернулся в Рим ночью, желая остаться незамеченным, а о триумфе за победы в Иудее и Египте не было и речи. В Риме против него выдвинули несколько обвинений (помимо нарушения законов и религиозного запрета, Авл разграбил вверенную ему провинцию). Покровитель Габиния Помпей защищал своего старого соратника, но в конце концов его осудили и изгнали. Антоний же суда избежал. Впрочем, многие сенаторы были настроены к нему недоброжелательно, и в конце 55 или начале 54 года до н. э. Марк по приглашению Цезаря отправился в Галлию[31]. По-видимому, Антоний мог остаться в Сирии и принять участие в походе нового наместника провинции Марка Лициния Красса против Парфии, но с Крассом прибыло много опытных офицеров, и вряд ли он нуждался в молодом малоопытном Антонии[32].
Возвышение при Цезаре
Служба в Галлии
 Осенью 54 года до н. э. Антоний прибыл к Гаю Юлию Цезарю в Галлию, который набирал молодых талантливых офицеров для завершения Галльской войны. Выбор в пользу Цезаря мог быть обусловлен жаждой лёгкой наживы: было хорошо известно, что Цезарь беззастенчиво грабит Галлию. Известны лишь редкие подробности службы под началом Цезаря, поскольку основной источник о Галльской войне — «Записки» самого Гая — крайне редко упоминают заслуги легатов и прочих офицеров полководца. По-видимому, сначала Антоний был легатом, трибуном легиона или же префектом кавалерии, как и у Габиния[32][33].
Осенью 54 года до н. э. Антоний прибыл к Гаю Юлию Цезарю в Галлию, который набирал молодых талантливых офицеров для завершения Галльской войны. Выбор в пользу Цезаря мог быть обусловлен жаждой лёгкой наживы: было хорошо известно, что Цезарь беззастенчиво грабит Галлию. Известны лишь редкие подробности службы под началом Цезаря, поскольку основной источник о Галльской войне — «Записки» самого Гая — крайне редко упоминают заслуги легатов и прочих офицеров полководца. По-видимому, сначала Антоний был легатом, трибуном легиона или же префектом кавалерии, как и у Габиния[32][33].
В 53 году до н. э. Цезарь отпустил Антония в Рим для участия в выборах квесторов, сопроводив рекомендательным письмом к Цицерону — старому недругу Антония. Впрочем, поддержка Цицерона наверняка сводилась к отсутствию препятствий к избранию на эту младшую должность[34][32]. Поскольку выборы задержались, Антоний находился в Риме и в январе 52 года до н. э., когда раб демагога Милона убил Клодия. Хотя, по утверждению Цицерона, чуть ранее Антоний и сам пытался убить Клодия[цитата 1][35], Марк выступил в поддержку Клодия, произнеся двухчасовую речь, в которой требовал осуждения Милона. После выборов квесторов их традиционно распределяли для различных поручений по жребию, но Антоний не стал дожидаться случайного назначения. Вместо этого он отправился к Цезарю, который столкнулся с всеобщим восстанием галлов под руководством Верцингеторига. Тем не менее, ему пришлось задержаться в столице: суд над Милоном, в котором принял участие Антоний, состоялся в апреле[32][36]. По версии Ежи Линдерского[en], из-за участия в деле Клодия Марк отказался от участия в выборах квесторов 52 года до н. э., но дождался выборов магистратов следующего года и, таким образом, стал квестором в 51 году до н. э.[37]
Неизвестно, когда Марк присоединился к армии своего полководца[32]. Цезарь упоминает Антония в битве под Алезией в должности легата: Марк вместе с Гаем Требонием руководил римскими резервами при первом нападении галлов[38]. Зимой 52—51 годов до н. э. Цезарь оставил Антония комендантом своего зимнего лагеря[39]. Вскоре Марк, командовавший XII-м легионом, вместе с Цезарем принял участие в последних карательных операциях против недовольных римским владычеством галлов[40]. После операций в Белгике Цезарь приказал Антонию оставаться в области племени белловаков и не допускать нового восстания[41]. Зимой 51—50 годов до н. э. Антоний вместе с Гаем Требонием и Публием Ватинием был комендантом зимнего лагеря в Белгике, где находилось четыре легиона[42]. Зимой Антоний направил своего человека для убийства Коммия — вождя племени атребатов, изменившего Цезарю. Впрочем, Коммию удалось выжить, но он направил послов к Антонию с просьбой о пощаде в обмен на подчинение. Марк ответил согласием[43].
В преддверии гражданской войны
В 50 году до н. э. Антоний, возможно, был посредником в привлечении на сторону Цезаря своего старого друга Куриона, хотя решающую роль в смене его политической позиции сыграла огромная взятка от Юлия[44]. В этом же году Марк (по-видимому, по поручению Цезаря) выставил свою кандидатуру на две должности — плебейского (народного) трибуна на следующий год и авгура. Избрание на последнюю должность означало пожизненное членство в жреческой коллегии. Авгуры имели полномочия для трактовки гаданий и небесных знамений и пользовались определённым влиянием в политике. Единственное место освободилось из-за смерти Квинта Гортензия Гортала. Другим кандидатом был Луций Домиций Агенобарб, известный политик и один из самых решительных оппонентов Цезаря. Это обусловило активную поддержку Антония Цезарем: полководец решил объехать Цизальпийскую Галлию с призывом жителей этой провинции (среди них было немало римских граждан, которые могли голосовать) голосовать за Марка на обоих выборах[45]. Впрочем, народ поддержал Марка на выборах авгура ещё до того, как Цезарь начал свою агитацию, поэтому Гай начал сразу призывать их голосовать за своих кандидатов на выборах в трибуны, преторы и консулы[46]. Конкуренция на выборах трибунов была меньшей, и Антония избрали без проблем. Ещё одним трибуном был избран цезарианец Квинт Кассий Лонгин, а брата Марка Луция избрали в квесторы. Поскольку на выборах консулов цезарианец Сервий Сульпиций Гальба проиграл, на Марка Антония легла значительная часть ответственности по отстаиванию интересов Гая в столице[44][45].
Вскоре после вступления в должность 10 декабря 50 года до н. э.[коммент. 3] Антонию пришлось столкнуться с очередными попытками ряда сенаторов отстранить Цезаря от командования. Антоний и Кассий наложили вето на требование сената сложить оружие, адресованное Цезарю[45], и на попытку объявления его врагом государства. 20 декабря Антоний выступил на народной сходке (contio), произнеся речь, направленную против Помпея[47][48]; основные тезисы его выступления записал Цицерон[49]. 1 января 49 года до н. э. Курион доставил в Рим письмо Цезаря с предложением о мире на условии взаимных уступок. Сперва противники Цезаря блокировали оглашение письма на заседании сената, и Антонию вместе с Кассием пришлось добиваться его прочтения. Официального ответа не последовало. В последующие дни Антоний вёл переговоры о гарантиях неприкосновенности Цезаря до следующего консульства от его имени, но все его предложения неизменно отклонялись[50]. 7 января сенат добился принятия чрезвычайного закона (senatus consultum ultimum), причём попытки трибунов наложить вето не удались: им угрожали расправой, хотя Цезарь утверждал, что на трибунов напали[45][коммент. 4]. В первую ночь после принятия чрезвычайного закона Антоний и Кассий, переодевшись рабами, бежали из столицы в лагерь Цезаря на северном берегу реки Рубикон. Угроза священной неприкосновенности народных трибунов послужила для Цезаря предлогом для вторжения в Италию[50].
Гражданская война 49—45 годов до н. э.
Начало гражданской войны. Кампания в Греции (49—48 годы до н. э.)
 Хотя народные трибуны традиционно не могли командовать войсками, Цезарь остро нуждался в преданных офицерах и наделил Антония полномочиями пропретора[51]. Гай поручил ему руководство пятью когортами и приказал захватить Арреций (современный Ареццо) — город на стратегически важной Кассиевой дороге, что Марк успешно осуществил[52]. Поручение наверняка было выполнено в тот же день, хотя Цезарь в «Записках» и утверждает, что перед возобновлением наступления он провёл неудачные переговоры с Помпеем[53]. Сам Юлий двигался по Фламиниевой дороге, но после провала мирных переговоров (по другой версии, отряды Цезаря начали занимать Пиценскую область ещё во время мирных переговоров[53]) и получения известий о перемещениях лояльных Помпею войск на юго-восток последовал за ними, обойдя Рим стороной. Антоний маневрировал вместе с Цезарем. В феврале при осаде Корфиния (современный Корфинио) Цезарь узнал о готовности гарнизона города Сульмон (современная Сульмона) сдаться и направил туда пять когорт под руководством Марка Антония[54][55].
Хотя народные трибуны традиционно не могли командовать войсками, Цезарь остро нуждался в преданных офицерах и наделил Антония полномочиями пропретора[51]. Гай поручил ему руководство пятью когортами и приказал захватить Арреций (современный Ареццо) — город на стратегически важной Кассиевой дороге, что Марк успешно осуществил[52]. Поручение наверняка было выполнено в тот же день, хотя Цезарь в «Записках» и утверждает, что перед возобновлением наступления он провёл неудачные переговоры с Помпеем[53]. Сам Юлий двигался по Фламиниевой дороге, но после провала мирных переговоров (по другой версии, отряды Цезаря начали занимать Пиценскую область ещё во время мирных переговоров[53]) и получения известий о перемещениях лояльных Помпею войск на юго-восток последовал за ними, обойдя Рим стороной. Антоний маневрировал вместе с Цезарем. В феврале при осаде Корфиния (современный Корфинио) Цезарь узнал о готовности гарнизона города Сульмон (современная Сульмона) сдаться и направил туда пять когорт под руководством Марка Антония[54][55].
После отплытия Помпея из Брундизия (современный Бриндизи) в Грецию Антоний вернулся к исполнению обязанностей народного трибуна. Народное собрание, созванное Антонием и Лонгином, утвердило восстановление в правах для детей проскрибированных при Сулле, а также амнистировало всех осуждённых по законам Помпея 52 года до н. э.[56][57][58] (по другой версии, права детей проскрибированных при Сулле вернул сам Цезарь, но произошло это уже в конце года[59]). По-видимому, на этой же сессии за жителями Циспаданской Галлии (северной части Цизальпийской Галлии, за рекой Пад (По) — лат. Padus) было закреплено полное римское гражданство, поскольку ранее они пользовались ограниченным латинским правом[57]. Антоний и Кассий также созвали сессию сената за пределами Рима, чтобы Цезарь смог участвовать в ней, не слагая полномочий проконсула, дававших ему законную власть над войсками[60][коммент. 5].
Отправляясь в Испанию, Цезарь передал Антонию управление Италией и всеми войсками в ней, однако столицей должен был управлять претор Марк Эмилий Лепид[58]. В задачи трибуна-пропретора входила организация снабжения столицы хлебом, решение текущих экономических вопросов, сбор флота и поддержание порядка. К моменту возвращения Цезаря в Италию Марку удалось сохранить хрупкий мир на полуострове, не допустить восстания помпеянцев и подготовить флот, достаточный для прорыва морской блокады и переправы через Ионическое море. Впрочем, степень его участия в решении этих вопросов неизвестна: Плутарх полагает, что Марк энергично занимался возложенными на себя обязанностями, Цицерон же утверждает, что он проводил время с шутами и любовницей Волумнией[61][62]. Вместе с Лепидом Антоний должен был организовать выборы магистратов на будущий год для придания Цезарю легитимности (Гай надеялся получить должность консула). Им не удалось провести их без консулов, которые уплыли вместе с Помпеем, и Лепид при поддержке Антония организовал назначение Цезаря диктатором специально для организации выборов[62]. Избрание человека на чрезвычайную должность диктатора практиковалось нередко в ранней истории Рима, но назначение его претором было, по-видимому, беспрецедентным[61]. Помимо решения государственных вопросов, Антоний использовал свою власть и для обогащения: он занял тускуланскую виллу Помпея и другие имения бежавших из Италии помпеянцев. Позднее, в 47 году до н. э., Цезарь написал ему из Александрии с требованием вернуть виллу Марка Теренция Варрона законному владельцу[63]. Из-за неоднозначных действий Антония некоторые прежде нейтральные сенаторы покинули Италию. Марк безуспешно пытался заручиться поддержкой влиятельного Цицерона, но и тот всё же сбежал к Помпею[64].
В январе 48 года до н. э. Цезарь переправился из Брундизия в Грецию с частью войск, поручив Антонию переплыть Ионическое море при первой же возможности с оставшимися отрядами. Помпеянцы попытались пресечь новую переправу и направили помпеянца Луция Скрибония Либона в окрестности Брундизия. Располагая лишь двумя триремами (средними кораблями с тремя рядами вёсел) и небольшими лодками, Антоний сумел отогнать от побережья пять квадрирем (больших кораблей с пятью рядами вёсел) Либона и захватить один из его кораблей[65][66]. 10 апреля Антоний и Квинт Фуфий Кален, преодолев с основными силами блокаду помпеянцев, высадились возле города Лисс (современная Лежа). С ними прибыли важные для Цезаря подкрепления — три легиона ветеранов, один легион новобранцев и около 800 всадников[65][61][67]. И Цезарь, и Помпей пытались добраться до Антония первыми, но местные жители предупредили Марка о приближении Гнея Помпея. Вскоре Антоний успешно объединился с Цезарем, который теперь располагал примерно равными силами с Помпеем[68][69][70]. Во время манёвров под Диррахием Антоний действовал на одном из южных участков укреплений, командуя IX-м легионом, а о его участии в основном сражении ничего не известно[71][72][73][61]. В победной для Цезаря битве при Фарсале Антоний командовал левым флангом армии Цезаря; ему противостоял Луций Афраний[74][61]. Исход сражения, впрочем, решился на правом фланге без участия Марка. Вскоре после сражения Антоний вернулся в Рим.
Управление Италией. Опала (48—45 годы до н. э.)
В столице Марк вместе с консулом Публием Сервилием Ватией Исавриком добился повторного назначения Цезаря на чрезвычайную должность диктатора. На этот раз, однако, назначение изначально не было техническим: Цезарю требовалось сохранить легальную власть над войсками в 47 году до н. э. Для этого диктатора назначили не на традиционные 6 месяцев, а на один год. После получения известий об успешном наделении новыми полномочиями Цезарь назначил своим заместителем — начальником конницы (magister equitum) — Марка Антония[75] (впрочем, Элеанор Хьюзар полагает, что Антоний получил должность по тому же декрету, что и Цезарь[76]). Известно, что к декабрю Антоний уже вступил в новую должность[75]. В истекающем году его полномочия как заместителя диктатора были меньше, чем у консулов и преторов. Впрочем, Цезарь — второй действующий консул — так и не появился на выборах магистратов на следующий год, и в срок сумели избрать только младших магистратов — трибунов и эдилов. Поэтому власть Марка над Римом и Италией была фактически полной вплоть до возвращения Гая из Египта[76].
С переменным успехом Антоний привлекал на сторону Цезаря нейтральных и колеблющихся сенаторов[76], но в целом его политика оценивается как недальновидная, а Цицерон в своих письмах жаловался на вызывающе экстравагантный образ жизни в столь тяжёлое время[77]. Его также обвиняли в жёстких методах управления, новых экспроприациях и в проведении законов в корыстных целях. Окончательно Марк скомпрометировал себя решением долгового вопроса. Кредиторы требовали у должников погашения займов, а последние не могли их выплатить. Когда народный трибун Публий Корнелий Долабелла поднял вопрос о полной кассации долгов (tabulae novae), включая задолженности за аренду жилья в инсулах, Антоний поддержал его. Оппонентом Долабеллы был Луций Требеллий, выдвигавший умеренные предложения (возможно, его поддерживал Гай Азиний Поллион[78][79]). Впрочем, решительно против предложений Долабеллы выступили римские богачи. Вскоре выяснилось, что Долабелла соблазнил Антонию, жену Марка, что вызвало разлад между ними[коммент. 6]. Наконец, сторонники противоборствующих трибунов вооружились и начали вести уличные бои. Для подавления беспорядков сенат разрешил Антонию ввести войска в столицу, но тот использовал солдат для тайной поддержки Требеллия[77].
«Среди самых влиятельных его приближённых были и мим Сергий, и возлюбленная Антония — бабёнка из той же труппы, по имени Киферида. <…> Взор римлян оскорбляли и золотые чаши, которые торжественно несли за ним, словно в священном шествии, и раскинутые при дороге шатры, и роскошные завтраки у реки или на опушке рощи, и запряжённые в колесницу львы, и дома достойных людей, отведённые под квартиры потаскухам и арфисткам. И все возмущались и негодовали, что тем временем как сам Цезарь, за пределами Италии, ночует под открытым небом и ценою огромных трудов и опасностей гасит последние искры войны, в это самое время другие, пользуясь властью, которою их облёк Цезарь, утопают в роскоши и глумятся над согражданами»[78]
Поскольку о Цезаре долгое время не было никаких вестей (он задержался в Египте из-за романа с Клеопатрой), появились слухи о его смерти. Не имея достоверной информации о состоянии здоровья полководца, расквартированные в Кампании легионеры потребовали роспуска (некоторые из них находились на военной службе ещё с начала Галльской войны в 58 году до н. э.) и выплаты обещанных вознаграждений. Марк был вынужден покинуть столицу, оставив своего дядю Луция Юлия Цезаря, перешедшего на сторону диктатора, префектом города (praefectus urbi). Антонию не удалось убедить солдат прекратить бунт, но положение в Риме потребовало его срочного присутствия. Когда Антоний покинул столицу, сторонники враждующих трибунов попытались воспользоваться его отсутствием (с Луцием Цезарем никто из них не считался) и усилили свои вооружённые отряды на улицах. Сенат принял чрезвычайный закон, которым призвал Антония восстановить порядок. После введения в город новых войск Долабелла объявил о намерении провести свои законопроекты и забаррикадировался со своими сторонниками на Форуме. Рано утром солдаты Антония ворвались на Форум, сорвав принятие законов и убив около 800 человек. Антоний также приказал казнить других сторонников Долабеллы, сбросив их с Тарпейской скалы (сам трибун пользовался тем же правом неприкосновенности, что и Антоний в начале 49 года до н. э. и остался в живых)[77][81].
В октябре 47 года до н. э. Цезарь вернулся в Рим, получив известия о беспорядках, и сперва привёл взбунтовавшихся солдат к порядку энергичной речью. Кроме того, он неожиданно для многих помиловал популярного среди городской бедноты Долабеллу и отчитал Антония. Цезарь обязал своего заместителя заплатить за все конфискованные имения и не позволил избраться в консулы на следующий год. Марк был крайне недоволен решениями диктатора: ходили слухи, будто за попыткой покушения на Цезаря, состоявшейся в это время, стоял именно Антоний[82]. По-видимому, Антоний не участвовал в кампаниях в Африке и Испании из-за охлаждения отношений с Цезарем. Единственное событие в его биографии, относящееся к этому времени — свадьба с Фульвией, давней любовницей Антония и бывшей женой Клодия и Куриона[83].
Примирение с Цезарем (45—44 годы до н. э.)
К началу 45 года до н. э. Цезарь помирился с Антонием, и Марк встречал диктатора в Нарбоне во время его возвращения из последней кампании в Испании. В 44 году до н. э. Марк Антоний стал консулом, его брат Гай по рекомендации Цезаря был избран претором, а Луций — народным трибуном. Вероятно, к этому времени соратники Цезаря начали соревноваться друг с другом, чтобы бездетный диктатор признал их своими наследниками[84]. Как полагает Ричард Биллоуз[en], Антоний имел хорошие шансы считать именно себя наиболее вероятным наследником диктатора (Цезарь по-прежнему не имел законных детей), поскольку он был не только близким соратником Гая, но и родственником по материнской линии. Источники сообщают о крайнем удивлении и раздражении Марка, когда после убийства Цезаря вскрыли его завещание. Согласно этому документу, составленному ещё в сентябре 45 года до н. э., главным наследником стал другой отпрыск семейства Юлиев — Гай Октавий[85].
Хотя Цезарь публично продемонстрировал своё расположение к Антонию[коммент. 7], их отношения омрачало честолюбие Антония. Известно, что когда Цезарь готовился к походу в Парфию, который предполагал длительное отсутствие диктатора в Риме, он предложил, чтобы его место консула занял Публий Корнелий Долабелла, враждовавший с Антонием. Марк был вторым консулом 44 года до н. э. и решительно воспротивился этому предложению. Он надеялся, что после отъезда Цезаря именно он будет управлять Римом и Италией как консул без коллеги (sine collega), чья власть из-за отсутствия коллегиальности была близка к диктаторской. Цезарь попытался удовлетворить амбиции Антония, предоставив ему в качестве проконсульской провинции Македонию, где вторжения варваров предоставляли возможность для реализации полководческих талантов и позволяли претендовать на триумф[87]. Добиваясь ещё большего расположения диктатора, Марк начал предлагать в сенате и народном собрании новые почести в честь Цезаря, включая меры по его прижизненной сакрализации[88]. Согласно одному из этих законов, Антоний был назначен жрецом обожествлённого Цезаря[89], хотя он, по-видимому, так и не успел вступить в должность до его убийства[90][91]. В качестве ответной любезности Цезарь, пополняя сословие патрициев представителями известных плебейских родов, включил в их число и семейство Антониев[88].
15 февраля 44 года до н. э. Антоний участвовал в праздновании Луперкалий. Во время этого праздника он вместе со своими сторонниками возложил на голову Цезаря, сидевшего на возвышении в людном месте, царскую диадему. Диктатор несколько раз отказывался, приказав в конце концов отнести диадему в Храм Юпитера. Как сообщает Плутарх, зрители очень сдержанно поддерживали действия Марка и недвусмысленно выражали своё одобрение отказа диктатора. Существует предположение, что возложение царской диадемы было не инициативой Марка, а поручением самого Цезаря с целью узнать общественное мнение по этому деликатному вопросу[88][86]. Эпизод на празднике Луперкалий ускорил формирование заговора вокруг Марка Юния Брута и Гая Кассия Лонгина с целью убийства диктатора — для заговорщиков было очевидно, что Цезарь готовит народ к возвращению царской власти.
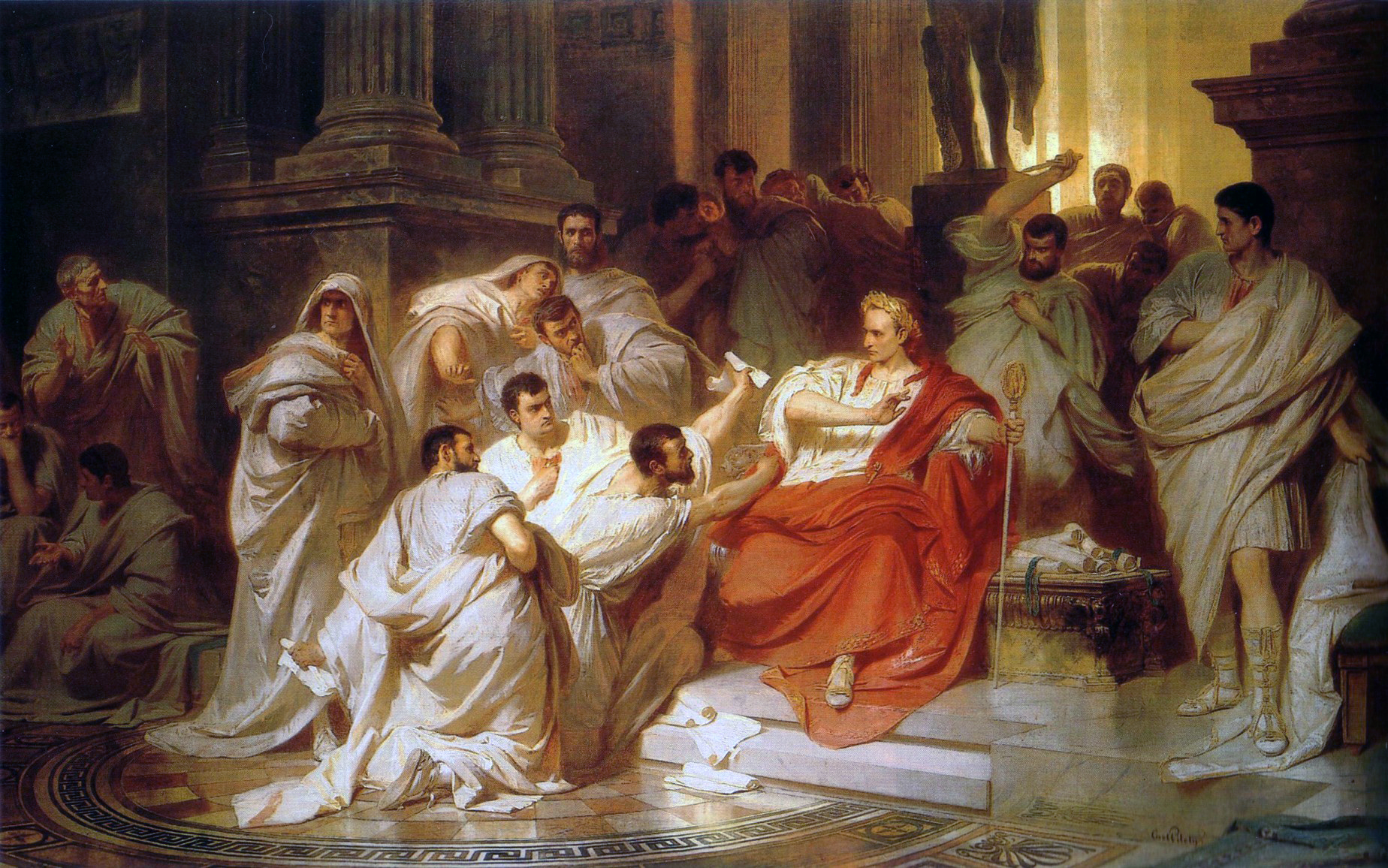 Поскольку Антоний считался одним из самых близких и влиятельных соратников Цезаря, заговорщики всерьёз рассматривали возможность его убийства вместе с Гаем[92]. Как сообщает Плутарх, большая часть конспираторов склонялась к убийству Антония, но под давлением Брута его решили оставить в живых. По версии греческого историка, Брут надеялся, что из-за честолюбия Антоний поддержит их действия[93]. Некоторые источники сообщают, будто Антоний знал о готовящемся заговоре, но по каким-то причинам не сообщил о нём Цезарю[94]. На заседании 15 марта вместе с диктатором должен был присутствовать и Антоний, однако его преднамеренно задержали, чтобы он не помешал осуществить задуманное (по разным версиям, это сделал либо Гай Требоний, либо Децим Юний Брут Альбин)[92][95][96].
Поскольку Антоний считался одним из самых близких и влиятельных соратников Цезаря, заговорщики всерьёз рассматривали возможность его убийства вместе с Гаем[92]. Как сообщает Плутарх, большая часть конспираторов склонялась к убийству Антония, но под давлением Брута его решили оставить в живых. По версии греческого историка, Брут надеялся, что из-за честолюбия Антоний поддержит их действия[93]. Некоторые источники сообщают, будто Антоний знал о готовящемся заговоре, но по каким-то причинам не сообщил о нём Цезарю[94]. На заседании 15 марта вместе с диктатором должен был присутствовать и Антоний, однако его преднамеренно задержали, чтобы он не помешал осуществить задуманное (по разным версиям, это сделал либо Гай Требоний, либо Децим Юний Брут Альбин)[92][95][96].
Карьера после убийства Цезаря. Основание второго триумвирата
Антоний в 44 году до н. э.
Первые дни после мартовских ид
Сразу же после убийства Цезаря Антоний, так и не попавший на заседание, бежал в свой дом и укрепился в нём[97]. Поскольку заговорщики ожидали, что гибель диктатора повлечёт всеобщее ликование из-за самого факта освобождения от тирании, они воздержались от активных действий. Сразу же после убийства Цезаря они заняли Капитолийский холм в центре Рима. В это же время цезарианцы разбирались в сложившейся ситуации. Войсками, охранявшими город, командовал Марк Эмилий Лепид, и он склонялся к немедленной поимке и казни заговорщиков. Однако он разыскал Антония и спросил у него совета о дальнейших действиях. Консул отговорил Лепида от немедленного возмездия и добился согласия на свою поддержку, пообещав взамен выхлопотать для него должность великого понтифика (после гибели Цезаря она стала вакантной), а свою дочь Антонию выдать за сына Лепида. Той же ночью Антоний посетил дом Цезаря и при поддержке жены диктатора Кальпурнии завладел всей перепиской Цезаря, включая секретную, и 700-ми миллионами сестерциев казённых средств[98][99]. На следующий день Антоний и заговорщики начали переговоры с влиятельными римлянами в поисках их поддержки; Марк также связался с Децимом Брутом, одним из участников заговора[100]. 17 марта Антоний созвал заседание сената в храме Теллус, неподалёку от дома Антония, подготовленного для отступления в случае начала беспорядков[100]. Участники заговора в нём не участвовали.
Сенаторам предстояло сделать сложный выбор — либо они признавали заговорщиков тираноубийцами, а Цезаря, соответственно, тираном, либо осуждали убийство и начинали судебное преследование заговорщиков. Однако сенат избрал компромиссный вариант. Неясно, кто повлиял на итоговое решение сената в наибольшей степени. По сообщению Плутарха, сенат склонялся к осуждению убийц Цезаря. Впрочем, после речи Цицерона, напомнившего об аналогичной ситуации в конце Пелопоннесской войны в Афинах: тогда убийц Тридцати тиранов избавили от ответственности, предав всё произошедшее забвению (др.-греч. ἀμνηστία [амнэсти́я] — забвение). Под влиянием Цицерона сенат принял предложение об амнистии заговорщиков[101]. Немалую роль сыграл и Антоний, осведомлённый о республиканских настроениях в сенате и потому избравший осторожную тактику. Наиболее важной его заслугой стало решение сенаторов не отменять законы диктатора: когда был поднят этот вопрос, Антоний напомнил, что многие присутствующие на заседании обязаны своими местами в сенате двум пополнениям этого органа Цезарем. Незадолго до гибели диктатор также утвердил списки магистратов на следующий год. Отмена этого указа повлекла бы настоящие выборы, а с учётом прохладного отношения римлян к убийству диктатора их итог был бы неблагоприятным для республиканцев. Последние, впрочем, не слишком стремились к забвению законов Цезаря: диктатор планировал назначить нескольких заговорщиков или сочувствовавших им сенаторов на высокие должности, а другим — передать провинции для управления. По предложению Цицерона, помимо признания всех распоряжений Цезаря действительными, следовало провести все законы, которые он намеревался принять (впоследствии Антоний извлёк огромную выгоду из этого решения, поскольку вся переписка диктатора и проекты законов оказались в его руках). Судьба заговорщиков осталась нерешённой: предложение о чествовании заговорщиков не удалось принять. Таким образом, сенат ни приветствовал, ни осудил убийство диктатора: оба предложения не были поддержаны большинством голосов[100][102][103]. Антоний пошёл на значительную уступку, согласившись на назначение своего старого противника Долабеллы консулом-суффектом вместо Цезаря. Ему удалось завоевать расположение республиканцев внесением предложения о запрете должности диктатора навечно, хотя у него был свой интерес в отмене этой чрезвычайной магистратуры: после принятия этого закона Лепид, остававшийся начальником конницы (заместителем диктатора) при Цезаре с достаточно широкими полномочиями, терял остатки власти и самостоятельности. Поскольку новый консул Долабелла не рассматривался как сильный политик, Антоний отныне претендовал на лидерство в лагере цезарианцев[104].
Сразу же после заседания Антоний и Лепид передали заговорщикам своих детей в качестве заложников и начали переговоры с ними[105]. Сперва стороны ограничились показными проявлениями взаимного расположения — рукопожатиями и совместными обедами (Антоний отобедал с Кассием Лонгином, Лепид с Брутом). Обсуждение важного вопроса о характере похорон Цезаря состоялось на заседании 18 марта. Заговорщики предлагали сбросить тело диктатора в Тибр, но тесть диктатора Кальпурний Пизон предложил организовать похороны с государственными почестями и публично зачитать завещание диктатора, и сенат поддержал это предложение[106] (по версии Плутарха, инициатива исходила от Антония[107]). При этом среди заговорщиков также наметился раскол: Брут в конце концов уступил доводам цезарианцев[107]. Чуть ранее сенат окончательно утвердил распределение провинций, причём в числе получателей были и заговорщики. Консулов же обошли, и потому Македония досталась не Антонию, а Марку Бруту[108] (впрочем, Плутарх утверждает, что Бруту достался Крит[105]). Перед похоронами, на которых планировалось распечатать и публично огласить завещание Цезаря, его сначала вскрыли в доме Антония по его настоянию (по другой версии, инициатором досрочного вскрытия завещания был Луций Кальпурний Пизон[109]). Неожиданно для всех главным наследником Цезаря оказался Гай Октавий[106].
«Видя, что народ до крайности взволнован и увлечён его словами, он [Антоний] к похвалам примешал горестные возгласы, выражал негодование происшедшим, а под конец, потрясая одеждой Цезаря, залитою кровью и изодранной мечами, назвал тех, кто это сделал, душегубами и подлыми убийцами. Народ пришёл в такую ярость, что, сложивши костёр из скамей и столов, сжёг тело Цезаря тут же, на форуме, а потом, с пылающими головнями, ринулся к домам заговорщиков и пытался в них ворваться»[110]
Похороны Цезаря состоялись 19 или 20 марта[103][111]. Поскольку у диктатора не осталось близких родственников в Риме (Гай Октавий находился в Греции), Марк Брут как городской претор позволил произнести надгробную речь Антонию. Хотя заговорщики и цезарианцы создали видимость примирения, Антоний произнёс пламенную речь, призывавшую наказать убийц Цезаря. Для разгорячения толпы он продемонстрировал окровавленную тогу диктатора[111]. После речи Антония порядок церемонии оказался нарушен: люди собрали деревянные вещи из окрестных лавок и устроили погребальный костёр прямо на Форуме, а затем бросились искать заговорщиков. Плутарх замечает, что инициаторы непредусмотренного сенатом сожжения трупа в центре города с использованием скамеек и столов торговцев ориентировались на пример демагога Клодия, убитого и похороненного таким же образом в 52 году до н. э.[107] Впрочем, Рональд Сайм полагает, что свидетельства о провокационных заявлениях Антония на похоронах сильно преувеличены: по мнению британского историка, Антонию было невыгодно обострение отношений с заговорщиками из-за его нестабильного положения[112].
На похоронах Цезаря заговорщики, по-видимому, не присутствовали, а предварительно тщательно укрепили свои дома. Вскоре после похорон они бежали из города — сперва в Анций (современный Анцио), а летом они направились в назначенные себе провинции. Впрочем, распределение провинций согласно указам Цезаря оставалось спорным вопросом[113]. Антоний стремился отозвать из Македонии (первоначально планировалось, что он получит именно это римское владение) несколько боеспособных легионов, но при этом надеялся заполучить и ближайшую к Риму провинцию — Цизальпийскую Галлию, из которой можно было оказывать огромное влияние на политику в столице[114].
Апрель и май: мятеж Лже-Мария, законы Антония и прибытие Октавия
В конце марта или начале апреля в Риме объявился Гай Амаций[en] (по сообщению Валерия Максима, это был врач-окулист с настоящим именем Герофил[коммент. 8]), выдававший себя за внука полководца Гая Мария и, соответственно, близкого родственника Цезаря. Амаций подстрекал римлян к немедленному отмщению Бруту и Кассию, благодаря чему собрал вокруг себя немало ветеранов Цезаря и городских бедняков[117][118]. Впрочем, Антоний воспользовался властью консула и арестовал Лже-Мария, а затем без суда казнил его. Вскоре он разогнал и сторонников Амация, убив при этом многих из них[цитата 2]. После инцидента с Амацием сенат разрешил Марку набрать для личной охраны ветеранов Цезаря, но он собрал целых 6 тысяч самых опытных и преданных себе солдат, в основном центурионов[119].
В течение весны Антоний провёл несколько законов, проекты которых якобы находились среди бумаг Цезаря. Во-первых, это был закон об апелляции к народному собранию для обвиняемых в ряде преступлений. Во-вторых, вопреки действиям Цезаря, Антоний вернул трёхчастную систему комплектования уголовных судов, в результате чего треть судей назначалась из центурионов или даже простых солдат[коммент. 9] (по другой версии, закон о реформе судов был проведён между 2 сентября и 8 октября 44 года до н. э.[121]). В-третьих, он основал несколько колоний в Италии — в основном для ветеранов Цезаря. В-четвёртых, все оставшиеся неразделёнными общественные поля в Италии (ager publicus) постановили разделить между ветеранами и бедняками. Для реализации последнего закона была создана комиссия, в которую, вопреки традиции, вошёл и действующий консул Марк Антоний, и его брат, действующий трибун Луций. Наконец, Антоний добился назначения Долабеллы наместником Сирии и убедил его отправиться туда немедленно, не дожидаясь окончания консульства, после чего Марк остался единственным консулом в Риме. Уход Брута из Рима и, как следствие, фактическое самоустранение от должности городского претора (praetor urbanus) — одной из самых важных в Риме — ещё больше усилили позиции Антония, поскольку обязанности Брута начал исполнять Гай Антоний, брат Марка[122][119].
В конце весны в Италию вернулся Гай Октавий, сразу же подтвердивший твёрдое намерение принять наследство Цезаря (хотя по римским канонам именования усыновлённых людей он должен был добавить к имени Цезаря ещё и имя Октавиан, он старался избегать этого обозначения, поскольку оно указывало на то, что он лишь приёмный сын[113]). Ему удалось заручиться поддержкой части ветеранов и большей части плебса[113]. Переходу части цезарианцев на сторону молодого Октавиана способствовала сомнительная репутация Антония: в частности, он растерял свою популярность среди городского плебса жестокими подавлениями протестов[123]. Хотя Гай и Марк наверняка были знакомы и ранее, их первая встреча в 44 году до н. э. закончилась безрезультатно[коммент. 10]. Они вдвоём претендовали на первенство в наследовании влияния Цезаря и не желали уступать. Кроме того, Антоний отказался передавать Гаю 700 миллионов сестерциев, взятых у Цезаря. Когда к Октавию как наследнику Цезаря начали подавать иски о возвращении конфискованных земель и имений, Антоний тайно поддерживал истцов[125]. Марк также затягивал процедуру усыновления Октавия Цезарем[126] и напоминал в публичных выступлениях, что биологическим сыном диктатора является вовсе не Октавий, а сын Клеопатры Цезарион[127]. Впрочем, разрастись соперничеству Антония и Октавия помешали ветераны Цезаря, настоявшие на примирении официального наследника и главного соратника убитого диктатора[128]. Со временем у Октавия появилось немало влиятельных союзников, среди которых особенно выделялся Цицерон. Плутарх сохранил легенду, будто ещё несколько лет назад Цицерону приснился сон, в котором Юпитер выделил из толпы детей одного мальчика и предрёк ему завершение гражданских войн и власть над Римом. Вскоре он увидел мальчика из своего сна на улице, и выяснилось, что это был Гай Октавий. С тех пор, уверяет греческий историк, Цицерон уделял Октавию особое внимание[129]. В античную эпоху доминировало мнение об использовании недальновидного Цицерона коварным Октавианом в своих интересах, однако существует и противоположная точка зрения, согласно которой Цицерон сам в первое время использовал Октавиана для раскола цезарианцев[130].
Июнь—сентябрь: попытка примирения с сенатом, ссора с Цицероном
2 или 3 июня Антоний созвал народное собрание и узаконил переназначение провинций в своих интересах: своего брата Гая он назначил наместником Македонии, а себе передал Цизальпийскую и Трансальпийскую (Нарбонскую) Галлию. Легионы из Македонии должны были остаться под контролем Марка. Впрочем, собрание прошло с нарушениями: во-первых, заседание было созвано не в один из разрешённых дней (sg.: dies comitialis); во-вторых, объявление о грядущем собрании также было сделано без соблюдения необходимых процедур; в-третьих, само голосование по законопроекту сопровождалось избиением недовольных[131][132]. Примерно в это же время Антоний старался заручиться поддержкой сенаторов, назначив Секста Помпея командующим римским флотом — в сенате оставалось немало людей, ранее поддерживавших Гнея Помпея. Кроме того, Антоний заявил, что Цезарь планировал ещё одно пополнение сената и ввёл туда немало своих сторонников[133]. Впрочем, сближение с нобилями оттолкнуло от Антония ещё больше ветеранов Цезаря и плебеев. Были недовольны и крайние цезарианцы, которые напоминали о присвоении Цезарю титула «отец отечества» и указывали на необходимость осуждения заговорщиков как отцеубийц[134].
В июле состоялись игры в честь Аполлона (ludi Apollinares), на которые приходился день рождения Цезаря (в этот день полагались особые торжества). Хотя месяц июль — бывший квинтилий — был переименован в честь Цезаря ещё при его жизни, некоторые республиканцы продолжали называть его квинтилием. По традиции, игры в честь Аполлона организовывал городской претор, но в этом году им был Марк Брут, один из убийц Цезаря, который к тому же покинул город. Антоний добился передачи организации мероприятий своему брату Гаю[135]. Первоначально лидер заговорщиков хотел поставить в театре во время праздника трагедию Аттия «Брут», восхвалявшую Луция Юния Брута, изгнавшего царя Тарквиния из Рима. Гай Антоний поставил другую, нейтральную постановку этого же автора[136].
В конце августа Антоний неожиданно сменил риторику, заверяя сенат в готовности сотрудничать. Узнав о произошедшей с Антонием перемене, Цицерон, уже покинувший Рим, вернулся в столицу[137]. 1 сентября Антоний готовился сделать важное объявление в сенате и надеялся на присутствие Цицерона. Впрочем, последний отказался от участия в заседании, сославшись на плохое самочувствие. После этого Антоний, как утверждает Плутарх, неожиданно приказал «либо привести Цицерона, либо сжечь его дом»[137]. Цицерон появился в сенате лишь 2 сентября (Антоний в этот день отсутствовал на заседании) и произнёс речь, направленную против Антония. Своей речи он дал название «филиппика», намекая на сходство ситуации с Афинами в середине IV века до н. э., когда оратор Демосфен выступал против усиления Филиппа II Македонского в своих речах, считавшихся вершиной античного ораторского искусства. Через несколько дней Антоний произнёс ответную речь в сенате, в которой в том числе указал на его вину в смерти диктатора. Марк также напомнил о причастности Цицерона к подавлению заговора Катилины, к убийству Клодия, к провоцированию раздоров между Помпеем и Цезарем. После этих событий Цицерон стал опасаться за свою жизнь и удалился в своё имение в Кампании, занявшись сочинением второй филиппики, трактатов «Об обязанностях» и «О дружбе»[138][139].
Октябрь—декабрь: противостояние с Октавианом, поход в Цизальпийскую Галлию
Осенью Антоний разуверился в перспективах сотрудничества с сенатом и начал собирать войска для захвата Цизальпийской Галлии силой. В октябре он отбыл в Брундизий, куда уже прибыли четыре легиона из Македонии. В южной Италии осели и многие демобилизованные ветераны Цезаря, и Антоний надеялся заручиться их поддержкой в случае начала гражданской войны. Однако этих солдат агитировали и агенты Октавиана: он уже вступил во владение наследством Цезаря и мог позволить щедрые взятки. Так, многих ветеранов Цезаря в Кампании Октавиан вернул на службу в свои ряды за 500 денариев (2000 сестерциев) на человека, а затем подкупил многих македонских легионеров. Антоний же смог предложить им лишь по 100 денариев (400 сестерциев), за что солдаты его высмеяли. Марк этого не стерпел и устроил децимацию, казнив до трёхсот зачинщиков. Впрочем, ему пришлось повысить обещанную сумму, чтобы удержать остальных[140][141][142].
Собрав вокруг себя несколько тысяч солдат, Октавиан 10 ноября вошёл в Рим и занял Форум (к этому времени Антоний тоже начал движение на столицу, но он задержался в пути). С разрешения лояльного народного трибуна он произнёс речь, в которой призывал начать войну с Антонием, обвиняя Марка в нарушениях закона и в притеснении легального наследника Цезаря, то есть себя. Это предложение не получило горячей поддержки в городе. Напротив, солдаты начали покидать наследника Цезаря: ранее они полагали, что Октавиан собирает их для отмщения Бруту и Кассию; в крайнем случае, полагали солдаты, они будут телохранителями Октавиана. Несмотря на измену Антонию, они совершенно не желали воевать против близкого соратника Цезаря, так и не смирившегося с его убийством. Солдаты приняли во внимание и отсутствие каких-либо полномочий для командования армией у Октавиана, в отличие от Антония — действующего консула. Немало солдат, впрочем, осталось с Октавианом из-за его щедрых обещаний. Тем не менее, Октавиан покинул Рим и обосновался в Арреции, а его агенты переманивали на сторону Гая новых солдат Антония, недовольных расправой над легионерами в Брундизии и небольшими обещаниями по сравнению с щедрыми обязательствами Октавиана (он пообещал выплатить солдатам в случае победы по 5 тысяч денариев, или 20 тысяч сестерциев)[140][141][143][144].
Когда 24 ноября в столицу прибыл Антоний, он безуспешно попытался добиться признания Октавиана врагом государства на заседании сената. На заседании 28 ноября, созванном, вопреки обычаям, вечером (впоследствии это заседание признали недействительным), он добился перераспределения многих провинций в пользу цезарианцев Марка Эмилия Лепида, Луция Мунация Планка, Гая Азиния Поллиона и Кальвизия Сабина, считавшихся его сторонниками, а также в пользу своего брата Гая. После этого Антоний отбыл из Рима в Цизальпийскую Галлию, которую он считал своей провинций, но где успел закрепиться назначенный ранее наместником Децим Юний Брут Альбин. Децим занял Мутину (современная Модена) и отказывался признавать право Антония на управление провинцией. Марк осадил город, располагая четырьмя легионами и надеясь на поддержку наместников западных провинций, которыми он назначил своих сторонников[140][145].
20 декабря Цицерон выступил перед сенатом с третьей филиппикой и в тот же день произнёс четвёртую — на этот раз перед народом. Великий оратор открыто призывал к борьбе с Антонием, сравнивая его с Катилиной и восставшим рабом Спартаком[146]. С Октавианом же он считал необходимым примириться. Под его влиянием сенат отменил назначение Антония в Цизальпийскую Галлию на основании нарушения формальных процедур. Сенаторы также приказали вступавшим в должность 1 января 43 года до н. э. консулам Авлу Гирцию и Гаю Вибию Пансе выплатить деньги, обещанные Октавианом своим войскам[147]. К этому же времени в восточных провинциях Марк Брут и Кассий Лонгин начали готовиться к отражению атак наместников, назначенных Антонием, что фактически означало начало гражданской войны[140][145].
Осада Мутины
 Пока Антоний осаждал Децима Брута в Мутине, его противники в Риме договорились действовать совместно с Октавианом. 1 января 43 года до н. э. в должность вступили консулы Вибий и Панса, в прошлом цезарианцы, ныне склонявшиеся к противодействию Антонию. Цицерон попытался объявить Марка врагом государства, но его сторонники при поддержке родственников Антония (прежде всего, его матери и жены) не допустили принятия этого решения и аналогичных попыток в ближайшем будущем. В конце концов, сенат направил к нему посольство, которое потребовало снять осаду с Мутины, покинуть Цизальпийскую Галлию и не приближаться к Риму ближе чем на 200 миль (296 километров). Этим требованием сенат автоматически признавал недействительным постановление народного собрания, передавшее Антонию эту провинцию. Кроме того, по предложению Цицерона сенат отблагодарил Октавиана, введя девятнадцатилетнего юношу в состав сената, позволив стать консулом на десять лет раньше срока и легализовав незаконно собранную армию путём предоставления пропреторских полномочий (впрочем, полномочия пропретора означали, что он должен был подчиняться приказам консулов — носителей власти более высокого уровня[коммент. 11]). Марк Туллий также продолжал выступать с новыми филиппиками, восхваляя Октавиана и требуя признания Антония врагом государства: по мнению оратора, с этим полководцем следовало вести не переговоры, а решительную войну[149].
Пока Антоний осаждал Децима Брута в Мутине, его противники в Риме договорились действовать совместно с Октавианом. 1 января 43 года до н. э. в должность вступили консулы Вибий и Панса, в прошлом цезарианцы, ныне склонявшиеся к противодействию Антонию. Цицерон попытался объявить Марка врагом государства, но его сторонники при поддержке родственников Антония (прежде всего, его матери и жены) не допустили принятия этого решения и аналогичных попыток в ближайшем будущем. В конце концов, сенат направил к нему посольство, которое потребовало снять осаду с Мутины, покинуть Цизальпийскую Галлию и не приближаться к Риму ближе чем на 200 миль (296 километров). Этим требованием сенат автоматически признавал недействительным постановление народного собрания, передавшее Антонию эту провинцию. Кроме того, по предложению Цицерона сенат отблагодарил Октавиана, введя девятнадцатилетнего юношу в состав сената, позволив стать консулом на десять лет раньше срока и легализовав незаконно собранную армию путём предоставления пропреторских полномочий (впрочем, полномочия пропретора означали, что он должен был подчиняться приказам консулов — носителей власти более высокого уровня[коммент. 11]). Марк Туллий также продолжал выступать с новыми филиппиками, восхваляя Октавиана и требуя признания Антония врагом государства: по мнению оратора, с этим полководцем следовало вести не переговоры, а решительную войну[149].
Ответ Антония послам был категоричен: он потребовал, чтобы сенат подтвердил все законы Цезаря, а также указы Антония, проведённые под видом задуманных диктатором; изъятие им в ночь после убийства диктатора 700 миллионов сестерциев следовало признать законным; Марка Брута и Кассия следовало вернуть из восточных провинций. Марк также потребовал выплатить обещанные деньги своим солдатам за государственный счёт, наделить их землёй, предоставить себе титул императора[коммент. 12]. Он соглашался отказаться от претензий на Цизальпийскую Галлию, но только при условии, что ему предоставят Трансальпийскую (Нарбонскую) Галлию на 5 лет и 6 легионов войск. Наконец, он запретил послам войти в осаждённую Мутину[149]. Резкий ответ Антония спровоцировал сенаторов сплотиться и объявить о том, что возле Италии началась война. Сенат принял чрезвычайный закон и потребовал от консулов и Октавиана предпринять любые меры с целью недопущения «вреда для государства». Впрочем, конкретный враг в законе так и не был назван: сторонники Антония не допустили признания Антония врагом государства. Консулы начали собирать войска и готовиться к походу[150]. Положение Антония осложнялось и тем, что его поддержали лишь три города Цизальпийской Галлии: жители провинции, несмотря на оказанные Цезарем услуги, симпатизировали республиканцам[151].
В феврале сенат отменил большую часть законов, проведённых Антонием в прошлом году, на основании процессуальных нарушений. В это же время Марк Юний Брут занял Иллирик, Грецию и Македонию, взяв в плен Гая Антония, и сенат в целом поддержал лидера заговора[152]. После успехов заговорщиков (к этому времени они стали называть себя освободителями — liberatores) на Балканах Антоний начал разыгрывать цезарианскую карту, пытаясь расколоть направленную против себя коалицию (Октавиан не приветствовал усиление Брута и Кассия). Марк отправил несколько открытых писем для публичного прочтения, в которых утверждал, будто он единственный пытается отомстить убийцам Цезаря. Впрочем, к этому времени Гирций уже прибыл на помощь осаждённой Мутине, а Панса и Октавиан завершали подготовку войск[153]. Чуть ранее один из сторонников Антония, Публий Вентидий Басс, собрал два легиона среди ветеранов Цезаря в Кампании и наводил страх на оставшийся беззащитным с юга Рим, но ему не удалось приблизиться к Антонию, и потому он укрепился в Пицене[154].
В середине апреля четыре легиона Пансы подходили к Мутине, когда Антоний устроил засаду на узкой дороге в болотистой местности возле поселения Галльский форум (современный Кастельфранко-Эмилия). Войска консула потерпели поражение, а сам он вскоре умер от полученных ран. Однако когда солдаты Антония начали праздновать победу, на них напал Гирций с резервами из-под Мутины. Со свежими силами он отбросил войска Марка, хотя полный разгром предотвратило наступление темноты. В Риме приветствовали победу над Антонием. Впрочем, Марк не снял осаду с Мутины (во время битвы у Галльского форума её продолжал Луций Антоний), а запасы продовольствия у Децима Брута подходили к концу. 27 апреля Гирций и Октавиан напали на лагерь Антония и победили, хотя во время битвы консул Гирций погиб. Вскоре Антоний бежал в Нарбонскую Галлию с небольшими силами[155]. Противники не стали его преследовать: войска Децима Брута в Мутине были слишком истощены длительной осадой, а Октавиан не желал сотрудничать с одним из заговорщиков[156].
Основание второго триумвирата. Проскрипции
После бегства Марка из-под Мутины сторонники сената начали досрочно праздновать победу над Антонием. Сенаторы, которые сочувствовали заговорщикам, но поддались уговорам Цицерона о привлечении Октавиана на свою сторону, теперь решили прекратить его поддержку. Поскольку оба консула погибли, следовало избрать консулов-суффектов, и Октавиан предложил Цицерону добиваться избрания их обоих. Ему отказали, ссылаясь на недостаточный возраст Гая. Октавиану не удалось добиться и триумфа за победы, хотя ему позволили провести овацию — малый триумф. При этом право на полноценный триумф получил Децим Брут, который несколько месяцев просидел за стенами Мутины. Сенаторы организовали комиссию для пересмотра законов Антония, в том числе и о распределении земли между ветеранами. Неопределённость вокруг земельного вопроса и выплат денежных наград вынудила многих оставшихся в Италии ветеранов Цезаря сплотиться вокруг Октавиана и требовать защиты своих интересов[157][158][159].
Сам Октавиан с опаской наблюдал за переменами в Риме и окончательно перестал сотрудничать с Децимом Брутом. Последний выражал своё недовольство несговорчивостью молодого полководца[160]. Известно и о случае открытого саботажа Октавианом приказа Брута — он позволил свободно пройти Публию Вентидию Бассу с подкреплениями для Антония[161]. Солдаты Гая по-прежнему были недовольны тем, что их используют для борьбы с давним сторонником Цезаря, который к тому же обещал отомстить за его убийство[156]. Октавиан начал отпускать на свободу попавших в плен солдат и офицеров Антония, надеясь, что это будет истолковано Марком как сигнал к примирению[161]. Вскоре Брут начал преследование Антония, который, как он полагал, имеет небольшие и полностью деморализованные войска. Сам Антоний тем временем присоединил отряды, собранные Вентидием Бассом, и довёл численность войск до восьми легионов. Антоний вступил в переговоры с наместником Нарбонской Галлии Лепидом, который располагал семью легионами. Вскоре войска Лепида и другого наместника Планка укрепились на реке Аргентей (современное название — Аржанс), а напротив разбил свой лагерь Антоний. Солдаты Лепида, многие из которых служили под началом Цезаря, начали переходить на сторону Антония, обещавшего отомстить за убитого диктатора. Их командующий этому не препятствовал, а вскоре и сам перешёл на сторону Марка (по сообщению античных авторов, он с самого начала кампании тайно поддерживал связь с Антонием и Октавианом). Оказавшись в окружении превосходящих сил Антония, Планк также был вынужден перейти на его сторону со своими войсками. Через некоторое время перешёл на сторону Антония и Азиний Поллион. Таким образом, всего за две недели Марк собрал 23 легиона войск, среди которых было немало опытных ветеранов. К этому времени Децим Брут завершил переход через Альпы, но когда оказалось, что силы Антония намного превосходят его собственные, он попытался отступить, однако его убили галлы по приказу Антония[162].
После бегства Децима Брута единственными крупными армиями в Италии и во всех западных провинциях остались войска Октавиана и Антония. Оба полководца договорились действовать совместно, и в августе Октавиан (якобы по требованию своих солдат[163]) повёл свою армию на Рим, не встретив никакого сопротивления: все легионы, остававшиеся под контролем сената, перешли на его сторону. В столице Гай вынудил сенат допустить его избрание в консулы вместе со своим сторонником Квинтом Педием. Придя к власти, он организовал окончательную легализацию своего наследования Цезарю с помощью созыва куриатных комиций. Он также провёл закон, по которому все убийцы Цезаря и поддержавший «освободителей» Секст Помпей заочно приговаривались к смерти. Тем временем на Апеннинский полуостров с 17-ю легионами вернулся и Антоний[164].
Осенью Антоний, Октавиан и Лепид встретились возле Бононии (современная Болонья) вблизи границы Цизальпийской Галлии и Италии и договорились о создании второго триумвирата, члены которого имели бы законную власть (первый триумвират Цезаря, Помпея и Красса был неформальным). 27 ноября 43 года до н. э. по инициативе трибуна Публия Тиция был принят закон о создании коллегии из трёх человек «для приведения государства в порядок» (triumviri rei publicae constituendae[коммент. 13])[166]. Первоначально решающая роль в триумвирате принадлежала Антонию: как полагает Элеанор Хьюзар, хотя Октавиан и контролировал Рим, он ни в коем случае не был сильнейшим участником триумвирата[167].
По договорённости друг с другом, триумвиры распределили основные магистратуры на ближайшие годы между своими сторонниками. Между собой они распределили и провинции: обе Испании и Нарбонская Галлия достались Лепиду; остальные части Галлии, кроме Нарбонской, отходили Антонию, а Октавиану достались Африка, Сицилия и Сардиния. При этом в Сицилии и Сардинии укрепился Секст Помпей Магн, а в Африке действовал лояльный Антонию командующий. Триумвиры изъяли землю у крупных италийских городов для распределения среди своих ветеранов. Поскольку для содержания огромной армии и выплаты щедрого жалованья требовались миллионы денариев (только текущая задолженность составляла около 200 миллионов денариев, или 800 миллионов сестерциев), а богатые восточные провинции контролировались Брутом и Кассием, триумвиры прибегли к радикальному пересмотру налоговой политики. В частности, впервые с 167 года до н. э. были введены прямые налоги для римских граждан, а имущество многих богачей начали конфисковывать[168].
 Наконец, триумвиры решили устроить проскрипции (публикацию списков людей, подлежащих убийству с конфискацией имущества), подобные тем, что проводил Луций Корнелий Сулла и которых старался избежать Цезарь. Массовые казни затрагивали как политических противников триумвиров, так и просто богатых людей. При составлении проскрипционных списков триумвиры порой сводили старые счёты и редко обращали внимание на родственные связи и дружеские обязательства: Лепид внёс в список своего брата, Антоний — своего дядю Луция Цезаря. Остро стоял вопрос о внесении в проскрипционный список Цицерона: Антоний решительно настаивал на казни оратора, Октавиан противился, но на третий день уступил. В отличие от проскрипций Суллы, второй триумвират очень активно прибегал к услугам своих солдат для казней, хотя роль инициативных доносчиков оставалась достаточно высокой. Впрочем, триумвират не стал передавать половину имущества непосредственному убийце проскрибированного, как это было при Сулле. Вместо этого триумвиры конфисковывали всё состояние, а для награждения исполнителей установили единые тарифы — 100 тысяч сестерциев за голову попавшего в список для свободнорождённых, а для рабов-убийц — свободу и 40 тысяч сестерциев. Аналогичная награда ожидала информаторов о точном местонахождении проскрибированного. Всего в списки попало более 300 сенаторов и 2 тысяч всадников. Многие бежали к Бруту и Кассию в Грецию либо к Сексту Помпею на Сицилию[169][166][170].
Наконец, триумвиры решили устроить проскрипции (публикацию списков людей, подлежащих убийству с конфискацией имущества), подобные тем, что проводил Луций Корнелий Сулла и которых старался избежать Цезарь. Массовые казни затрагивали как политических противников триумвиров, так и просто богатых людей. При составлении проскрипционных списков триумвиры порой сводили старые счёты и редко обращали внимание на родственные связи и дружеские обязательства: Лепид внёс в список своего брата, Антоний — своего дядю Луция Цезаря. Остро стоял вопрос о внесении в проскрипционный список Цицерона: Антоний решительно настаивал на казни оратора, Октавиан противился, но на третий день уступил. В отличие от проскрипций Суллы, второй триумвират очень активно прибегал к услугам своих солдат для казней, хотя роль инициативных доносчиков оставалась достаточно высокой. Впрочем, триумвират не стал передавать половину имущества непосредственному убийце проскрибированного, как это было при Сулле. Вместо этого триумвиры конфисковывали всё состояние, а для награждения исполнителей установили единые тарифы — 100 тысяч сестерциев за голову попавшего в список для свободнорождённых, а для рабов-убийц — свободу и 40 тысяч сестерциев. Аналогичная награда ожидала информаторов о точном местонахождении проскрибированного. Всего в списки попало более 300 сенаторов и 2 тысяч всадников. Многие бежали к Бруту и Кассию в Грецию либо к Сексту Помпею на Сицилию[169][166][170].
Пытался сбежать от проскрипций и Цицерон, но 7 декабря 43 года до н. э. его настигли солдаты Антония. Они доставили голову и руку великого оратора (по другим данным, обе руки[171]) к Антонию прямо во время его выступления на народном собрании. Марк был в восторге и наградил исполнителей в десятикратном размере. По преданию, сначала он поставил голову на обеденный стол, и его жена Фульвия исколола язык Цицерона булавками, а затем фрагменты тела Цицерона выставили напоказ возле ростральной трибуны — оттуда оратор часто обращался к римлянам, но там также демонстрировали военные трофеи[172].
Кампания в Греции. Битва при Филиппах
Оставив Лепида в Италии, Антоний и Октавиан направились в Грецию для борьбы с республиканцами. К этому времени Брут подчинил все римские владения на Балканском полуострове и в Малой Азии, а Кассий занял Сирию. Республиканцы собрали в восточных провинциях налоги за следующие десять лет и на эти деньги собрали крупную армию из 19 легионов и мощный флот. Убеждённых патриотов и идейных противников тирании среди солдат было немного, но Брут и Кассий щедро платили войскам. Первоначально они пытались воспрепятствовать переправке противника, используя преимущество на море, но войска обоих триумвиров всё же сумели высадиться в Греции. Впрочем, после высадки республиканцы не ослабили блокаду, что создало крупным армиям Антония и Октавиана серьёзные проблемы со снабжением[173].
Антоний быстро продвигался вперёд по Эгнатиевой дороге вслед за небольшим авангардом, войска Октавиана же отстали. По сообщению Плутарха, войска Антония подошли к заболоченной равнине у города Филиппы так быстро, что Брут и Кассий сперва не поверили известиям о появлении его легионов поблизости[174]. После прибытия Октавиана силы сравнялись — с каждой стороны было собрано примерно по 19 легионов (около 100 тысяч солдат). Все командующие занялись укреплением своих позиций, причём войска Антония сконцентрировались напротив легионов Кассия, а отряды Октавиана — напротив Брута. Антоний и Октавиан испытывали проблемы со снабжением и пресной водой и пытались навязать генеральное сражение, но Брут и Кассий знали о проблемах противников и старались ослабить врага измором. В конце концов, в октябре попытка Антония тайно построить укрепления в болотах на левом (южном) фланге противника переросла в серьёзное столкновение, известное как первая битва при Филиппах. Кассий построил перпендикулярные укрепления, что распылило его силы, и Антоний отправил войска на штурм лагеря Кассия. Одновременно солдаты Брута, видя начало сражения на другом фланге, без всякого приказа атаковали лагерь Октавиана. Легионы Антония, в свою очередь, успешно вошли в лагерь Кассия[175]. Как сообщает Аппиан, солдаты не знали о результатах сражения на противоположном фланге, и только когда Брут получил известие о взятии лагеря Кассия, а Антоний — об атаке Брута на лагерь Октавиана, они отступили на исходные позиции[176]. Бежавший на холмы Кассий увидел, как в лагере Брута происходят какие-то перемещения войск и решил, что триумвиры побеждают и на левом фланге, после чего покончил жизнь самоубийством[175][177][коммент. 14] (по сообщению Плутарха, Кассий ошибся, поскольку у него было слабое зрение[178]). В первой битве погибло около 8 тысяч солдат республиканцев и около 16 тысяч войск триумвиров[176].
После самоубийства талантливого полководца Кассия командование войсками республиканцев перешло к Бруту, который, напротив, не был опытным военачальником. Тем не менее, он трезво оценил преимущества своего положения и предпочёл выжидать: во-первых, в день первой битвы при Филиппах в Ионическом море республиканский флот потопил или взял в плен большую часть подкреплений для Октавиана и Антония[179], а во-вторых, погода стремительно ухудшалась (по утверждению Плутарха, сперва прошли дожди, а затем начались заморозки). Наконец, триумвиры по-прежнему испытывали проблемы со снабжением[180]. Брут упорно игнорировал попытки Антония и Октавиана начать сражение, и потому триумвиры попытались обойти республиканцев с болотистого южного фланга, чтобы решить свои проблемы с продовольствием захватом тыловых баз республиканцев. Брут предпринимал контрмеры, не допуская окружения и прорыва противников. Наконец, после двух недель позиционных манёвров, соратники и солдаты Брута убедили его вступить в бой[181]. По разным версиям, вторая битва состоялась либо в конце октября, либо в середине ноября.
В ожесточённом сражении войска триумвирата одолели республиканцев, и общие потери обеих сторон при Филиппах достигли 50 тысяч человек. Антоний внёс решающий вклад в победу: перед первой битвой Октавиан удалился из лагеря по советам друзей[коммент. 15], а перед второй битвой он серьёзно заболел[коммент. 16], и реально командовал всеми войсками именно Марк. После битвы Брут покончил с собой, а Антоний, разыскав его тело, накрыл его пурпурным плащом в знак уважения[коммент. 17]. Некоторые выжившие республиканцы сдались Антонию (немало солдат Брута перешло на его сторону, поскольку он обещал платить им и дальше), а другие бежали к Сексту Помпею[184][177]. После сражения Октавиан вернулся в Рим, а Антоний остался на Востоке, оставив себе 6 легионов и крупный отряд кавалерии[185]. Несмотря на формальное осуществление мести за убийство Цезаря, триумвиры по взаимному согласию не стали слагать свои чрезвычайные полномочия.
Антоний на Востоке
Антоний в Греции, Азии, Египте. Перузинская война (41—40 годы до н. э.)
 Зиму 42—41 годов до н. э. Антоний провёл в Греции, распустив часть легионов, но сохранив самые боеспособные войска. По-видимому, Антоний начал подготовку к войне с Парфией, для чего ему потребовались деньги. Для содержания своей армии республиканцы за два предыдущих года собрали с азиатских провинций налоги за десять лет вперёд, но Антоний потребовал для грядущей кампании аналогичную сумму в течение ближайшего года[цитата 3]. Несмотря на то, что Антоний потребовал в восточных городах и союзных царствах около 150 тысяч талантов, ему едва ли удалось собрать больше 20 тысяч талантов в срок. Вскоре Марк был вынужден умерить свои требования до налогов за 9 лет в течение двух лет[186]. Одновременно он поощрял территории, которые упорно сопротивлялись республиканцам (Ликия и Родос освобождались от уплаты дани), а также поддержал города с древней историей (в частности, он расширил площадь, контролируемую Афинами). Эти действия продолжали политику эллинистических монархов, которые покровительствовали городам и государствам за их былые заслуги[187]. Антоний также признал царём Иудеи, Идумеи и Переи Ирода[188] — сына Антипатра, с которым Марк участвовал в египетской кампании Габиния (см. раздел «Служба под началом Габиния. Кампании в Иудее и Египте»).
Зиму 42—41 годов до н. э. Антоний провёл в Греции, распустив часть легионов, но сохранив самые боеспособные войска. По-видимому, Антоний начал подготовку к войне с Парфией, для чего ему потребовались деньги. Для содержания своей армии республиканцы за два предыдущих года собрали с азиатских провинций налоги за десять лет вперёд, но Антоний потребовал для грядущей кампании аналогичную сумму в течение ближайшего года[цитата 3]. Несмотря на то, что Антоний потребовал в восточных городах и союзных царствах около 150 тысяч талантов, ему едва ли удалось собрать больше 20 тысяч талантов в срок. Вскоре Марк был вынужден умерить свои требования до налогов за 9 лет в течение двух лет[186]. Одновременно он поощрял территории, которые упорно сопротивлялись республиканцам (Ликия и Родос освобождались от уплаты дани), а также поддержал города с древней историей (в частности, он расширил площадь, контролируемую Афинами). Эти действия продолжали политику эллинистических монархов, которые покровительствовали городам и государствам за их былые заслуги[187]. Антоний также признал царём Иудеи, Идумеи и Переи Ирода[188] — сына Антипатра, с которым Марк участвовал в египетской кампании Габиния (см. раздел «Служба под началом Габиния. Кампании в Иудее и Египте»).
 Находясь в Киликии, Антоний вызвал из Египта царицу Клеопатру, с которой, возможно, встречался во время египетской экспедиции. По сообщению Плутарха, Марк хотел услышать от царицы, почему она помогала республиканцам. Затем, по словам греческого историка, Клеопатра собрала свои лучшие сокровища и со всей свитой прибыла в Тарс, где сумела добиться расположения Антония[цитата 4].
Находясь в Киликии, Антоний вызвал из Египта царицу Клеопатру, с которой, возможно, встречался во время египетской экспедиции. По сообщению Плутарха, Марк хотел услышать от царицы, почему она помогала республиканцам. Затем, по словам греческого историка, Клеопатра собрала свои лучшие сокровища и со всей свитой прибыла в Тарс, где сумела добиться расположения Антония[цитата 4].
Пока Антоний находился на Востоке, Октавиан вернулся в Италию, поскольку именно он должен был обеспечить демобилизованных солдат обещанными деньгами и землёй. Выполнить обещания оказалось непросто из-за всеобщей разрухи в Италии вследствие многолетних гражданских войн, а также из-за действий Секста Помпея, который блокировал пути доставки продовольствия на полуостров[185]. Для выполнения обязательств перед войсками (всего требовалось расселить 170 тысяч ветеранов) Гаю пришлось отобрать землю, принадлежавшую жителям многих поселений Италии: по словам Аппиана, Октавиан был вынужден «выселить Италию»[189]. Участки принудительно выкупались по ценам значительно ниже рыночной, поскольку Октавиану не хватало денег. Следствием этой политики стал упадок сельского хозяйства, поскольку многие ветераны не имели скота и собственного сельскохозяйственного инвентаря. Кроме того, немало рабов (в том числе занятых в сельском хозяйстве) бежало к Сексту Помпею, обещавшему беглецам свободу при условии службы в своих рядах. Экономическая ситуация усугубилась дезорганизацией ремесла и торговли из-за непрекращающихся гражданских войн[190]. Интересы Антония в столице представляли его брат Луций (Марк добился его избрания консулом) и жена Фульвия. В 41 году до н. э. они воспользовались непопулярностью Октавиана и начали вооружать недовольных. Когда Луций открыто выступил против политики Гая, на некоторое время занял со своими отрядами Рим и призвал к прекращению экспроприаций земли, многие его поддержали. Впрочем, Марк Антоний, с которым переписывались Луций и Фульвия, так и не вмешался в развитие ситуации. В результате промедления Октавиан собрал лояльные войска, осадил Луция в Перузии (современная Перуджа) и вынудил его сдаться. Сам город, принявший у себя мятежников, он приказал сжечь[191].
Пассивность Антония по отношению к событиям Италии объяснялась его занятостью решением насущных дел на Востоке и, прежде всего, подготовкой к войне с Парфией (см. выше). Другой причиной невмешательства Марка стала чересчур самостоятельная политика Луция: в своих выступлениях он обещал — возможно, без согласования с братом, — что триумвиры сложат с себя полномочия[192][193]. Античные авторы называют и третью причину — по их мнению, Антоний совершенно потерял голову из-за египетской царицы и потерял много времени, отправившись вслед за ней в Александрию[194]. Лишь после получения известий о взятии Перузии Антоний решил переправиться в Италию. Впрочем, весной 40 года до н. э. на римские восточные владения напала парфянская армия во главе с царевичем Пакором и римлянином Квинтом Лабиеном[195]. Антоний знал о нападении, но решил не отражать нападение немедленно, а продолжил путь в метрополию[196]. Вернувшись в Италию, Марк осадил Брундизий — стратегически важный порт, связывавший метрополию и восточные провинции. С Марком начали сотрудничать Гней Домиций Агенобарб и Секст Помпей, контролировавшие крупные флотилии[197][193][198].
Примирение с Октавианом и Секстом Помпеем (40—38 годы до н. э.)
 Положение Октавиана, несмотря на контроль над большей частью Италии, осложнялось низким боевым духом солдат, которые по-прежнему не желали сражаться против Антония. Именно от солдат исходила инициатива примирения двух триумвиров, что и произошло осенью 40 года до н. э. (Лепида к этому времени фактически отстранили от власти). Способствовала заключению мира и дальновидная политика Октавиана, который пощадил зачинщиков мятежа — Луция Антония и Фульвию. По новому соглашению, Антоний получил все восточные провинции, Октавиан — весь запад, включая галльские провинции, ранее принадлежавшие Антонию. Лепид же получил лишь Африку, а интересы Секста Помпея Марк и Гай проигнорировали, и он возобновил морскую блокаду Италии. Кроме того, вскоре умерла Фульвия, что сделало возможным скрепление нового союза браком Марка на Октавии, недавно овдовевшей сестре Октавиана[197][193][198][190].
Положение Октавиана, несмотря на контроль над большей частью Италии, осложнялось низким боевым духом солдат, которые по-прежнему не желали сражаться против Антония. Именно от солдат исходила инициатива примирения двух триумвиров, что и произошло осенью 40 года до н. э. (Лепида к этому времени фактически отстранили от власти). Способствовала заключению мира и дальновидная политика Октавиана, который пощадил зачинщиков мятежа — Луция Антония и Фульвию. По новому соглашению, Антоний получил все восточные провинции, Октавиан — весь запад, включая галльские провинции, ранее принадлежавшие Антонию. Лепид же получил лишь Африку, а интересы Секста Помпея Марк и Гай проигнорировали, и он возобновил морскую блокаду Италии. Кроме того, вскоре умерла Фульвия, что сделало возможным скрепление нового союза браком Марка на Октавии, недавно овдовевшей сестре Октавиана[197][193][198][190].
Впрочем, возобновившаяся морская блокада Италии Секстом Помпеем вынудила триумвиров скорректировать свои планы, поскольку сокращение поставок хлеба ударило по популярности Октавиана и остававшегося в столице Антония. В 39 году до н. э. Антоний, Октавиан и Помпей на переговорах в Кампании пришли к соглашению. Триумвиры пообещали на пять лет сохранить за Секстом Сицилию, Сардинию и Корсику, а также обещали добавить Пелопоннес (провинция Ахея), но отказали ему во включении в число триумвиров с предоставлением соответствующих законных полномочий. Вместо этого Сексту пообещали консульство в 33 году до н. э. В обмен же Секст должен был снять блокаду, обеспечить снабжение Италии продовольствием, зачистить Средиземное море от пиратов и не принимать новых беглых рабов. Триумвиры соглашались помиловать всех сторонников Секста и бежавших к нему проскрибированных, всем рабам, сражавшимся в его армии, предоставляли свободу, а свободных солдатам его армии обещали те же щедрые награды, что и легионерам Октавиана и Марка[199][200]. Сохранилась легенда, будто соглашение отметили пиром на галере Секста, а соратник Помпея Менодор безуспешно предлагал ему убить Антония и Октавиана, чтобы стать новым правителем[201]. В октябре 39 года до н. э. Антоний покинул Рим и направился в Азию для ведения войны против Парфии, но зиму всё же провёл в Афинах. Впрочем, его вмешательство уже не требовалось: его соратник Публий Вентидий Басс разгромил Лабиена в Малой Азии и освободил большую часть римских провинций, захваченных парфянами[199][200].
Несмотря на успехи Басса, противники римлян удерживали некоторые горные районы в Малой Азии, и Антоний должен был восстановить там порядок. Однако Марк не стал умиротворять провинции и соседние государства своими силами, а поручил это союзным правителям. Для этого ему пришлось укрепить власть местных династий, что противоречило прежней доктрине римской политике в этом регионе (например, Гней Помпей во время Третьей Митридатовой войны опирался на торговые города и ослаблял местных правителей). В частности, Антоний возвёл на трон Понтийского царства Дария, внука Митридата Евпатора. Часть Киликии и Кипр Антоний передал Клеопатре: по-видимому, эти богатые лесом земли должны были использоваться для постройки флота в Египте. Вскоре Антоний прервал свои дела в Азии и вернулся в Брундизий, куда его призвал Октавиан для переговоров о судьбе триумвирата — их полномочия истекали 31 декабря 38 года до н. э. Впрочем, Гай так и не появился, сославшись на занятость войной с Секстом Помпеем, и Марк отправился в Сирию. Впрочем, к моменту его прибытия Вентидий Басс в целом восстановил римское владычество и в этой римской провинции. Полководец успел вторгнуться в Коммагену под предлогом отказа выдавать парфянских солдат. Антоний возглавил осаду Самосаты, столицы царства, но город уверенно держался. В результате Антоний договорился с правителем Коммагены о мире: Марк получал 300 талантов контрибуции, хотя первоначально надеялся на тысячу. Поскольку изгнание парфян было завершено, а вторжение в Парфию ещё не было готово, Вентидий вернулся в Рим и отпраздновал заслуженный триумф, а Антоний остался на Востоке. Известно, что Марк также мог отпраздновать триумф, однако предпочёл воздержаться[202][203].
Время между кампаниями Антоний проводил с Клеопатрой в Александрии, где устраивал грандиозные пиры вместе со своими соратниками[194]. По преданию, почти каждую ночь триумвир и царица переодевались в одежду рабов и вместе бродили по городу[цитата 5]. Около 40 года до н. э. Клеопатра родила Антонию двойню — Александра Гелиоса и Клеопатру Селену.
Продление полномочий триумвиров. Парфянская экспедиция (37—36 годы до н. э.)
 31 декабря 38 года до н. э. действие Второго триумвирата официально завершилось, однако Октавиан был занят войной с Секстом Помпеем, а Антоний готовился к войне с Парфией, и в их текущих интересах было сохранение законных полномочий ещё на некоторое время. Оба триумвира не смогли разработать план дальнейших действий в истекающем году, и потому договорились о встрече весной 37 года до н. э. Первоначально Антоний планировал высадиться в Брундизии — ближайшем порту на пути из Македонии, — но сторонники Октавиана в городе не позволили ему войти в гавань, подозревая его в желании захватить город. В результате переговоры прошли в Таренте (современный Таранто), где Антоний и Октавиан договорились о продлении срока действия триумвирата ещё на пять лет. Для помощи друг другу они пообещали обменяться войсками: заинтересованный в сухопутных отрядах Антоний должен был получить 4 легиона в обмен на 120 боевых кораблей для нуждавшегося в сильном флоте Октавиана. Триумвиры также утвердили списки консулов вплоть до 31 года до н. э.[204][205] Более поздняя историческая традиция приписывала значительную роль в урегулировании отношений Октавии, но эта версия в настоящее время подвергается сомнению[204].
31 декабря 38 года до н. э. действие Второго триумвирата официально завершилось, однако Октавиан был занят войной с Секстом Помпеем, а Антоний готовился к войне с Парфией, и в их текущих интересах было сохранение законных полномочий ещё на некоторое время. Оба триумвира не смогли разработать план дальнейших действий в истекающем году, и потому договорились о встрече весной 37 года до н. э. Первоначально Антоний планировал высадиться в Брундизии — ближайшем порту на пути из Македонии, — но сторонники Октавиана в городе не позволили ему войти в гавань, подозревая его в желании захватить город. В результате переговоры прошли в Таренте (современный Таранто), где Антоний и Октавиан договорились о продлении срока действия триумвирата ещё на пять лет. Для помощи друг другу они пообещали обменяться войсками: заинтересованный в сухопутных отрядах Антоний должен был получить 4 легиона в обмен на 120 боевых кораблей для нуждавшегося в сильном флоте Октавиана. Триумвиры также утвердили списки консулов вплоть до 31 года до н. э.[204][205] Более поздняя историческая традиция приписывала значительную роль в урегулировании отношений Октавии, но эта версия в настоящее время подвергается сомнению[204].
В 37 году до н. э. Антоний начал усиленную подготовку к войне с Парфией, намеченной на следующий год. Хотя Антоний выполнил свои обязательства и передал Октавиану 120 кораблей, Гай не отправил ему четыре обещанных легиона[204][205]. Тем не менее, к весне 36 года до н. э. Марк сумел собрать примерно 16 легионов (около 60 тысяч солдат)[коммент. 18], 10 тысяч конницы (в основном из испанских и галльских провинций) и около 30 тысяч вспомогательных войск[211]. Момент для нападения был выбран удачно: совсем недавно к власти в Парфии пришёл Фраат IV, задушивший своего отца. Новый правитель сразу же приказал убить своих братьев и казнить многих аристократов. Некоторые знатные парфяне, спасаясь от нового царя, бежали к Марку Антонию, побуждая его выступить против Фраата. Эти события убедили Антония в необходимости воспользоваться внутренними конфликтами в Парфии и атаковать немедленно[212].
Вероятно, Антоний пользовался для вторжения неосуществлёнными планами Цезаря: Светоний сообщает, будто Цезарь намеревался напасть на Парфию через Армению[213][214]. При подготовке к войне наверняка был учтён и негативный опыт парфянского похода Красса. По-видимому, Антоний с самого начала решил вторгаться в ядро парфянских владений не через Месопотамию, а через Армению. Главной причиной выбора вторжения с севера стало желание римлян использовать холмистый и гористый рельеф местности для нейтрализации преимуществ парфянской кавалерии, наиболее эффективной на равнинах. Для этого Марк договорился о праве на проход с правителем Армении Артаваздом II, который также предоставил Антонию крупный отряд вспомогательных войск, включавший кавалерию. Из Армении Антоний надеялся войти на территорию Мидии-Атропатены, которой правил другой Артавазд, враждовавший с Арменией. В поисках предлога для начала войны Антоний потребовал от парфянского царя Фраата выдать трофеи, захваченные в битве при Каррах[215]. Парфянский правитель отказался.
Первоначально римские войска сосредоточились в Зевгме[en] на Евфрате, неподалёку от Карр. Однако когда Фраат начал собирать войска в Месопотамии, Антоний повернул на север и вошёл в Армению вдоль Евфрата (базирование под Зевгмой, где находилась важная переправа через Евфрат, должно было дезориентировать парфян). Антоний поздно начал войну, но вместо того, чтобы разместить войска на зимовку в союзной Армении, он продолжил поход. Впоследствии недоброжелатели обвиняли его в том, что он задержался в Александрии с Клеопатрой[215][216]; впрочем, Плутарх полагает, что Антоний, наоборот, спешил завершить кампанию до зимы, чтобы провести остаток года с царицей[209]. Из Армении Марк вошёл в Атропатену и осадил её столицу Фрааспу (в другом варианте транскрипции — Фраата), точное расположение которой неизвестно (по одной из версий, на месте этого города находятся развалины Тахт-е Солейман). Впрочем, из-за спешки Марка его осадная техника далеко отстала. Осада Фрааспы затянулась, и положение Антония резко осложнилось из-за прибытия парфянских подкреплений. Парфяне разбили римский обоз с осадными орудиями и оба сопровождавших его легиона. После этого поражения армянский царь Артавазд решил увести свои войска из Атропатены[коммент. 19]. Поскольку с ним ушла и значительная часть кавалерии, римляне не могли надеяться на успех в сражении против мобильной парфянской армии. Для предотвращения пораженческих настроений Марк был вынужден прибегнуть к децимации одного из отступивших отрядов. Парфяне почти окружили армию Антония, но за 27 дней полководец сумел прорвать блокаду и отступить в Армению, успешно отбиваясь от постоянных нападений парфянской конницы, а оттуда он вернулся в римские владения и, наконец, в Египет. Несмотря на неудачную кампанию, Антоний всё же проявил своё полководческое мастерство, сумев избежать полного разгрома[218][219][220][221]. Совокупные потери Антония за время похода античные авторы оценивали как весьма значительные — по разным версиям, от четверти изначальной численности войск (около 25 тысяч солдат)[222] до 42 тысяч человек[223].
Поход в Армению. Подготовка к войне с Октавианом (35—33 годы до н. э.)
 В то время, как Антоний бесславно завершил парфянский поход, Октавиан победил Секста Помпея и начал укреплять свою власть в Италии. Помпей сумел бежать из Италии в контролируемые Антонием Митилены. Узнав о неудачах Марка под Фрааспой, он поднял восстание. В начале 35 года до н. э. Секст Помпей собрал новый флот и начал грабить прибрежные города Азии и Вифинии, а также попытался связаться с парфянами. После поражения флота Секста его казнил Марк Тиций, хотя приказ об убийстве наверняка отдавал сам Антоний[224][225][226][коммент. 20].
В то время, как Антоний бесславно завершил парфянский поход, Октавиан победил Секста Помпея и начал укреплять свою власть в Италии. Помпей сумел бежать из Италии в контролируемые Антонием Митилены. Узнав о неудачах Марка под Фрааспой, он поднял восстание. В начале 35 года до н. э. Секст Помпей собрал новый флот и начал грабить прибрежные города Азии и Вифинии, а также попытался связаться с парфянами. После поражения флота Секста его казнил Марк Тиций, хотя приказ об убийстве наверняка отдавал сам Антоний[224][225][226][коммент. 20].
В 35 году до н. э. в Александрию, где находился Антоний, прибыло посольство царя Атропатены Артавазда. Он предлагал Марку объединиться против Артавазда из Армении, своего старого врага. К этому времени правитель Атропатены поссорился с парфянами, и Антоний мог не опасаться обвинений в сотрудничестве со своим первоначальным врагом. Марк собрал новые войска и вступил в Сирию (якобы для новой войны против Парфии), а в начале 34 года до н. э. вновь направился на север, в сторону Армении. По пути он отправил армянскому Артавазду посольства с предложениями династического брака (Антоний говорил, будто желает выдать дочь Артавазда за своего сына от Клеопатры Александра Гелиоса) и нового союза против Парфии. Хотя правитель Армении отказался от обоих предложений, он всё же согласился на личную встречу, когда Антоний подошёл к его столице Арташату. Впрочем, римляне взяли царя в плен, а вскоре захватили и всю Армению. После практически бескровной кампании Антоний с богатыми трофеями вернулся в Александрию и отпраздновал триумф там, а не в Риме[228][229]. Несмотря на то, что победа над Арменией была достигнута в результате предательства, Антоний ей очень гордился и даже приказал выбить упоминание о победе на монетах[230].
Уже вскоре после победы над Секстом Помпеем Октавиан начал готовить общественное мнение к войне с Антонием и Клеопатрой[231], а вскоре последовала реакция Марка. Некоторое время пропагандистская война велась неофициально; на словах же и Антоний, и Октавиан высказывались в поддержку триумвирата и республики. Впрочем, 1 января 33 года до н. э. Гай вступил в должность консула и открыто выступил против Марка[232]. Противники начали публиковать открытые письма, памфлеты, инвективы, распространяли различные слухи. Так, в Риме рассказывали, будто Антоний на публике растирал Клеопатре ноги маслом[233], а его сторонник Планк танцевал обнажённым и раскрашенным в синий цвет, изображая морское божество Главка[234]. Самого Антония обвиняли в сговоре с владычицей Египта и в отстаивании её интересов в ущерб римским. Октавиан утверждал, что триумф его оппонента за победу над Арменией в Египте является свидетельством скорого переноса Антонием столицы в Александрию. Он запугивал обывателей мнимым желанием Антония превратить Рим в египетскую провинцию[235]. Антоний, в свою очередь, напоминал, что Октавиан практически не участвовал в битве при Филиппах, неоднократно нарушал данные им обещания, раздавал земельные надели только своим солдатам и, наконец, отстранил от власти триумвира Лепида. Следуя традициям римских политических памфлетов, Марк затрагивал и тему личной жизни своего оппонента: Гай якобы вступал в незаконные связи с жёнами консулов, а свою дочь он якобы обещал в жёны варвару — вождю гетов. Наконец, Антоний поднял и вопрос о том, кого же следует считать настоящим наследником Цезаря: он акцентировал внимание на том, что Цезарион был родным сыном Цезаря, в отличие от приёмного сына Октавиана[236]. Оба триумвира опирались на различные слои населения государства. Антоний вслед за Юлием Цезарем стремился вовлечь жителей провинций, не подвергшихся латинизации, в управление Римской республикой, и в его окружении всегда было много «варваров». Напротив, Октавиан целенаправленно подчёркивал свою приверженность традиционным римским ценностям и играл на националистических чувствах римлян, постоянно противопоставляя их «варварам»[237][238]. Как и многие эллинистические правители, Марк старался придать своей власти божественный оттенок, а себя сравнивал с богами (впрочем, первые шаги по сакрализации триумвира исходили от самих греков, когда зимой 41—40 годов до н. э. жители Эфеса провозгласили его новым Дионисом). Клеопатра поощряла ассоциации с богами, появляясь в образе Афродиты — любовницы Диониса в ряде мифов. Коренные египтяне связывали Марка с Осирисом[239]. Впрочем, многих сторонников Антония из числа римлян и италиков постепенно отталкивало от него интенсивное заимствование восточного образа жизни и большое влияние Клеопатры на его политику[237]. Около 34 года до н. э. Антоний провозгласил Цезариона соправителем Клеопатры, а между своими малолетними детьми от царицы разделил разные царства Востока, включая ещё незавоёванные: Александр Гелиос должен был стать царём Армении, Мидии и Парфии, Птолемей — Финикии, Сирии и Киликии (ранее Антоний передал Финикию Клеопатре, а Сирия пока оставалась римской провинцией), а Клеопатра Селена — Киренаики[240].
В 33 году до н. э. Антоний задумал вновь вторгнуться в Парфию и уже сосредоточил 16 легионов в Армении, но его остановили тревожные вести из Рима. Поэтому вместо нового восточного похода Марк встретился с Артаваздом Атропатенским, передал ему в управление часть Армении и несколько своих отрядов. По свидетельству Диона Кассия, Антоний также просил у Артавазда поддержки в грядущей войне с Октавианом, но правитель Атропатены отказался[241][242].
Антоний не контролировал ситуацию в метрополии, однако сохранял там значительное влияние. Несмотря на успехи Гая в словесных баталиях в Риме, Антония по-прежнему поддерживало немало сенаторов, видевших в нём меньшее зло по сравнению с мстительным Октавианом, уничтожавшим остатки республиканских свобод. На сторону Марка перешло немало его бывших врагов — сторонники Гнея Помпея в гражданскую войну 49-45 годов до н. э. и Секста Помпея, а также многие выжившие республиканцы. Когда Октавиан расселял 100 тысяч ветеранов в Италии, ему пришлось выселить сотни тысяч мелких землевладельцев, пополнивших ряды недовольных его политикой. С другой стороны, получившие землю ветераны поддерживали Октавиана, опасаясь пересмотра своих владений в случае прихода к власти Антония. Когда потребности ветеранов были удовлетворены, Октавиан счёл возможным на некоторое время снизить налоги, а для уменьшения безработицы (многие из потерявших землю фермеров так и не сумели найти работу) начал масштабное строительство в Риме и городах западных провинций. Сдержанное отношение к себе сенаторов Октавиан компенсировал возвышением талантливых сторонников — Агриппы, Мецената и прочих[243]. Гая поддержали и многие богатые римляне. Впрочем, когда Октавиан ввёл новые налоги на содержание своей армии (в частности, подоходный налог в 25 % со всех свободных людей и единовременный налог в 12,5 % с имущества богатых вольноотпущенников), начались бунты, которые подавлялись армией[244].
Битва при Акции и смерть
Разрыв с Октавианом. Сбор войск в Греции (32 год до н. э.)
31 декабря 33 года до н. э. срок полномочий триумвиров истекал, и Октавиан объявил, что впредь он не намерен использовать триумвирскую власть. Антоний же направил в сенат письмо, в котором соглашался на отказ от использования власти триумвира в будущем при условии восстановления конституционного порядка, существовавшего до гражданских войн. На деле же он так и не сложил полномочий. Консулами 32 года до н. э. стали сторонники Антония Гней Домиций Агенобарб и Гай Созий. Они потребовали законодательно утвердить все распоряжения Антония, включая передачу власти над восточными провинциями (Цезариона и детей Антония). Когда Созий попытался открыто выступить против Октавиана, тот окружил сенат и потребовал осудить Антония. Столкнувшись с открытой враждебностью Октавиана, оба консула и 300 сенаторов бежали к Марку, который вскоре организовал заседание «сената в изгнании» в Александрии. Юридический статус этого заседания был неясен, хотя бегство консулов ставило под сомнение легальность всех дальнейших действий Октавиана. Впрочем, Гай сделал консулами-суффектами своих друзей (таким образом, он фактически заявил о непризнании власти Агенобарба и Созия). Летом 32 года до н. э. Антоний развёлся с Октавией. Юридическое завершение брака (фактически Антоний уже давно жил с Клеопатрой, а Октавия оставалась в Риме) знаменовало решимость Антония не идти на компромисс с Октавианом. Впрочем, многие сторонники Антония видели в этом решении козни Клеопатры, и некоторые из них начали возвращаться в Рим. Двое перебежчиков — Тиций и Планк — рассказали Октавиану, что в завещании Антония содержатся противоречивые распоряжения, которые могли бы помочь Гаю в его пропагандистской кампании. Октавиан отобрал завещание у весталок и опубликовал его, нарушив не только законодательные, но и священные запреты. Согласно этому документу, Антония следовало похоронить в Александрии, Цезариона следовало признать законным наследником Цезаря вместо Октавиана, а большая часть имущества Антония, вопреки закону, отходила Клеопатре и её детям от Антония[коммент. 21]. Сумев разжечь антиегипетские настроения, в конце 32 года до н. э. Октавиан объявил войну Клеопатре. Полномочия Антония были аннулированы, как и утверждённое пять лет назад право Марка занять должность консула в 31 году до н. э.[245][246][цитата 6] Впрочем, по одной из версий, завещание могло быть подделано или подкорректировано Октавианом[247]. Вскоре Октавиан, не имевший никакой должности, которая позволяла ему командовать войсками, вынудил жителей всех западных провинций принести ему персональную клятву верности, аналогичную той, что солдаты приносили своему командиру[248].
К этому времени Антоний начал переправлять в Грецию свои легионы, войска Клеопатры и отряды союзных правителей. По количеству войск Октавиан немного уступал своему оппоненту: Марк располагал примерно 100 тысячами пехоты против 80 тысяч у Октавиана, в кавалерии противники были примерно равны. Флот Антония с учётом поддержки Клеопатры был больше, а его боевые корабли были крупнее судов Октавиана[249]. Впрочем, Плутарх замечает, что на кораблях Марка ощущалась острая нехватка гребцов, которая не позволяла в полной мере использовать потенциал судов[цитата 7]. При этом численность сухопутных войск Марка могла быть ещё большей, если бы Октавиан выполнил данное в Таренте обещание о передаче своему коллеге по триумвирату 20 тысяч солдат (см. раздел «Продление полномочий триумвиров. Парфянская экспедиция (37—36 годы до н. э.)»). Вместо этого он организовал поход в Иллирию, ставший оправданием для сохранения этих войск в строю на своей стороне[250]. Немало войск Антонию прислали союзные правители — Полемон из Понта, Митридат из Коммагены[en], Котизон из Дакии[en]. Ирод из Иудеи хотел отправить Антонию свой вспомогательный отряд, но из-за интриг Клеопатры, продолжавшей вмешиваться в дела Антония, остался на родине. Сама Клеопатра, впрочем, передала Антонию крупный флот и снабжала его армию продовольствием и деньгами[251]. Огромная армия Антония перемещалась очень медленно (сам Марк нередко задерживался для участия в праздниках и фестивалях в свою честь[252]), и войска собрались на побережье Ионического моря лишь к августу. Всё это время Антония сопровождала Клеопатра, хотя многие его соратники призывали вернуть царицу в Египет: помимо вмешательства в руководство армией, её присутствие могло негативно сказываться на поддержке Марка в Италии[252][253]. Антоний не решился начать войну в истекающем году по ряду причин: во-первых, конец осени и зима считались неблагоприятным временем для морской навигации, во-вторых, его флота (800 кораблей, в том числе 300 транспортных судов) не хватало для единовременной транспортировки в Италию всех войск, в-третьих, Октавиан надёжно укрепил ближайшие к побережью Греции гавани Брундизия и Тарента, а остальные пригодные для высадки крупного десанта порты располагались значительно дальше[253]. Из-за этого Антоний сначала отложил высадку в Италию, а затем принял решение укрепиться в Греции и дожидаться переправы Октавиана. Хотя античные авторы критиковали смену стратегии как якобы навязанную Клеопатрой[254], современные историки обычно считают такое решение дальновидным[255]. Оборонительная стратегия имела свои преимущества: в отличие от Антония, Октавиан испытывал большие трудности с выплатой жалованья, а в случае переправы он чрезвычайно зависел бы от поставок продовольствия по морю[255]. По-видимому, при организации зимовки и обороны Антоний учитывал опыт Помпея, едва не добившегося победы в 48 году до н. э. Впрочем, для поддержания морской блокады и обороны побережья Марку пришлось дробить войска и флот на части. Большая часть флота Антония зимовала в Амбракийском заливе вблизи мыса Акций, а остальные корабли были рассредоточены по другим гаваням западного побережья Греции[256].
Кампании в Греции и Египте. Самоубийство Антония. Конец Республики (31—30 годы до н. э.)
 В самом конце зимы — начале весны 31 года до н. э. Марк Випсаний Агриппа неожиданно захватил один из южных оплотов Антония — Метони в Пелопоннесе. Марк, вероятно, ожидал нападения с севера, и внезапное нападение спутало его планы. Впрочем, затем корабли Агриппы начали нападать на города по всему западному побережью Греции, а Октавиан действительно высадился на севере, в Панорме[en]. Октавиан при поддержке Агриппы привёл свои основные войска к месту зимовки флота Антония и захватил холм севернее пролива, соединявшего Амбракийский залив с Ионическим морем. Марк стянул большую часть армии на южный берег пролива, а затем переправился на северный берег и разбил там лагерь. Октавиан игнорировал все попытки Антония завязать сражение, хотя и был вынужден отбивать попытки антонианцев отрезать его от единственного источника пресной воды. Позиция Октавиана была весьма выгодной: его лагерь на холме, с доступом к морю и пресной воде не испытывал недостатка в снабжении, а Антонию пришлось разбить лагерь в болотистой местности, что вскоре привело к вспышке болезней. Пока Гай и Марк вели позиционную войну на узком перешейке, Агриппа захватил несколько важных баз Антония, лишив его египетского продовольствия и преимущества на море, а также установил блокаду Амбракийского залива, где находилась большая часть флота Антония[255].
В самом конце зимы — начале весны 31 года до н. э. Марк Випсаний Агриппа неожиданно захватил один из южных оплотов Антония — Метони в Пелопоннесе. Марк, вероятно, ожидал нападения с севера, и внезапное нападение спутало его планы. Впрочем, затем корабли Агриппы начали нападать на города по всему западному побережью Греции, а Октавиан действительно высадился на севере, в Панорме[en]. Октавиан при поддержке Агриппы привёл свои основные войска к месту зимовки флота Антония и захватил холм севернее пролива, соединявшего Амбракийский залив с Ионическим морем. Марк стянул большую часть армии на южный берег пролива, а затем переправился на северный берег и разбил там лагерь. Октавиан игнорировал все попытки Антония завязать сражение, хотя и был вынужден отбивать попытки антонианцев отрезать его от единственного источника пресной воды. Позиция Октавиана была весьма выгодной: его лагерь на холме, с доступом к морю и пресной воде не испытывал недостатка в снабжении, а Антонию пришлось разбить лагерь в болотистой местности, что вскоре привело к вспышке болезней. Пока Гай и Марк вели позиционную войну на узком перешейке, Агриппа захватил несколько важных баз Антония, лишив его египетского продовольствия и преимущества на море, а также установил блокаду Амбракийского залива, где находилась большая часть флота Антония[255].
Союзные Антонию правители начали переходить на сторону Октавиана, а позже стали перебегать и римляне. Последней надеждой Антония и Клеопатры стало морское сражение, которое состоялось уже при численном превосходстве Октавиана и Агриппы: у них было около 400 кораблей против 200—250 у Антония и Клеопатры. Решающая битва при Акции состоялась 2 сентября 31 года до н. э. В начале битвы основное сражение завязалось в северной части пролива. Благодаря этому Антонию и Клеопатре, командовавшими кораблями в центре, удалось прорваться. Они не стали атаковать Октавиана и Агриппу с тыла, и большая часть флота осталась запертой в Амбракийском заливе[257]. По сообщению Плутарха, прорыв и попытка бегства Клеопатры стали для Антония неожиданностью, и он бросился за ней. Весь флот он оставил на произвол судьбы, хотя исход битвы на море оставался неясен[258]. Впрочем, обманные манёвры на севере и прорыв в центре могли быть частью изначального плана Антония и Клеопатры. Исход битвы каждая сторона трактовала в свою пользу: Антоний и Клеопатра прорвали блокаду, но потеряли большую часть флота и связь с войсками в Греции (число жертв было невелико из-за большого числа сдавшихся). Когда Антоний попытался связаться с оставленными в Азии войсками, эти солдаты уже перешли на сторону Октавиана, и Марку пришлось возвращаться в Александрию[257].
 Октавиан задержался из-за дел в Италии, а в следующем году напал на Египет. Антоний почти потерял надежду на спасение, проводя всё время с Клеопатрой. Впрочем, он попытался отразить нападение Октавиана (сам Гай наступал с востока, а другая часть его войск атаковала Египет с запада, из Киренаики) и даже выиграл одну битву. Несмотря на некоторые успехи Антония, 1 августа его корабли перешли на сторону противника в александрийской гавани, а сухопутные войска проиграли сражение. Вскоре Александрия пала. В сложной обстановке Антоний не знал о происходящем в царском квартале. Внезапно к нему начали поступать донесения, будто Клеопатра покончила жизнь самоубийством (впрочем, Плутарх пишет, что эти слухи распространяла сама царица). Дальнейшие подробности с известной долей драматизации описаны у Плутарха[259]. В частности, греческий историк пишет, что когда Антоний приказал своему рабу Эроту заколоть своего хозяина, он вместо этого убил себя. После этого Антоний попытался заколоть себя мечом, но кровотечение из раны оказалось не очень сильным, и Марк прожил ещё несколько часов[260]. По сообщению Плутарха, раненый Антоний вскоре узнал о том, что царица жива. Его перетащили во дворец и подняли на верёвках в покои забаррикадировавшейся Клеопатры. Здесь он скончался в объятиях царицы вечером 1 августа 30 года до н. э.[260][261]
Октавиан задержался из-за дел в Италии, а в следующем году напал на Египет. Антоний почти потерял надежду на спасение, проводя всё время с Клеопатрой. Впрочем, он попытался отразить нападение Октавиана (сам Гай наступал с востока, а другая часть его войск атаковала Египет с запада, из Киренаики) и даже выиграл одну битву. Несмотря на некоторые успехи Антония, 1 августа его корабли перешли на сторону противника в александрийской гавани, а сухопутные войска проиграли сражение. Вскоре Александрия пала. В сложной обстановке Антоний не знал о происходящем в царском квартале. Внезапно к нему начали поступать донесения, будто Клеопатра покончила жизнь самоубийством (впрочем, Плутарх пишет, что эти слухи распространяла сама царица). Дальнейшие подробности с известной долей драматизации описаны у Плутарха[259]. В частности, греческий историк пишет, что когда Антоний приказал своему рабу Эроту заколоть своего хозяина, он вместо этого убил себя. После этого Антоний попытался заколоть себя мечом, но кровотечение из раны оказалось не очень сильным, и Марк прожил ещё несколько часов[260]. По сообщению Плутарха, раненый Антоний вскоре узнал о том, что царица жива. Его перетащили во дворец и подняли на верёвках в покои забаррикадировавшейся Клеопатры. Здесь он скончался в объятиях царицы вечером 1 августа 30 года до н. э.[260][261]
Через несколько дней Клеопатра также покончила жизнь самоубийством, не желая отправляться на триумфальную процессию Октавиана в Рим, и Октавиан присоединил Египет к римским владениям. Гай казнил старшего сына Антония, Марка Антония Антилла, а затем и Цезариона. Остальных его детей приютила и воспитала Октавия (см. раздел «Личная жизнь»). Октавиан после возвращения в Рим сконцентрировал в своих руках всю полноту власти и правил 44 года. События между 31 и 27 годами до н. э. традиционно считаются временем падения Римской республики и начала Римской империи, а сам Октавиан рассматривается первым римским императором в современном значении этого слова.
По свидетельству Диона Кассия, Антония и Клеопатру забальзамировали по египетскому обычаю и похоронили в одной могиле[262]. В 2009 году группа египетских археологов заявила о приблизительной локализации захоронения Антония и Клеопатры возле храмового комплекса западнее Александрии[263].
Личность
Внешний вид. Общие характеристики
По словам Плутарха, Антоний «…обладал красивою и представительной внешностью. Отличной формы борода, широкий лоб, нос с горбинкой сообщали Антонию мужественный вид и некоторое сходство с Гераклом, каким его изображают художники и ваятели»[3]. Его портреты на монетах позволяют добавить ещё два штриха к внешности триумвира — тяжёлый подбородок и крупную шею[264]. Плутарх замечает, что Марк умел добиваться расположения солдат, которыми он командовал[3].
Личная жизнь
Первой женой Антония стала Фадия, дочь богатого вольноотпущенника, причём Марк, вероятно, вступил в брак по расчёту (см. раздел «Молодость»). Единственный источник, который знает о Фадии — Цицерон. Он упоминает и о детях от этого брака[цитата 8]. Возможно, к 44 году до н. э., когда относятся последние упоминания о Фадии, она и все её дети умерли[14]. Биограф Антония Плутарх о Фадии не знает, а всего он насчитал семь детей от трёх жён Марка, включая Клеопатру[265]. В попытках разрешить противоречия источников Элеанор Хьюзар допускает, что брак так и не был оформлен юридически, но Марк признал детей от сожительства с Фадией[14].
 Примерно после 55 года до н. э. Антоний вступил во второй брак. Его женой стала двоюродная сестра Антония Гибрида, дочь Гая Антония Гибриды. Между 54 и 49 годами до н. э. у них родилась дочь Антония. В 47 году до н. э. Марк развёлся с ней по обвинению в измене с Долабеллой (см. раздел «Управление Италией. Опала»). В 44 году до н. э. он договорился с Лепидом о браке своей дочери и его сына, когда они вырастут. Впрочем, в 34 году до н. э. Марк расторг помолвку с попавшим в опалу Лепидом и выдал дочь за Пифодора, богатого грека из Тралл (современный Айдын)[14]. Потомки их дочери некоторое время правили рядом восточных царств, а до IV века непрерывно управляли Боспорским царством.
Примерно после 55 года до н. э. Антоний вступил во второй брак. Его женой стала двоюродная сестра Антония Гибрида, дочь Гая Антония Гибриды. Между 54 и 49 годами до н. э. у них родилась дочь Антония. В 47 году до н. э. Марк развёлся с ней по обвинению в измене с Долабеллой (см. раздел «Управление Италией. Опала»). В 44 году до н. э. он договорился с Лепидом о браке своей дочери и его сына, когда они вырастут. Впрочем, в 34 году до н. э. Марк расторг помолвку с попавшим в опалу Лепидом и выдал дочь за Пифодора, богатого грека из Тралл (современный Айдын)[14]. Потомки их дочери некоторое время правили рядом восточных царств, а до IV века непрерывно управляли Боспорским царством.
В 47 году до н. э., вскоре после развода с Антонией, Марк женился на своей давней любовнице Фульвии. Её предыдущими мужьями были друзья Марка — Клодий и Курион[21]. У пары родилось двое детей — Марк Антоний Антилл и Юл Антоний[83]. Последний получил необычное для римлян имя в честь убитого Юлия Цезаря. Античные авторы характеризуют новую жену Марка как волевую честолюбивую женщину, которая манипулировала всеми своими мужьями[83].
 В 40 году до н. э. Фульвия, высланная из Италии после Перузинской войны, умерла в Сикионе в Пелопоннесе. Октавиан воспользовался этой ситуацией и скрепил новый договор с Антонией браком Марка на своей сестре[цитата 9]. Октавия родила Антонию двух дочерей. Большую часть времени Марк проводил не с ней (Октавия обычно оставалась в Риме, в то время как Антоний не появлялся в столице после 39 года до н. э.), а с Клеопатрой. Поэтому когда в конце 30-х годов до н. э. Гай попытался обвинить Марка ещё и в нарушении супружеских обетов, Октавия попросила брата не делать её пешкой в своей политической игре[240]. Впрочем, когда Антоний развёлся с ней, римляне, по словам Плутарха, недоумевали, ведь Клеопатра была «не красивее и не моложе Октавии»[266]. Греческий историк также сообщает, что египетская царица старалась всячески привязать к себе Антония и оклеветать Октавию[267].
В 40 году до н. э. Фульвия, высланная из Италии после Перузинской войны, умерла в Сикионе в Пелопоннесе. Октавиан воспользовался этой ситуацией и скрепил новый договор с Антонией браком Марка на своей сестре[цитата 9]. Октавия родила Антонию двух дочерей. Большую часть времени Марк проводил не с ней (Октавия обычно оставалась в Риме, в то время как Антоний не появлялся в столице после 39 года до н. э.), а с Клеопатрой. Поэтому когда в конце 30-х годов до н. э. Гай попытался обвинить Марка ещё и в нарушении супружеских обетов, Октавия попросила брата не делать её пешкой в своей политической игре[240]. Впрочем, когда Антоний развёлся с ней, римляне, по словам Плутарха, недоумевали, ведь Клеопатра была «не красивее и не моложе Октавии»[266]. Греческий историк также сообщает, что египетская царица старалась всячески привязать к себе Антония и оклеветать Октавию[267].
Всех выживших детей Антония после его самоубийства воспитала Октавия. Нескольких дочерей Антония она, пользуясь близостью к римскому императору, сумела выдать за видных сторонников Октавиана и правителей союзных царств. От брака Друза Старшего и Антонии Младшей родились Германик и Клавдий, ставший императором в 41 году. Среди детей Германика были император Калигула и Агриппина Младшая. Последняя вышла замуж за Гнея Домиция Агенобарба, сына Антонии Старшей. Вскоре Агриппина вышла замуж за Клавдия и вынудила его усыновить своего сына от первого брака. В 54 году её сын, известный как Нерон, стал римским императором[265].
Политические противники обвиняли Антония в гомосексуальном поведении по крайней мере в молодости. Главный источник по этому вопросу — Цицерон — во второй филиппике обвинил Антония в занятии проституцией, причём основным его клиентом оратор называл его друга Куриона, а самого Антония сравнил и с женщиной, и с «купленным для удовлетворения похоти» рабом[цитата 10]. При этом Цицерон порицает не сами гомосексуальные контакты, а пассивную роль в них. В римском представлении приемлемыми для мужчины считались любые действия в «проникающей» роли вне зависимости от пола партнёра. Напротив, пассивная роль мужчины считалась достойной порицания[268]. Плутарх замечает, что Антоний совершенно спокойно относился к любым намёкам о своей личной жизни[3], в отличие от Цезаря, приходившего в ярость от любого упоминания о своей связи с царём Никомедом. Впрочем, это были типичные уничижительные обвинения, которые теряли влияние ввиду их чрезмерного употребления Цицероном[269]. Они являются скорее результатом накопившегося гнева Цицерона, нежели словами, основанными на фактах. На неправдоподобность указывает и то, что они появились лишь спустя шестнадцать лет, именно в данной политической ситуации, и раньше не было даже никаких подозрений в таком поведении Антония; кроме того, эти слухи не подтверждаются иными источниками и не закрепились в римском обществе[270].
Антоний и Клеопатра
История отношений Антония и Клеопатры полна романтических подробностей, придуманных ещё в античную эпоху, однако в её основе лежат реальные события. Как замечает Эдриан Голдсуорси, в массовом сознании Клеопатра начала восприниматься как более важный персонаж по сравнению с реальностью, а Антоний, наоборот, скорее ушёл в тень, и его обычно вспоминают в связке с более известной царицей[271].
Клеопатра родила Антонию трёх детей — двойняшек Александра Гелиоса и Клеопатру Селену (Гелиос — древнегреческий бог Солнца, Селена — богиня Луны). Впоследствии у неё появился и третий ребёнок от Марка — Птолемей Филадельф[240]. После развода с Октавией в 32 году до н. э. Антоний узаконил свой брак с египетской царицей[235], хотя по римским представлениям он не считался полностью законным[коммент. 22].
Образ Антония в культуре, искусстве и историографии
Память об Антонии в императорскую эпоху
Варварской мощью силён и оружьем пёстрым Антоний,
Берега алой Зари и далёких племён победитель:
В битву привёл он Египет, Восток и от края вселенной
Бактров; с ним приплыла — о нечестье! — жена-египтянка.
<…>
Войску знак подаёт царица египетским систром
И за спиной у себя не видит змей ядовитых.
Чудища-боги идут и псоглавый Анубис с оружьем
Против Нептуна на бой и Венеры, против Минервы.
<…>
Сверху взирая на бой, Аполлон Актийский сгибает
Лук свой, и в страхе пред ним обращается в бегство Египет,
Следом инды бегут и арабы из Савского царства[272].
После самоубийства Антония Октавиан остался без политических противников и приложил много усилий для популяризации своего образа — «восстановителя республики». Со временем началась фактическая реабилитация многих оппонентов его приёмного отца и его собственных — Катона Младшего, Гнея Помпея, Цицерона, даже Брута. Однако Антоний по-прежнему оставался врагом, а все следы его пребывания стирались из информационного поля: его имя начали стирать из посвятительных и даже официальных надписей (в частности, из консульских фаст), все следы сделанных ранее почестей уничтожались, заложенный Клеопатрой храм в честь Антония после завершения перепосвятили Октавиану. Имя Антония ни разу не упоминалось в декрете о новых почестях Октавиану по случаю самоубийства Марка. День его рождения стал считаться официально проклятым, а всем мужчинам из рода Антониев законодательно запретили носить преномен — личное (первое) имя — Марк[273][274]. Об отношении простых римлян к поражению Антония известно немного. Записанная Макробием в «Сатурналиях» история позволяет говорить об их готовности к любому исходу кампании 31 года до н. э. По словам римского автора, после битвы при Акции люди, желавшие продемонстрировать своё преклонение перед победителем и надеявшиеся на щедрое вознаграждение, начали дарить ему птиц, повторявших заученные похвалы в честь Октавиана. Впрочем, выяснилось, что один из дарителей заранее подготовил и другую птицу — вместо «Да здравствует Цезарь, победитель, император!» она повторяла «Да здравствует победитель император Антоний!»[275]
Главные источники по биографии Антония написаны греками — Плутархом (его биография Антония — одна из самых крупных среди всех «Сравнительных жизнеописаний»; кроме того, немало ценных свидетельств содержат и биографии современников Антония), Аппианом (его «Гражданские войны» доведены до 35 года до н. э., а последующие книги не сохранились) и Дионом Кассием[276]. Современный биограф Антония Элеанор Хьюзар разделила литературные свидетельства об Антонии на три группы по политической позиции авторов — свидетельства в целом враждебных Марку республиканцев (правда, некоторые из них перешли на сторону Антония после битвы при Филиппах), информация, оставленная сторонниками Октавиана и свидетельства приверженцев Антония[277]. Среди свидетельств авторов-республиканцев наиболее важной является информация Цицерона. Очень ценным, несмотря на крайнюю предвзятость, источником являются четырнадцать сохранившихся «филиппик» против Антония. Сохранилось также два письма Антония к Цицерону (датируются 49 и 44 годами до н. э.) и одно письмо Цицерона к Антонию (44 год до н. э.). При этом переписка двух непримиримых врагов носит подчёркнуто вежливый характер[278]. Свидетельства авторов враждебной Антонию традиции сохранились эпизодически. В автобиографии Октавиан не называет Антония по имени, упоминая лишь об абстрактном противнике. Более полные мемуары Октавиана, развёрнуто выражавшие официальную точку зрения на события гражданских войн, дошли до наших дней лишь в незначительных фрагментах. В них будущий император изображается последовательным республиканцем. Многочисленные сочинения, восхвалявшие Октавиана, создавались талантливыми литераторами из ближайшего окружения императора[279]. Авторы эпохи Августа нередко концентрировали свою критику на Клеопатре, одновременно подчёркивая её огромное влияние на Антония[280]. В частности, Вергилий в Энеиде сравнивает битву при Акции с войной римских богов с чужеземными божествами[281] (см. врезку справа). Сторонников Антония известно немного. Ни одно из этих сочинений не сохранилось до наших дней, хотя некоторые из них читали в античную эпоху. По-видимому, большую часть литературы, симпатизировавшей Марку, целенаправленно уничтожали по приказанию Октавиана и Тиберия (в частности, были уничтожены сочинения Кассия Севера, Тита Лабиена, Тимагена Александрийского). Сохранились сочинения сторонников Антония, перешедших на сторону Октавиана, среди которых выделяется историк Гай Азиний Поллион. Хотя его сочинение не сохранилось, по отзывам древних авторов реконструируется враждебное отношение к Цицерону и нейтральное описание действий Антония. Впоследствии сочинение Поллиона служило важным источником для всех авторов, которые желали узнать точку зрения о событиях гражданских войн, отличную от официальной[282].
Что погубило Марка Антония, человека великого и с благородными задатками, что привело его к чужеземным нравам и неримским порокам, как не пьянство и не страсть к Клеопатре, не уступавшая страсти к вину? Оно и сделало его врагом государства, и притом слабейшим, чем его враги, оно и усугубило его жестокость, когда к нему за обедом приносили головы первых в Риме мужей, когда он среди изобилия яств, среди царской роскоши пытался узнавать лица и руки убитых по спискам, когда, напившись вином, он жаждал крови[283].
Сохранившиеся почти целиком сочинения Валерия Максима и Веллея Патеркула характеризуются следованием официальной точке зрения, демонизировавшей Антония и восхвалявшей Октавиана (в частности, Веллей Патеркул отрицал участие Октавиана в подготовке проскрипций, перелагая всю вину на Антония и Лепида[284]). Книги «Истории» Тита Ливия, описывающие события конца I века до н. э., сохранились лишь в кратких извлечениях, однако благодаря популярности сочинения известно немало подробностей о содержании утерянных книг. Ливий был известен сдержанным отношением к принципату, однако его похвалы удостоились не Антоний с Клеопатрой, а Помпей, Кассий и Брут. Его отношение к Марку Антонию было в целом враждебным — в этом вопросе он скорее присоединялся к придворной историографии[285]. Сохранились небольшие отрывки сочинения Рабирия, воспевавшего победу Октавиана над Антонием, а также фрагмент исторической поэмы Корнелия Севера, критиковавшей Антония за внесение в проскрипционный список Цицерона[286].
Императоры Калигула и Клавдий — потомки Антония — попытались смягчить образ Марка в глазах современников. Им не удалось восстановить репутацию своего предка в полной мере, и Сенека считал Антония образцом пьяницы у власти. После пресечения династии Юлиев-Клавдиев стало возможным свободное высказывание независимых мнений об Октавиане и Антонии. К этому времени относится, в частности, биография Антония авторства Плутарха — важнейший источник о жизни Марка. Помимо использования широко распространённых материалов, Плутарх применял сочинения благожелательно относящейся к Антонию греко-египетской традиции, а также опирался на сведения, которые рассказывали его дед и прадед. Греческий автор ставил целью раскрыть характер описываемых персонажей, и его оценка Антония была противоречивой. Он высоко оценивал щедрость Антония и его способности, позволившие ему возвыситься. Грек Плутарх также не понимает, почему Антония попрекали браком с Клеопатрой — одним из самых могущественных правителей своего времени. Одновременно он ставит Марку в вину намерение «поработить римский народ» и упоминает разгульный образ жизни, пренебрежение государственными и военными делами из-за Клеопатры[287][288]. Биограф Цезаря и Октавиана Светоний достаточно краток в освещении деятельности Антония, но его свидетельства особенно ценны использованием важных документов. Историки II века Аппиан и Дион Кассий опирались на богатую источниковую традицию и выработали независимые оценки. Для Аппиана, родом александрийца, Антоний не кажется враждебным; впрочем, в этом заслуга скорее Азиния Поллиона, которого он использовал в качестве основного источника. Дион Кассий критикует Марка, но не повторяет обвинения, сделанные ещё в правление Октавиана. Историк Флор, опиравшийся на Ливия, всецело поддерживает первого императора[289].
Средние века, Новое время, современность
 В Средние века об Антонии знали немного, поскольку его биография авторства Плутарха, а также сочинения Аппиана и Диона Кассия не были переведены на понятный в Западной Европе латинский язык. В частности, Данте не упоминает его в «Божественной комедии», хотя он знает и Брута с Кассием, и Клеопатру («грешную блудницу»). С переводом биографии Плутарха в середине XV века наблюдается всплеск интереса к этому герою. В конце XVI—XVII веках романтическую историю неоднократно адаптировали для сценических постановок. Среди самых известных драматических произведений с участием Антония — трагедия Робера Гарнье «Марк Антоний» (1578), трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра», героическая драма Джона Драйдена «Всё для любви» (1677). При этом они следовали античным источникам: в частности, Шекспир активно использовал биографию Плутарха[290].
В Средние века об Антонии знали немного, поскольку его биография авторства Плутарха, а также сочинения Аппиана и Диона Кассия не были переведены на понятный в Западной Европе латинский язык. В частности, Данте не упоминает его в «Божественной комедии», хотя он знает и Брута с Кассием, и Клеопатру («грешную блудницу»). С переводом биографии Плутарха в середине XV века наблюдается всплеск интереса к этому герою. В конце XVI—XVII веках романтическую историю неоднократно адаптировали для сценических постановок. Среди самых известных драматических произведений с участием Антония — трагедия Робера Гарнье «Марк Антоний» (1578), трагедии Уильяма Шекспира «Юлий Цезарь» и «Антоний и Клеопатра», героическая драма Джона Драйдена «Всё для любви» (1677). При этом они следовали античным источникам: в частности, Шекспир активно использовал биографию Плутарха[290].
В кино
Вскоре после изобретения кинематографа появились первые экранизации популярной любовной истории Антония и Клеопатры, причём в основе сценариев фильмов обычно лежала пьеса Шекспира «Антоний и Клеопатра». В 1912 году в США был снят кинофильм «Клеопатра» режиссёра Чарльза Гэскилла (в роли Марка Антония — Чарльз Синделар). В следующем году в Италии Энрико Гуаццони снял фильм «Марк Антоний и Клеопатра». Несмотря на классический сюжет, лента содержала немало аллюзий на недавно завершившуюся итало-турецкую войну за Ливию. В 1917 и 1934 годах в США было снято два одноимённых фильма «Клеопатра». Последний (один из ранних звуковых фильмов), поставленный режиссёром Сесилем де Миллем с Генри Вилкоксоном в роли Антония, перенёс на экран многие современные штампы об отношениях Марка с египетской царицей. С наступлением эпохи «пеплумов» после Второй мировой войны роль Антония нередко исполняли известные актёры: молодой Чарлтон Хестон сыграл в экранизации 1950 года другой пьесы Шекспира «Юлий Цезарь», в 1953 году роль Антония в фильме «Юлий Цезарь» Джозефа Манкевича исполнил Марлон Брандо, а Ричард Бёртон составил пару Элизабет Тейлор в «Клеопатре» 1963 года — самом высокобюджетном фильме своего времени. Последняя лента частично переосмыслила личность Антония: в ней Марк представлен неудачником, который постоянно пытается повторить путь Цезаря, но всюду терпит провал[291]. Провал «Клеопатры» в прокате обусловил длительное отсутствие новых фильмов с участием Антония. Лишь в 1999 году был снят телефильм «Клеопатра» с Билли Зейном в роли Антония, а в 2005—07 годах было снято два сезона телесериала «Рим», повествующего о событиях 50—30 годов до н. э. Роль Марка Антония, одну из важнейших в сериале, исполнил Джеймс Пьюрфой.
Напишите отзыв о статье "Марк Антоний"
Комментарии и цитаты
- Комментарии
- ↑ С точки зрения римского права, Клеопатра как чужеземка не обладала ius conubii — правом вступать в законный брак. В результате, её дети от Антония приравнивались к перегринам, которые не могли претендовать на наследство Марка — полноправного римского гражданина[1][2].
- ↑ Известна надпись ([dies vi]tiosus [ex s.]c. An(tonii) natal.), которая называет 19-й день до февральских календ (14 января по современному счёту) «испорченным днём» (dies vitiosus) согласно сенатусконсульту из-за совпадения со днём рождения Антония (в источниках проклятие его дня рождения засвидетельствовано; см. раздел «Память об Антонии в императорскую эпоху»)[9]. Косвенно это предположение подтверждается данными Светония, который пишет в биографии Клавдия: «Даже Марка Антония не обошёл он почётом и признательностью, упомянув однажды в эдикте, что день рождения отца своего Друза он тем более хочет отметить торжеством, оттого что это и день рождения деда его Антония»[10]. День рождения Друза по косвенным признакам датируется серединой марта — серединой апреля, и с учётом календарной реформы Цезаря 14 января по прежнему счёту попадает как раз на этот промежуток по новому счёту[11].
- ↑ Трибуны, в отличие от консулов и прочих магистратов, вступали в должность 10 декабря, а не 1 января.
- ↑ Личность народных трибунов на время действия их полномочий считалась неприкосновенной, а нападение на трибуна приравнивалось к святотатству.
- ↑ Полководец с проконсульскими полномочиями, вступавший после возвращения из провинции в священные границы Рима — померий — автоматически лишался полномочий.
- ↑ Впрочем, Цицерон утверждает, что Антоний заранее готовил новый брак со своей прежней любовницей Фульвией[80].
- ↑ В частности, Плутарх сообщает, что при возвращении из Испании в Италию он посадил его в колесницу возле себя, что считалось большой честью[86].
- ↑ В оригинале — ocularius medicus[115]. Впрочем, Н. А. Машкин цитирует Валерия Максима как equarius medicus, то есть «лошадиный врач», или ветеринар[116].
- ↑ Цезарь уже провёл одну реформу комплектования уголовных судов (quaestiones perpetuae), отменив третью декурию эрарных трибунов и оставив лишь две — сенаторов и всадников[120].
- ↑ С. Л. Утченко считает свидетельства о первом разговоре Антония с Октавием вымышленными[124].
- ↑ Впрочем, В. Г. Борухович полагает, что специальные почести сената фактически приравняли права Октавиана к консульским[148].
- ↑ В республиканскую эпоху «император» — титул победоносного полководца.
- ↑ В других источниках — tresviri[165].
- ↑ Плутарх сохранил бытовавшую в античности версию об убийстве Кассия его рабом Пиндаром без приказа самого полководца[178].
- ↑ Светоний пишет об участии Октавиана в первом сражении, но всё же отмечает, что он не отличился на поле боя: «он, несмотря на свою слабость и болезнь, окончил в два сражения и филиппийскую войну; при этом в первом сражении он был выбит из лагеря и едва спасся бегством на другое крыло к Антонию»[182].
- ↑ Плутарх пишет, будто сразу же после битвы «недуг [Октавиана] был настолько силён, что, казалось, дни его сочтены»[183].
- ↑ Впрочем, тело Брута обезглавил Октавиан и отправил голову в Рим, чтобы бросить её к ногам статуи Цезаря[182], но перевозивший голову корабль потерпел кораблекрушение.
- ↑ Различные античные источники расходятся в оценке численности легионов Антония — по разным версиям, их насчитывалось 13[206], 15[207] или 18[208]. 16 легионов — оценка Плутарха[209], наиболее подробно описывающего конфликт, а также Юстина и Флора[210].
- ↑ Дион Кассий сохранил свидетельство (правда, оно едва ли правдоподобно), будто армянский Артавазд изменил Антонию по указке Октавиана[217].
- ↑ А. Г. Бокщанин относит выступление Секста Помпея против Антония ко времени после экспедиции в Армению в следующем году[227].
- ↑ С точки зрения римского права, Клеопатра как чужеземка не обладала ius conubii — правом вступать в законный брак. В результате, её дети от Антония приравнивались к перегринам, которые не могли претендовать на наследство Марка — полноправного римского гражданина[1][2].
- ↑ С точки зрения римского права, Клеопатра как чужеземка не обладала ius conubii — правом вступать в законный брак. В результате, её дети от Антония приравнивались к перегринам, которые не могли претендовать на наследство Марка — полноправного римского гражданина[1][2].
- Цитаты
- ↑ (Cic. Phil. II, 21) Цицерон. Вторая филиппика, 21: «Публий Клодий был, как ты сказал, убит по моему наущению. А что подумали бы люди, если бы он был убит тогда, когда ты с мечом в руках преследовал его на форуме, на глазах у римского народа, и если бы ты довел дело до конца, не устремись он по ступеням книжной лавки и не останови он твоего нападения, загородив проход».
- ↑ (App. B. C. III, 3) Аппиан. Гражданские войны, III, 3: «Заняв форум, они с криками поносили Антония и требовали от магистратов, чтобы они вместо Амация посвятили алтарь [Цезарю] и первые принесли на нём жертву Цезарю. Теснимые солдатами, которых подослал Антоний на форум, они ещё больше возмущались, кричали и показывали те места, где некогда стояли статуи Цезаря, впоследствии убранные. Когда им кто-то обещал показать мастерскую, где эти статуи подвергались переделке, они сразу же последовали за ним, и, увидев мастерскую, подожгли её, пока Антоний не подослал ещё солдат. Одни, отбиваясь, были убиты, другие были схвачены и повешены, если это были рабы, и если свободные — были сброшены со скалы».
- ↑ (App. B. C. IV. 5) Аппиан. Гражданские войны, IV, 5: «На вас же [жителей Азии], чтобы вы не были выселены с вашей земли [подобно италикам], из городов, домов, храмов и могил, мы наложили взнос денег, не всех — этого вы и не могли бы выполнить, — но части их, притом самой незначительной; этим вы, я думаю, останетесь довольны. Того, что вы дали нашим врагам в два года, — а отдали вы им подать за десять лет, — будет нам достаточно, но получить мы это должны в течение одного года: этого требуют наши нужды».
- ↑ (Plut. Ant. 25-27) Плутарх. Антоний, 25-27: [Клеопатра] «…поплыла вверх по Кидну на ладье с вызолоченной кормою, пурпурными парусами и посеребрёнными вёслами, которые двигались под напев флейты, стройно сочетавшийся со свистом свирелей и бряцанием кифар… <…> Антоний принимал египтянку и приложил все усилия к тому, чтобы превзойти её роскошью и изысканностью, но, видя себя побеждённым и в том и в другом, первый принялся насмехаться над убожеством и отсутствием вкуса, царившими в его пиршественной зале. Угадавши в Антонии по его шуткам грубого и пошлого солдафона, Клеопатра и сама заговорила в подобном же тоне — смело и без всяких стеснений».
- ↑ (Plut. Ant. 29) Плутарх. Антоний, 29: «Вместе с ним она [Клеопатра] играла в кости, вместе пила, вместе охотилась, бывала в числе зрителей, когда он упражнялся с оружием, а по ночам, когда, в платье раба, он бродил и слонялся по городу, останавливаясь у дверей и окон домов и осыпая обычными своими шутками хозяев — людей простого звания, Клеопатра и тут была рядом с Антонием, одетая ему под стать. Нередко он и сам слышал в ответ злые насмешки и даже возвращался домой помятый кулаками александрийцев, хотя большинство и догадывалось, с кем имеет дело. Тем не менее шутовство Антония было по душе горожанам, они с охотою и со вкусом участвовали в этой игре и говорили, что для римлян он надевает трагическую маску, для них же — комическую»
- ↑ (Plut. Ant. 58) Плутарх. Антоний, 58: «[Октавиан] и пришёл, и забрал его [завещание], и сперва проглядел сам, помечая все места, доставлявшие очевидные поводы для обвинений, а затем огласил в заседании сената — при явном неодобрении большинства присутствовавших: им представлялось неслыханным беззаконием требовать ответа с живого за то, чему, в согласии с волею завещателя, надлежало свершиться после его смерти. С особою непримиримостью обрушивался Цезарь на распоряжения, касавшиеся похорон. Антоний завещал, чтобы его тело, если он умрёт в Риме, пронесли в погребальном шествии через форум, а затем отправили в Александрию, к Клеопатре».
- ↑ (Plut. Ant. 62) Плутарх. Антоний, 62: «А ведь он [Антоний] видел, что на судах не хватает людей и что начальники триер по всей и без того „многострадальной“ Греции ловят путников на дорогах, погонщиков ослов, жнецов, безусых мальчишек, но даже и так не могут восполнить недостачу…»
- ↑ (Cic. Phil. II.II.3) Цицерон. Вторая филиппика, II (3): «Но ты упомянул об этом, мне думается, для того, чтобы снискать расположение низшего сословия, так как все вольноотпущенники вспоминали, что ты был зятем, а твои дети — внуками вольноотпущенника Квинта Фадия».
- ↑ (Plut. Ant. 31) Плутарх. Антоний, 31: «…все хлопотали о браке Антония и Октавии в надежде, что эта женщина, сочетавшись с Антонием и приобретя ту любовь, какой не могла не вызвать её замечательная красота, соединившаяся с достоинством и умом, принесёт государству благоденствие и сплочение. Когда обе стороны изъявили своё согласие, все съехались в Риме и отпраздновали свадьбу, хотя закон и запрещал вдове вступать в новый брак раньше, чем по истечении десяти месяцев со дня смерти прежнего мужа; однако сенат особым постановлением сократил для Октавии этот срок».
- ↑ (Cic. Phil. II, XVIII, 44-45) Цицерон. Вторая филиппика, XVIII, 44-45: «Потом ты [Антоний] надел мужскую тогу, которую ты тотчас же сменил на женскую. Сначала ты был шлюхой, доступной всем; плата за позор была определённой и не малой, но вскоре вмешался Курион, который отвлёк тебя от ремесла шлюхи и — словно надел на тебя столу [женскую одежду] — вступил с тобой в постоянный и прочный брак. Ни один мальчик, когда бы то ни было купленный для удовлетворения похоти, в такой степени не был во власти своего господина, в какой ты был во власти Куриона. Сколько раз его отец выталкивал тебя из своего дома! Сколько раз ставил он сторожей, чтобы ты не мог переступить его порога, когда ты всё же, под покровом ночи, повинуясь голосу похоти, привлечённый платой, спускался через крышу».
Примечания
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 208.
- ↑ 1 2 3 Crook J. A Legal Point about Mark Antony's Will // The Journal of Roman Studies. — 1957. Vol. 47, № 1/2. — P. 36.
- ↑ 1 2 3 4 5 (Plut. Ant. 4) Плутарх. Антоний, 4.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 14.
- ↑ 1 2 3 4 Goldsworthy A. Chapter IV. The Orator, the Spendthrift and the Pirates // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 52–66.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 12.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 22.
- ↑ (Plut. Ant. 86) Плутарх. Антоний, 86.
- ↑ Documents illustrating the reigns of Augustus & Tiberius. — Oxford: Clardendon Press, 1976. — P. 45.
- ↑ (Suet. Div. Claud. 11) Светоний. Божественный Клавдий, 11.
- ↑ Sutonius. Divus Claudius. Ed. by D. W. Hurley. — Cambridge University Press, 2001. — P. 106.
- ↑ (Cic. Phil. II.XVIII.46) Цицерон. Вторая филиппика, XVIII (46).
- ↑ 1 2 3 Goldsworthy A. Chapter VI. Adolescent // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 81–96.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 25.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 15-16.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 17-19.
- ↑ 1 2 3 (Plut. Ant. 2) Плутарх. Антоний, 2.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 19–20.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 20.
- ↑ (Cic. Phil. II, XVIII, 45-46) Цицерон. Вторая филиппика, XVIII, 45-46.
- ↑ 1 2 3 4 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 26.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 24.
- ↑ (Cic. Phil. II, XVIII, 44) Цицерон. Вторая филиппика, XVIII, 44.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 Goldsworthy A. Chapter VII. The Return of the King // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 96—105.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 27.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 28.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 29-31.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 31.
- ↑ (Plut. Ant. 3) Плутарх. Антоний, 3.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 32.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 32–33.
- ↑ 1 2 3 4 5 Goldsworthy A. Chapter VIII. Candidate // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 105—116.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 35.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 36.
- ↑ (Cic. Phil. II, 49) Цицерон. Вторая филиппика, 49.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 37–38.
- ↑ Linderski J., Kaminska-Linderski A. The Quaestorship of Marcus Antonius // Phoenix. — 1974. — Vol. 28, № 2. — P. 223.
- ↑ (Caes. B. G. VII, 81) Цезарь. Записки о Галльской войне, VII, 81.
- ↑ (Ps-Caes./Hirt. B. G. VIII, 2) Гирций (Псевдо-Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 2.
- ↑ (Ps-Caes./Hirt. B. G. VIII, 24) Гирций (Псевдо-Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 24.
- ↑ (Ps-Caes./Hirt. B. G. VIII, 38) Гирций (Псевдо-Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 38.
- ↑ (Ps-Caes./Hirt. B. G. VIII, 46-47) Гирций (Псевдо-Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 46-47.
- ↑ (Ps-Caes./Hirt. B. G. VIII, 48) Гирций (Псевдо-Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 48.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 42–45.
- ↑ 1 2 3 4 Goldsworthy A. Chapter X. Tribune // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 130—143.
- ↑ (Ps-Caes./Hirt. B. G. VIII, 50) Гирций (Псевдо-Цезарь). Записки о Галльской войне, VIII, 50.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 47–48.
- ↑ Wiseman T. P. Caesar, Pompey and Rome // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 422.
- ↑ (Att., VII, 8, 5) Цицерон. Письма к Аттику, VII, 8, 5.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 48–49.
- ↑ Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 260.
- ↑ (Caes. B.C. I, 11) Цезарь. Записки о Гражданской войне, I, 11.
- ↑ 1 2 Rawson E. Caesar: Civil War and Dictatorship // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 424.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 50.
- ↑ (Caes. B.C. I, 18) Цезарь. Записки о Гражданской войне, I, 18.
- ↑ Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 258.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 52.
- ↑ 1 2 Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 221.
- ↑ Rawson E. Caesar: Civil War and Dictatorship // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 431.
- ↑ Rawson E. Caesar: Civil War and Dictatorship // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 430.
- ↑ 1 2 3 4 5 Goldsworthy A. Chapter XII. Civil War // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 152—167.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 54.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 53.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 55-56.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 57-58.
- ↑ (Caes. B.C. III, 24) Цезарь. Записки о Гражданской войне, III, 24.
- ↑ (Caes. B.C. III, 29) Цезарь. Записки о Гражданской войне, III, 29.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 59.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 232.
- ↑ (Caes. B.C. III, 30) Цезарь. Записки о Гражданской войне, III, 30.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 60.
- ↑ (Caes. B.C. III, 45-46) Цезарь. Записки о Гражданской войне, III, 45-46.
- ↑ (Caes. B.C. III, 65) Цезарь. Записки о Гражданской войне, III, 65.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 238.
- ↑ 1 2 Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 272.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 64-65.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 65-67.
- ↑ 1 2 (Plut. Ant. 9) Плутарх. Антоний, 9.
- ↑ Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 287.
- ↑ (Cic. Phil. II. XXXVIII.99) Цицерон. Вторая филиппика, XXXVIII, 99.
- ↑ Rawson E. Caesar: Civil War and Dictatorship // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 435.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 68.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 70.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 71-72.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 257.
- ↑ 1 2 (Plut. Ant. 12) Плутарх. Антоний, 12.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 74.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 76-78.
- ↑ Rawson E. Caesar: Civil War and Dictatorship // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 462—464.
- ↑ (Cic. Phil. II, XLIII, 110) Цицерон. Вторая филиппика, XLIII, 110.
- ↑ Ross Taylor L. The Divinity of the Roman Emperor. — Philadelphia: Porcupine Press, 1975. — P. 68.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 79-80.
- ↑ (Plut. Brut. 18) Плутарх. Брут, 18.
- ↑ Billows R. Julius Caesar: The Colossus of Rome. — London; New York: Routledge, 2009. — P. 248.
- ↑ (Plut. Brut. 17) Плутарх. Брут, 17.
- ↑ Утченко С. Л. Юлий Цезарь. — М.: Мысль, 1976. — С. 331.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 81.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 82.
- ↑ Chilver G. E. F. The Aftermath of Caesar // Greece & Rome. Second Series. — 1957. — Vol. 4, № 1. — P. 71.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 82-83.
- ↑ (Plut. Cic. 42) Плутарх. Цицерон, 42.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 469—470.
- ↑ 1 2 Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 125.
- ↑ Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побеждённые. — СПб.: СПбГУ, 2006. — С. 258.
- ↑ 1 2 (Plut. Brut. 19) Плутарх. Брут, 19.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 84.
- ↑ 1 2 3 (Plut. Brut. 20) Плутарх. Брут, 20.
- ↑ Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побеждённые. — СПб.: СПбГУ, 2006. — С. 261.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 130.
- ↑ (Plut. Ant. 14) Плутарх. Антоний, 14.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 85.
- ↑ Syme R. The Roman Revolution. — Oxford: Clarendon Press, 1939. — P. 98.
- ↑ 1 2 3 Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 471.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 136.
- ↑ (Val. Max. 9.15.1) Facta et Dicta Memorabilia, IX, 15, 1.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 126.
- ↑ (App. B. C. III, 2) Аппиан. Гражданские войны, III, 2.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 126—127.
- ↑ 1 2 Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побеждённые. — СПб.: СПбГУ, 2006. — С. 259-261.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 476.
- ↑ Ramsey J. Mark Antony's Judiciary Reform and Its Revival under the Triumvirs // The Journal of Roman Studies. — 2005. Vol. 95. — P. 20.
- ↑ Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 319.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 472.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 309.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 473.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 310.
- ↑ Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побеждённые. — СПб.: СПбГУ, 2006. — С. 263.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 136.
- ↑ (Plut. Cic. 44) Плутарх. Цицерон, 44.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 338—339.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 474.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 137.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 133.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 145.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 475.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 140.
- ↑ 1 2 (Plut. Cic. 43) Плутарх. Цицерон, 43.
- ↑ Rawson E. The aftermath of the Ides // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume IX: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. — Cambridge: Cambridge University Press, 1992. — P. 477.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 336.
- ↑ 1 2 3 4 Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 148—150.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 100.
- ↑ (App. B. C. III, 43) Аппиан. Гражданские войны, III, 43.
- ↑ (App. B. C. III, 48) Аппиан. Гражданские войны, III, 48.
- ↑ Парфёнов В. Н. Начало военно-политической карьеры Октавиана // Античный мир и археология. — Вып. 4. — Саратов, 1979. — С. 110.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 101—102.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 341—342.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 140.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 140—141.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 104—105.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 106.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 103.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 107.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 107—108.
- ↑ (App. B. C. III, 66) Аппиан. Гражданские войны, III, 66.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 108—109.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 110.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 112—113.
- ↑ (Plut. Cic. 45) Плутарх. Цицерон, 45.
- ↑ Шифман И. Ш. Цезарь Август. — Л.: Наука, 1990. — С. 54.
- ↑ Шифман И. Ш. Цезарь Август. — Л.: Наука, 1990. — С. 55-56.
- ↑ 1 2 (App. B. C. III, 80) Аппиан. Гражданские войны, III, 80.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 111—112.
- ↑ Парфёнов В. Н. Начало военно-политической карьеры Октавиана // Античный мир и археология. — Вып. 4. — Саратов, 1979. — С. 120.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 112—114.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 147.
- ↑ 1 2 Шифман И. Ш. Цезарь Август. — Л.: Наука, 1990. — С. 60-61.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 117.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 117—118.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 118—121.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 350—351.
- ↑ (Plut. Cic. 48) Плутарх. Цицерон, 48.
- ↑ Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — С. 352.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 121—125.
- ↑ (Plut. Brut. 38) Плутарх. Брут, 38.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 126.
- ↑ 1 2 (App. B. C. IV. 112) Аппиан. Гражданские войны, IV, 112.
- ↑ 1 2 Pelling C. The triumviral period // Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 8.
- ↑ 1 2 (Plut. Brut. 43) Плутарх. Брут, 43.
- ↑ (App. B. C. IV. 115—116) Аппиан. Гражданские войны, IV, 115—116.
- ↑ (Plut. Brut. 47) Плутарх. Брут, 47.
- ↑ (App. B. C. IV. 124) Аппиан. Гражданские войны, IV, 124.
- ↑ 1 2 (Suet. Aug. 13) Светоний. Божественный Август, 13.
- ↑ (Plut. Ant. 23) Плутарх. Антоний, 23.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 127.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 129—130.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 10.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 11.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 161—162.
- ↑ (App. B. C. IV. 5) Аппиан. Гражданские войны, IV, 5.
- ↑ 1 2 Борухович В. Г. Последний период гражданских войн (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 6. — Саратов, 1986. — С. 115—120.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 131—133.
- ↑ (App. B. C. IV. 30) Аппиан. Гражданские войны, IV, 30.
- ↑ 1 2 3 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 133—135.
- ↑ 1 2 (Plut. Ant. 28) Плутарх. Антоний, 28.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 108.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 111.
- ↑ 1 2 Шифман И. Ш. Цезарь Август. — Л.: Наука, 1990. — С. 72—74.
- ↑ 1 2 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 17—20.
- ↑ 1 2 Шифман И. Ш. Цезарь Август. — Л.: Наука, 1990. — С. 74—75.
- ↑ 1 2 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 20—21.
- ↑ (App. B. C. V. 73) Аппиан. Гражданские войны, V, 73.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 21—24.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 115—116.
- ↑ 1 2 3 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 25-26.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 142—143.
- ↑ (Vell. Pat. II. 82) Веллей Патеркул. Римская история, II, 82.
- ↑ (Aur. Vict. De vir. ill. 85.4) Аврелий Виктор. О знаменитых мужах, 85.
- ↑ (Liv. Ep. CXXX) Тит Ливий. Эпитомы, 130.
- ↑ 1 2 (Plut. Ant. 37) Плутарх. Антоний, 37.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 120.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 176.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 117—118.
- ↑ (Suet. Iul. 44) Светоний. Божественный Юлий, 44.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 119.
- ↑ 1 2 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 31-32.
- ↑ Циркин Ю. Б. Гражданские войны в Риме. Побеждённые. — СПб.: СПбГУ, 2006. — С. 285.
- ↑ (Dio Cass. xlix.14.6) Дион Кассий. Римская история, XLIX, 14.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 33-34.
- ↑ Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Часть 2: Система политического дуализма в Передней Азии. — М.: МГУ, 1966. — С. 108—116.
- ↑ (Plut. Ant. 37-51) Плутарх. Антоний, 37-51.
- ↑ Дибвойз Н. Политическая история Парфии. — СПб.: СПбГУ, 2008. — С. 120—124.
- ↑ (Vell. Pat. II.82)
- ↑ (Plut. Ant. 50-51) Плутарх. Антоний, 50-51.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 145.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 37-38.
- ↑ (App. B. C. V, 133—143) Аппиан. Гражданские войны, V, 133—143.
- ↑ Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Часть 2: Система политического дуализма в Передней Азии. — М.: МГУ, 1966. — С. 119—121.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 180—182.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 38-40.
- ↑ Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Часть 2: Система политического дуализма в Передней Азии. — М.: МГУ, 1966. — С. 120—121.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 35-36.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 200.
- ↑ (Plut. Ant. 58) Плутарх. Антоний, 58.
- ↑ (Vell. Pat. II. 83) Веллей Патеркул. Римская история, II, 83.
- ↑ 1 2 Борухович В. Г. Последний период гражданских войн (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 6. — Саратов, 1986. — С. 128—130.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 42-44.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 186.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 154.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 195—196.
- ↑ 1 2 3 (Plut. Ant. 54) Плутарх. Антоний, 54.
- ↑ (Dio Cass. XLIX, 44) Дион Кассий. Римская история, XLIX, 44.
- ↑ Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Часть 2: Система политического дуализма в Передней Азии. — М.: МГУ, 1966. — С. 121.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 201—205.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 209—211.
- ↑ Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. — Vol. II. — N. Y.: American Philological Association, 1952. — P. 417—418.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 206—208.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 52.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 209.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 55.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 203.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 213.
- ↑ 1 2 Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 214.
- ↑ 1 2 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 48-52.
- ↑ (Plut. Ant. 62) Плутарх. Антоний, 62.
- ↑ 1 2 3 Goldsworthy A. Chapter XXVIII: War // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 349—356.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 54-55.
- ↑ 1 2 Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 56—59.
- ↑ (Plut. Ant. 66) Плутарх. Антоний, 66.
- ↑ Cambridge Ancient History. — 2nd ed. — Volume X: The Augustan Empire, 43 BC – AD 69. — Cambridge: Cambridge University Press, 1996. — P. 63.
- ↑ 1 2 (Plut. Ant. 74—77) Плутарх. Антоний, 74—77.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 226.
- ↑ (Dio Cass. LI, 15) Дион Кассий. Римская история, LI, 15.
- ↑ [www.bbc.co.uk/russian/science/2009/04/090416_cleopatra_grave.shtml Раскопки помогут найти могилу Клеопатры]. BBC (16 апреля 2009). Проверено 11 сентября 2014.
- ↑ Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Вып. 5. — Саратов, 1983. — С. 127.
- ↑ 1 2 (Plut. Ant. 87) Плутарх. Антоний, 87.
- ↑ (Plut. Ant. 57) Плутарх. Антоний, 57.
- ↑ (Plut. Ant. 53) Плутарх. Антоний, 53.
- ↑ Williams C. A. Roman Homosexuality. — Second Edition. — Oxfrod University Press, 2010. — P. 247.
- ↑ Southern P. Antony and Cleopatra. — Amberley Publishing Limited, 2009. — P. 22.
- ↑ De Ruggiero P. Mark Antony: A Plain Blunt Man. — Pen and Sword, 2014. — P. 35.
- ↑ Goldsworthy A. Conclusion: History and the Great Romance // Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — P. 386—396.
- ↑ (Verg. Aen. 685—706)
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 228; P. 237.
- ↑ (Dio Cass. LI, 19) Дион Кассий. Римская история, LI, 19.
- ↑ Макробий. Сатурналии, II, 29-30.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 248—252.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 238.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 1. — М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2003. — С. 565.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 242.
- ↑ Чиглинцев Е. А. Рецепция античности в культуре конца XIX — начала XXI вв. — Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2009. — С. 220—221.
- ↑ Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — С. 572.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 242—245.
- ↑ Сенека. Нравственные письма к Луцилию, LXXXIII, 25.
- ↑ Альбрехт М. История римской литературы. Т. 2. — М.: Греко-латинский кабинет, 2004. — С.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 244—245.
- ↑ История римской литературы. — Под ред. С. И. Соболевского, М. Е. Грабарь-Пассек, Ф. А. Петровского. — Т. 1. — М.: Изд-во АН СССР, 1959. — С. 464—465.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 245—247.
- ↑ (Plut. Comp. Ant. 1-6 = Plut. Ant. 88-93) Плутарх. Сопоставление Деметрия и Антония, 1-6 (88-93).
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 248—250.
- ↑ Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — P. 246.
- ↑ Чиглинцев Е. А. Рецепция античности в культуре конца XIX — начала XXI вв. — Казань: Издательство Казанского государственного университета, 2009. — С. 233—236.
Литература
- Белкин М. В. [centant.pu.ru/centrum/publik/kafsbor/mnemon/2002/belkin1.htm Цицерон и Марк Антоний: истоки конфликта] // Исследования и публикации по истории античного мира / Под ред. Э. Д. Фролова. — СПб., 2002. — С. 133—162.
- Борухович В. Г. После мартовских ид 44 г. до н. э. (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Саратов, 1983. — Вып. 5. — С. 24—35.
- Борухович В. Г. Последний период гражданских войн (исторический очерк) // Античный мир и археология. — Саратов, 1986. — Вып. 6. — С. 115—134.
- Машкин Н. А. Принципат Августа. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. — 608 с.
- Смыков Е. В. Марк Антоний и политика clementia Caesaris // Античный мир и археология. — Саратов, 1990. — Вып. 7. — С. 56—65.
- Смыков Е. В. Парфянский поход Марка Антония // Проблемы отечественной и всеобщей истории. — Саратов, 1987. — С. 111—120.
- Утченко С. Л. Цицерон и его время. — М.: Мысль, 1972. — 370 с.
- Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. 2. — New York: American Philological Association, 1952. — 649 p.
- Charlesworth M. P. Some Fragments of the Propaganda of Mark Anthony // The Classical Quarterly. — 1933. Vol. 27, № 3/4 . — P. 172—177.
- Crook J. A Legal Point about Mark Antony’s Will // The Journal of Roman Studies. — 1957. — Vol. 47, № 1/2 . — P. 36—38.
- Crook J. A Negative Point about Mark Antony’s Will // L’Aniquité Classique. — 1989. — Т. 58. — P. 221—223.
- De Ruggiero P. Mark Antony: A Plain Blunt Man. — Pen and Sword, 2014. — 300 p.
- Goldsworthy A. Antony and Cleopatra. — New Haven; London: Yale University Press, 2010. — 470 p p. — ISBN 978-0-300-16534-0.
- Greuel M. Coin with Portraits of Cleopatra and Mark Anony // Art Institute of Chicago Museum Studies. — 2009. — Vol. 35, № 2. — P. 34—35.
- Gruen E. The Last Generation of the Roman Republic. — Berkeley: University of California Press, 1975. — 596 p. — ISBN 0-520-20153-1.
- Huzar E. Mark Antony: A Biography. — Minneapolis: University of Minnesota Press, 1978. — 350 p. — ISBN 0-8166-0863-6.
- Huzar E. Mark Anthony: Marriages vs. Careers // The Classical Journal. — 1985/1986.. — Vol. 81, № 2. — P. 97—111.
- Johnson J. R. The Authenticity and Validity of Antony’s Will // L’Aniquité Classique. — 1978. — Т. 47, Fasc. 2. — P. 494—503.
- Lange C. H. The Battle of Actium: a Reconsideration // The Classical Quarterly. New Series. — 2011, December. — Vol. 61, № 2. — P. 608—623.
- Lindsay J. Marc Antony, His World and His Contemporaries. — London: George Routledge, 1936. — 329 p.
- Ramsey J. Did Mark Antony Contemplate an Alliance with His Political Enemies in July 44 BCE? // Classical Philology. — 2001. — Vol. 96, № 3. — P. 253—268.
- Ramsey J. Mark Antony’s Judiciary Reform and Its Revival under the Triumvirs // The Journal of Roman Studies. — 2005. — Vol. 95. — P. 20—37.
- Ramsey J. The Senate, Mark Antony, and Caesar’s Legislative Legacy // The Classical Quarterly. — 1994. — Vol. 44, № 1. — P. 130—145.
- Scott K. The Political Propaganda of 44-30 BC // Memoirs of the American Academy in Rome. — 1933. — Vol. 11. — P. 7—49.
- Southern P. Antony and Cleopatra. — Amberley Publishing Limited, 2009. — 189 p.
- Southern P. Mark Antony: A Life. — Amberley Publishing Limited, 2012. — 288 p. — ISBN 1445609266.
- Syme R. The Roman Revolution. — Oxford: Clarendon Press, 1939. — 590 p.
- Tarn W. W., Charlesworth M. P. Octavian, Antony and Cleopatra. — Cambridge: Cambridge University Press, 1965. — 168 p.
- Weigall A. The Life and Times of Marc Anthony. — New York: G.P. Putnam & Sons, 1931. — 475 p.
- Антоний, Марк // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
| ||||||
| ||||||||||||||
| Эта статья входит в число избранных статей русскоязычного раздела Википедии. |
Отрывок, характеризующий Марк Антоний
В отношении административном, Москве дарована конституция, учрежден муниципалитет и обнародовано следующее:«Жители Москвы!
Несчастия ваши жестоки, но его величество император и король хочет прекратить течение оных. Страшные примеры вас научили, каким образом он наказывает непослушание и преступление. Строгие меры взяты, чтобы прекратить беспорядок и возвратить общую безопасность. Отеческая администрация, избранная из самих вас, составлять будет ваш муниципалитет или градское правление. Оное будет пещись об вас, об ваших нуждах, об вашей пользе. Члены оного отличаются красною лентою, которую будут носить через плечо, а градской голова будет иметь сверх оного белый пояс. Но, исключая время должности их, они будут иметь только красную ленту вокруг левой руки.
Городовая полиция учреждена по прежнему положению, а чрез ее деятельность уже лучший существует порядок. Правительство назначило двух генеральных комиссаров, или полицмейстеров, и двадцать комиссаров, или частных приставов, поставленных во всех частях города. Вы их узнаете по белой ленте, которую будут они носить вокруг левой руки. Некоторые церкви разного исповедания открыты, и в них беспрепятственно отправляется божественная служба. Ваши сограждане возвращаются ежедневно в свои жилища, и даны приказы, чтобы они в них находили помощь и покровительство, следуемые несчастию. Сии суть средства, которые правительство употребило, чтобы возвратить порядок и облегчить ваше положение; но, чтобы достигнуть до того, нужно, чтобы вы с ним соединили ваши старания, чтобы забыли, если можно, ваши несчастия, которые претерпели, предались надежде не столь жестокой судьбы, были уверены, что неизбежимая и постыдная смерть ожидает тех, кои дерзнут на ваши особы и оставшиеся ваши имущества, а напоследок и не сомневались, что оные будут сохранены, ибо такая есть воля величайшего и справедливейшего из всех монархов. Солдаты и жители, какой бы вы нации ни были! Восстановите публичное доверие, источник счастия государства, живите, как братья, дайте взаимно друг другу помощь и покровительство, соединитесь, чтоб опровергнуть намерения зломыслящих, повинуйтесь воинским и гражданским начальствам, и скоро ваши слезы течь перестанут».
В отношении продовольствия войска, Наполеон предписал всем войскам поочередно ходить в Москву a la maraude [мародерствовать] для заготовления себе провианта, так, чтобы таким образом армия была обеспечена на будущее время.
В отношении религиозном, Наполеон приказал ramener les popes [привести назад попов] и возобновить служение в церквах.
В торговом отношении и для продовольствия армии было развешено везде следующее:
Провозглашение
«Вы, спокойные московские жители, мастеровые и рабочие люди, которых несчастия удалили из города, и вы, рассеянные земледельцы, которых неосновательный страх еще задерживает в полях, слушайте! Тишина возвращается в сию столицу, и порядок в ней восстановляется. Ваши земляки выходят смело из своих убежищ, видя, что их уважают. Всякое насильствие, учиненное против их и их собственности, немедленно наказывается. Его величество император и король их покровительствует и между вами никого не почитает за своих неприятелей, кроме тех, кои ослушиваются его повелениям. Он хочет прекратить ваши несчастия и возвратить вас вашим дворам и вашим семействам. Соответствуйте ж его благотворительным намерениям и приходите к нам без всякой опасности. Жители! Возвращайтесь с доверием в ваши жилища: вы скоро найдете способы удовлетворить вашим нуждам! Ремесленники и трудолюбивые мастеровые! Приходите обратно к вашим рукодельям: домы, лавки, охранительные караулы вас ожидают, а за вашу работу получите должную вам плату! И вы, наконец, крестьяне, выходите из лесов, где от ужаса скрылись, возвращайтесь без страха в ваши избы, в точном уверении, что найдете защищение. Лабазы учреждены в городе, куда крестьяне могут привозить излишние свои запасы и земельные растения. Правительство приняло следующие меры, чтоб обеспечить им свободную продажу: 1) Считая от сего числа, крестьяне, земледельцы и живущие в окрестностях Москвы могут без всякой опасности привозить в город свои припасы, какого бы роду ни были, в двух назначенных лабазах, то есть на Моховую и в Охотный ряд. 2) Оные продовольствия будут покупаться у них по такой цене, на какую покупатель и продавец согласятся между собою; но если продавец не получит требуемую им справедливую цену, то волен будет повезти их обратно в свою деревню, в чем никто ему ни под каким видом препятствовать не может. 3) Каждое воскресенье и середа назначены еженедельно для больших торговых дней; почему достаточное число войск будет расставлено по вторникам и субботам на всех больших дорогах, в таком расстоянии от города, чтоб защищать те обозы. 4) Таковые ж меры будут взяты, чтоб на возвратном пути крестьянам с их повозками и лошадьми не последовало препятствия. 5) Немедленно средства употреблены будут для восстановления обыкновенных торгов. Жители города и деревень, и вы, работники и мастеровые, какой бы вы нации ни были! Вас взывают исполнять отеческие намерения его величества императора и короля и способствовать с ним к общему благополучию. Несите к его стопам почтение и доверие и не медлите соединиться с нами!»
В отношении поднятия духа войска и народа, беспрестанно делались смотры, раздавались награды. Император разъезжал верхом по улицам и утешал жителей; и, несмотря на всю озабоченность государственными делами, сам посетил учрежденные по его приказанию театры.
В отношении благотворительности, лучшей доблести венценосцев, Наполеон делал тоже все, что от него зависело. На богоугодных заведениях он велел надписать Maison de ma mere [Дом моей матери], соединяя этим актом нежное сыновнее чувство с величием добродетели монарха. Он посетил Воспитательный дом и, дав облобызать свои белые руки спасенным им сиротам, милостиво беседовал с Тутолминым. Потом, по красноречивому изложению Тьера, он велел раздать жалованье своим войскам русскими, сделанными им, фальшивыми деньгами. Relevant l'emploi de ces moyens par un acte digue de lui et de l'armee Francaise, il fit distribuer des secours aux incendies. Mais les vivres etant trop precieux pour etre donnes a des etrangers la plupart ennemis, Napoleon aima mieux leur fournir de l'argent afin qu'ils se fournissent au dehors, et il leur fit distribuer des roubles papiers. [Возвышая употребление этих мер действием, достойным его и французской армии, он приказал раздать пособия погоревшим. Но, так как съестные припасы были слишком дороги для того, чтобы давать их людям чужой земли и по большей части враждебно расположенным, Наполеон счел лучшим дать им денег, чтобы они добывали себе продовольствие на стороне; и он приказал оделять их бумажными рублями.]
В отношении дисциплины армии, беспрестанно выдавались приказы о строгих взысканиях за неисполнение долга службы и о прекращении грабежа.
Х
Но странное дело, все эти распоряжения, заботы и планы, бывшие вовсе не хуже других, издаваемых в подобных же случаях, не затрогивали сущности дела, а, как стрелки циферблата в часах, отделенного от механизма, вертелись произвольно и бесцельно, не захватывая колес.
В военном отношении, гениальный план кампании, про который Тьер говорит; que son genie n'avait jamais rien imagine de plus profond, de plus habile et de plus admirable [гений его никогда не изобретал ничего более глубокого, более искусного и более удивительного] и относительно которого Тьер, вступая в полемику с г м Феном, доказывает, что составление этого гениального плана должно быть отнесено не к 4 му, а к 15 му октября, план этот никогда не был и не мог быть исполнен, потому что ничего не имел близкого к действительности. Укрепление Кремля, для которого надо было срыть la Mosquee [мечеть] (так Наполеон назвал церковь Василия Блаженного), оказалось совершенно бесполезным. Подведение мин под Кремлем только содействовало исполнению желания императора при выходе из Москвы, чтобы Кремль был взорван, то есть чтобы был побит тот пол, о который убился ребенок. Преследование русской армии, которое так озабочивало Наполеона, представило неслыханное явление. Французские военачальники потеряли шестидесятитысячную русскую армию, и только, по словам Тьера, искусству и, кажется, тоже гениальности Мюрата удалось найти, как булавку, эту шестидесятитысячную русскую армию.
В дипломатическом отношении, все доводы Наполеона о своем великодушии и справедливости, и перед Тутолминым, и перед Яковлевым, озабоченным преимущественно приобретением шинели и повозки, оказались бесполезны: Александр не принял этих послов и не отвечал на их посольство.
В отношении юридическом, после казни мнимых поджигателей сгорела другая половина Москвы.
В отношении административном, учреждение муниципалитета не остановило грабежа и принесло только пользу некоторым лицам, участвовавшим в этом муниципалитете и, под предлогом соблюдения порядка, грабившим Москву или сохранявшим свое от грабежа.
В отношении религиозном, так легко устроенное в Египте дело посредством посещения мечети, здесь не принесло никаких результатов. Два или три священника, найденные в Москве, попробовали исполнить волю Наполеона, но одного из них по щекам прибил французский солдат во время службы, а про другого доносил следующее французский чиновник: «Le pretre, que j'avais decouvert et invite a recommencer a dire la messe, a nettoye et ferme l'eglise. Cette nuit on est venu de nouveau enfoncer les portes, casser les cadenas, dechirer les livres et commettre d'autres desordres». [«Священник, которого я нашел и пригласил начать служить обедню, вычистил и запер церковь. В ту же ночь пришли опять ломать двери и замки, рвать книги и производить другие беспорядки».]
В торговом отношении, на провозглашение трудолюбивым ремесленникам и всем крестьянам не последовало никакого ответа. Трудолюбивых ремесленников не было, а крестьяне ловили тех комиссаров, которые слишком далеко заезжали с этим провозглашением, и убивали их.
В отношении увеселений народа и войска театрами, дело точно так же не удалось. Учрежденные в Кремле и в доме Познякова театры тотчас же закрылись, потому что ограбили актрис и актеров.
Благотворительность и та не принесла желаемых результатов. Фальшивые ассигнации и нефальшивые наполняли Москву и не имели цены. Для французов, собиравших добычу, нужно было только золото. Не только фальшивые ассигнации, которые Наполеон так милостиво раздавал несчастным, не имели цены, но серебро отдавалось ниже своей стоимости за золото.
Но самое поразительное явление недействительности высших распоряжений в то время было старание Наполеона остановить грабежи и восстановить дисциплину.
Вот что доносили чины армии.
«Грабежи продолжаются в городе, несмотря на повеление прекратить их. Порядок еще не восстановлен, и нет ни одного купца, отправляющего торговлю законным образом. Только маркитанты позволяют себе продавать, да и то награбленные вещи».
«La partie de mon arrondissement continue a etre en proie au pillage des soldats du 3 corps, qui, non contents d'arracher aux malheureux refugies dans des souterrains le peu qui leur reste, ont meme la ferocite de les blesser a coups de sabre, comme j'en ai vu plusieurs exemples».
«Rien de nouveau outre que les soldats se permettent de voler et de piller. Le 9 octobre».
«Le vol et le pillage continuent. Il y a une bande de voleurs dans notre district qu'il faudra faire arreter par de fortes gardes. Le 11 octobre».
[«Часть моего округа продолжает подвергаться грабежу солдат 3 го корпуса, которые не довольствуются тем, что отнимают скудное достояние несчастных жителей, попрятавшихся в подвалы, но еще и с жестокостию наносят им раны саблями, как я сам много раз видел».
«Ничего нового, только что солдаты позволяют себе грабить и воровать. 9 октября».
«Воровство и грабеж продолжаются. Существует шайка воров в нашем участке, которую надо будет остановить сильными мерами. 11 октября».]
«Император чрезвычайно недоволен, что, несмотря на строгие повеления остановить грабеж, только и видны отряды гвардейских мародеров, возвращающиеся в Кремль. В старой гвардии беспорядки и грабеж сильнее, нежели когда либо, возобновились вчера, в последнюю ночь и сегодня. С соболезнованием видит император, что отборные солдаты, назначенные охранять его особу, долженствующие подавать пример подчиненности, до такой степени простирают ослушание, что разбивают погреба и магазины, заготовленные для армии. Другие унизились до того, что не слушали часовых и караульных офицеров, ругали их и били».
«Le grand marechal du palais se plaint vivement, – писал губернатор, – que malgre les defenses reiterees, les soldats continuent a faire leurs besoins dans toutes les cours et meme jusque sous les fenetres de l'Empereur».
[«Обер церемониймейстер дворца сильно жалуется на то, что, несмотря на все запрещения, солдаты продолжают ходить на час во всех дворах и даже под окнами императора».]
Войско это, как распущенное стадо, топча под ногами тот корм, который мог бы спасти его от голодной смерти, распадалось и гибло с каждым днем лишнего пребывания в Москве.
Но оно не двигалось.
Оно побежало только тогда, когда его вдруг охватил панический страх, произведенный перехватами обозов по Смоленской дороге и Тарутинским сражением. Это же самое известие о Тарутинском сражении, неожиданно на смотру полученное Наполеоном, вызвало в нем желание наказать русских, как говорит Тьер, и он отдал приказание о выступлении, которого требовало все войско.
Убегая из Москвы, люди этого войска захватили с собой все, что было награблено. Наполеон тоже увозил с собой свой собственный tresor [сокровище]. Увидав обоз, загромождавший армию. Наполеон ужаснулся (как говорит Тьер). Но он, с своей опытностью войны, не велел сжечь всо лишние повозки, как он это сделал с повозками маршала, подходя к Москве, но он посмотрел на эти коляски и кареты, в которых ехали солдаты, и сказал, что это очень хорошо, что экипажи эти употребятся для провианта, больных и раненых.
Положение всего войска было подобно положению раненого животного, чувствующего свою погибель и не знающего, что оно делает. Изучать искусные маневры Наполеона и его войска и его цели со времени вступления в Москву и до уничтожения этого войска – все равно, что изучать значение предсмертных прыжков и судорог смертельно раненного животного. Очень часто раненое животное, заслышав шорох, бросается на выстрел на охотника, бежит вперед, назад и само ускоряет свой конец. То же самое делал Наполеон под давлением всего его войска. Шорох Тарутинского сражения спугнул зверя, и он бросился вперед на выстрел, добежал до охотника, вернулся назад, опять вперед, опять назад и, наконец, как всякий зверь, побежал назад, по самому невыгодному, опасному пути, но по знакомому, старому следу.
Наполеон, представляющийся нам руководителем всего этого движения (как диким представлялась фигура, вырезанная на носу корабля, силою, руководящею корабль), Наполеон во все это время своей деятельности был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит.
6 го октября, рано утром, Пьер вышел из балагана и, вернувшись назад, остановился у двери, играя с длинной, на коротких кривых ножках, лиловой собачонкой, вертевшейся около него. Собачонка эта жила у них в балагане, ночуя с Каратаевым, но иногда ходила куда то в город и опять возвращалась. Она, вероятно, никогда никому не принадлежала, и теперь она была ничья и не имела никакого названия. Французы звали ее Азор, солдат сказочник звал ее Фемгалкой, Каратаев и другие звали ее Серый, иногда Вислый. Непринадлежание ее никому и отсутствие имени и даже породы, даже определенного цвета, казалось, нисколько не затрудняло лиловую собачонку. Пушной хвост панашем твердо и кругло стоял кверху, кривые ноги служили ей так хорошо, что часто она, как бы пренебрегая употреблением всех четырех ног, поднимала грациозно одну заднюю и очень ловко и скоро бежала на трех лапах. Все для нее было предметом удовольствия. То, взвизгивая от радости, она валялась на спине, то грелась на солнце с задумчивым и значительным видом, то резвилась, играя с щепкой или соломинкой.
Одеяние Пьера теперь состояло из грязной продранной рубашки, единственном остатке его прежнего платья, солдатских порток, завязанных для тепла веревочками на щиколках по совету Каратаева, из кафтана и мужицкой шапки. Пьер очень изменился физически в это время. Он не казался уже толст, хотя и имел все тот же вид крупности и силы, наследственной в их породе. Борода и усы обросли нижнюю часть лица; отросшие, спутанные волосы на голове, наполненные вшами, курчавились теперь шапкою. Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно готовое, такое, какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распущенность, выражавшаяся и во взгляде, заменилась теперь энергической, готовой на деятельность и отпор – подобранностью. Ноги его были босые.
Пьер смотрел то вниз по полю, по которому в нынешнее утро разъездились повозки и верховые, то вдаль за реку, то на собачонку, притворявшуюся, что она не на шутку хочет укусить его, то на свои босые ноги, которые он с удовольствием переставлял в различные положения, пошевеливая грязными, толстыми, большими пальцами. И всякий раз, как он взглядывал на свои босые ноги, на лице его пробегала улыбка оживления и самодовольства. Вид этих босых ног напоминал ему все то, что он пережил и понял за это время, и воспоминание это было ему приятно.
Погода уже несколько дней стояла тихая, ясная, с легкими заморозками по утрам – так называемое бабье лето.
В воздухе, на солнце, было тепло, и тепло это с крепительной свежестью утреннего заморозка, еще чувствовавшегося в воздухе, было особенно приятно.
На всем, и на дальних и на ближних предметах, лежал тот волшебно хрустальный блеск, который бывает только в эту пору осени. Вдалеке виднелись Воробьевы горы, с деревнею, церковью и большим белым домом. И оголенные деревья, и песок, и камни, и крыши домов, и зеленый шпиль церкви, и углы дальнего белого дома – все это неестественно отчетливо, тончайшими линиями вырезалось в прозрачном воздухе. Вблизи виднелись знакомые развалины полуобгорелого барского дома, занимаемого французами, с темно зелеными еще кустами сирени, росшими по ограде. И даже этот разваленный и загаженный дом, отталкивающий своим безобразием в пасмурную погоду, теперь, в ярком, неподвижном блеске, казался чем то успокоительно прекрасным.
Французский капрал, по домашнему расстегнутый, в колпаке, с коротенькой трубкой в зубах, вышел из за угла балагана и, дружески подмигнув, подошел к Пьеру.
– Quel soleil, hein, monsieur Kiril? (так звали Пьера все французы). On dirait le printemps. [Каково солнце, а, господин Кирил? Точно весна.] – И капрал прислонился к двери и предложил Пьеру трубку, несмотря на то, что всегда он ее предлагал и всегда Пьер отказывался.
– Si l'on marchait par un temps comme celui la… [В такую бы погоду в поход идти…] – начал он.
Пьер расспросил его, что слышно о выступлении, и капрал рассказал, что почти все войска выступают и что нынче должен быть приказ и о пленных. В балагане, в котором был Пьер, один из солдат, Соколов, был при смерти болен, и Пьер сказал капралу, что надо распорядиться этим солдатом. Капрал сказал, что Пьер может быть спокоен, что на это есть подвижной и постоянный госпитали, и что о больных будет распоряжение, и что вообще все, что только может случиться, все предвидено начальством.
– Et puis, monsieur Kiril, vous n'avez qu'a dire un mot au capitaine, vous savez. Oh, c'est un… qui n'oublie jamais rien. Dites au capitaine quand il fera sa tournee, il fera tout pour vous… [И потом, господин Кирил, вам стоит сказать слово капитану, вы знаете… Это такой… ничего не забывает. Скажите капитану, когда он будет делать обход; он все для вас сделает…]
Капитан, про которого говорил капрал, почасту и подолгу беседовал с Пьером и оказывал ему всякого рода снисхождения.
– Vois tu, St. Thomas, qu'il me disait l'autre jour: Kiril c'est un homme qui a de l'instruction, qui parle francais; c'est un seigneur russe, qui a eu des malheurs, mais c'est un homme. Et il s'y entend le… S'il demande quelque chose, qu'il me dise, il n'y a pas de refus. Quand on a fait ses etudes, voyez vous, on aime l'instruction et les gens comme il faut. C'est pour vous, que je dis cela, monsieur Kiril. Dans l'affaire de l'autre jour si ce n'etait grace a vous, ca aurait fini mal. [Вот, клянусь святым Фомою, он мне говорил однажды: Кирил – это человек образованный, говорит по французски; это русский барин, с которым случилось несчастие, но он человек. Он знает толк… Если ему что нужно, отказа нет. Когда учился кой чему, то любишь просвещение и людей благовоспитанных. Это я про вас говорю, господин Кирил. Намедни, если бы не вы, то худо бы кончилось.]
И, поболтав еще несколько времени, капрал ушел. (Дело, случившееся намедни, о котором упоминал капрал, была драка между пленными и французами, в которой Пьеру удалось усмирить своих товарищей.) Несколько человек пленных слушали разговор Пьера с капралом и тотчас же стали спрашивать, что он сказал. В то время как Пьер рассказывал своим товарищам то, что капрал сказал о выступлении, к двери балагана подошел худощавый, желтый и оборванный французский солдат. Быстрым и робким движением приподняв пальцы ко лбу в знак поклона, он обратился к Пьеру и спросил его, в этом ли балагане солдат Platoche, которому он отдал шить рубаху.
С неделю тому назад французы получили сапожный товар и полотно и роздали шить сапоги и рубахи пленным солдатам.
– Готово, готово, соколик! – сказал Каратаев, выходя с аккуратно сложенной рубахой.
Каратаев, по случаю тепла и для удобства работы, был в одних портках и в черной, как земля, продранной рубашке. Волоса его, как это делают мастеровые, были обвязаны мочалочкой, и круглое лицо его казалось еще круглее и миловиднее.
– Уговорец – делу родной братец. Как сказал к пятнице, так и сделал, – говорил Платон, улыбаясь и развертывая сшитую им рубашку.
Француз беспокойно оглянулся и, как будто преодолев сомнение, быстро скинул мундир и надел рубаху. Под мундиром на французе не было рубахи, а на голое, желтое, худое тело был надет длинный, засаленный, шелковый с цветочками жилет. Француз, видимо, боялся, чтобы пленные, смотревшие на него, не засмеялись, и поспешно сунул голову в рубашку. Никто из пленных не сказал ни слова.
– Вишь, в самый раз, – приговаривал Платон, обдергивая рубаху. Француз, просунув голову и руки, не поднимая глаз, оглядывал на себе рубашку и рассматривал шов.
– Что ж, соколик, ведь это не швальня, и струмента настоящего нет; а сказано: без снасти и вша не убьешь, – говорил Платон, кругло улыбаясь и, видимо, сам радуясь на свою работу.
– C'est bien, c'est bien, merci, mais vous devez avoir de la toile de reste? [Хорошо, хорошо, спасибо, а полотно где, что осталось?] – сказал француз.
– Она еще ладнее будет, как ты на тело то наденешь, – говорил Каратаев, продолжая радоваться на свое произведение. – Вот и хорошо и приятно будет.
– Merci, merci, mon vieux, le reste?.. – повторил француз, улыбаясь, и, достав ассигнацию, дал Каратаеву, – mais le reste… [Спасибо, спасибо, любезный, а остаток то где?.. Остаток то давай.]
Пьер видел, что Платон не хотел понимать того, что говорил француз, и, не вмешиваясь, смотрел на них. Каратаев поблагодарил за деньги и продолжал любоваться своею работой. Француз настаивал на остатках и попросил Пьера перевести то, что он говорил.
– На что же ему остатки то? – сказал Каратаев. – Нам подверточки то важные бы вышли. Ну, да бог с ним. – И Каратаев с вдруг изменившимся, грустным лицом достал из за пазухи сверточек обрезков и, не глядя на него, подал французу. – Эхма! – проговорил Каратаев и пошел назад. Француз поглядел на полотно, задумался, взглянул вопросительно на Пьера, и как будто взгляд Пьера что то сказал ему.
– Platoche, dites donc, Platoche, – вдруг покраснев, крикнул француз пискливым голосом. – Gardez pour vous, [Платош, а Платош. Возьми себе.] – сказал он, подавая обрезки, повернулся и ушел.
– Вот поди ты, – сказал Каратаев, покачивая головой. – Говорят, нехристи, а тоже душа есть. То то старички говаривали: потная рука торовата, сухая неподатлива. Сам голый, а вот отдал же. – Каратаев, задумчиво улыбаясь и глядя на обрезки, помолчал несколько времени. – А подверточки, дружок, важнеющие выдут, – сказал он и вернулся в балаган.
Прошло четыре недели с тех пор, как Пьер был в плену. Несмотря на то, что французы предлагали перевести его из солдатского балагана в офицерский, он остался в том балагане, в который поступил с первого дня.
В разоренной и сожженной Москве Пьер испытал почти крайние пределы лишений, которые может переносить человек; но, благодаря своему сильному сложению и здоровью, которого он не сознавал до сих пор, и в особенности благодаря тому, что эти лишения подходили так незаметно, что нельзя было сказать, когда они начались, он переносил не только легко, но и радостно свое положение. И именно в это то самое время он получил то спокойствие и довольство собой, к которым он тщетно стремился прежде. Он долго в своей жизни искал с разных сторон этого успокоения, согласия с самим собою, того, что так поразило его в солдатах в Бородинском сражении, – он искал этого в филантропии, в масонстве, в рассеянии светской жизни, в вине, в геройском подвиге самопожертвования, в романтической любви к Наташе; он искал этого путем мысли, и все эти искания и попытки все обманули его. И он, сам не думая о том, получил это успокоение и это согласие с самим собою только через ужас смерти, через лишения и через то, что он понял в Каратаеве. Те страшные минуты, которые он пережил во время казни, как будто смыли навсегда из его воображения и воспоминания тревожные мысли и чувства, прежде казавшиеся ему важными. Ему не приходило и мысли ни о России, ни о войне, ни о политике, ни о Наполеоне. Ему очевидно было, что все это не касалось его, что он не призван был и потому не мог судить обо всем этом. «России да лету – союзу нету», – повторял он слова Каратаева, и эти слова странно успокоивали его. Ему казалось теперь непонятным и даже смешным его намерение убить Наполеона и его вычисления о кабалистическом числе и звере Апокалипсиса. Озлобление его против жены и тревога о том, чтобы не было посрамлено его имя, теперь казались ему не только ничтожны, но забавны. Что ему было за дело до того, что эта женщина вела там где то ту жизнь, которая ей нравилась? Кому, в особенности ему, какое дело было до того, что узнают или не узнают, что имя их пленного было граф Безухов?
Теперь он часто вспоминал свой разговор с князем Андреем и вполне соглашался с ним, только несколько иначе понимая мысль князя Андрея. Князь Андрей думал и говорил, что счастье бывает только отрицательное, но он говорил это с оттенком горечи и иронии. Как будто, говоря это, он высказывал другую мысль – о том, что все вложенные в нас стремленья к счастью положительному вложены только для того, чтобы, не удовлетворяя, мучить нас. Но Пьер без всякой задней мысли признавал справедливость этого. Отсутствие страданий, удовлетворение потребностей и вследствие того свобода выбора занятий, то есть образа жизни, представлялись теперь Пьеру несомненным и высшим счастьем человека. Здесь, теперь только, в первый раз Пьер вполне оценил наслажденье еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей – хорошая пища, чистота, свобода – теперь, когда он был лишен всего этого, казались Пьеру совершенным счастием, а выбор занятия, то есть жизнь, теперь, когда выбор этот был так ограничен, казались ему таким легким делом, что он забывал то, что избыток удобств жизни уничтожает все счастие удовлетворения потребностей, а большая свобода выбора занятий, та свобода, которую ему в его жизни давали образование, богатство, положение в свете, что эта то свобода и делает выбор занятий неразрешимо трудным и уничтожает самую потребность и возможность занятия.
Все мечтания Пьера теперь стремились к тому времени, когда он будет свободен. А между тем впоследствии и во всю свою жизнь Пьер с восторгом думал и говорил об этом месяце плена, о тех невозвратимых, сильных и радостных ощущениях и, главное, о том полном душевном спокойствии, о совершенной внутренней свободе, которые он испытывал только в это время.
Когда он в первый день, встав рано утром, вышел на заре из балагана и увидал сначала темные купола, кресты Ново Девичьего монастыря, увидал морозную росу на пыльной траве, увидал холмы Воробьевых гор и извивающийся над рекою и скрывающийся в лиловой дали лесистый берег, когда ощутил прикосновение свежего воздуха и услыхал звуки летевших из Москвы через поле галок и когда потом вдруг брызнуло светом с востока и торжественно выплыл край солнца из за тучи, и купола, и кресты, и роса, и даль, и река, все заиграло в радостном свете, – Пьер почувствовал новое, не испытанное им чувство радости и крепости жизни.
И чувство это не только не покидало его во все время плена, но, напротив, возрастало в нем по мере того, как увеличивались трудности его положения.
Чувство это готовности на все, нравственной подобранности еще более поддерживалось в Пьере тем высоким мнением, которое, вскоре по его вступлении в балаган, установилось о нем между его товарищами. Пьер с своим знанием языков, с тем уважением, которое ему оказывали французы, с своей простотой, отдававший все, что у него просили (он получал офицерские три рубля в неделю), с своей силой, которую он показал солдатам, вдавливая гвозди в стену балагана, с кротостью, которую он выказывал в обращении с товарищами, с своей непонятной для них способностью сидеть неподвижно и, ничего не делая, думать, представлялся солдатам несколько таинственным и высшим существом. Те самые свойства его, которые в том свете, в котором он жил прежде, были для него если не вредны, то стеснительны – его сила, пренебрежение к удобствам жизни, рассеянность, простота, – здесь, между этими людьми, давали ему положение почти героя. И Пьер чувствовал, что этот взгляд обязывал его.
В ночь с 6 го на 7 е октября началось движение выступавших французов: ломались кухни, балаганы, укладывались повозки и двигались войска и обозы.
В семь часов утра конвой французов, в походной форме, в киверах, с ружьями, ранцами и огромными мешками, стоял перед балаганами, и французский оживленный говор, пересыпаемый ругательствами, перекатывался по всей линии.
В балагане все были готовы, одеты, подпоясаны, обуты и ждали только приказания выходить. Больной солдат Соколов, бледный, худой, с синими кругами вокруг глаз, один, не обутый и не одетый, сидел на своем месте и выкатившимися от худобы глазами вопросительно смотрел на не обращавших на него внимания товарищей и негромко и равномерно стонал. Видимо, не столько страдания – он был болен кровавым поносом, – сколько страх и горе оставаться одному заставляли его стонать.
Пьер, обутый в башмаки, сшитые для него Каратаевым из цибика, который принес француз для подшивки себе подошв, подпоясанный веревкою, подошел к больному и присел перед ним на корточки.
– Что ж, Соколов, они ведь не совсем уходят! У них тут гошпиталь. Может, тебе еще лучше нашего будет, – сказал Пьер.
– О господи! О смерть моя! О господи! – громче застонал солдат.
– Да я сейчас еще спрошу их, – сказал Пьер и, поднявшись, пошел к двери балагана. В то время как Пьер подходил к двери, снаружи подходил с двумя солдатами тот капрал, который вчера угощал Пьера трубкой. И капрал и солдаты были в походной форме, в ранцах и киверах с застегнутыми чешуями, изменявшими их знакомые лица.
Капрал шел к двери с тем, чтобы, по приказанию начальства, затворить ее. Перед выпуском надо было пересчитать пленных.
– Caporal, que fera t on du malade?.. [Капрал, что с больным делать?..] – начал Пьер; но в ту минуту, как он говорил это, он усумнился, тот ли это знакомый его капрал или другой, неизвестный человек: так непохож был на себя капрал в эту минуту. Кроме того, в ту минуту, как Пьер говорил это, с двух сторон вдруг послышался треск барабанов. Капрал нахмурился на слова Пьера и, проговорив бессмысленное ругательство, захлопнул дверь. В балагане стало полутемно; с двух сторон резко трещали барабаны, заглушая стоны больного.
«Вот оно!.. Опять оно!» – сказал себе Пьер, и невольный холод пробежал по его спине. В измененном лице капрала, в звуке его голоса, в возбуждающем и заглушающем треске барабанов Пьер узнал ту таинственную, безучастную силу, которая заставляла людей против своей воли умерщвлять себе подобных, ту силу, действие которой он видел во время казни. Бояться, стараться избегать этой силы, обращаться с просьбами или увещаниями к людям, которые служили орудиями ее, было бесполезно. Это знал теперь Пьер. Надо было ждать и терпеть. Пьер не подошел больше к больному и не оглянулся на него. Он, молча, нахмурившись, стоял у двери балагана.
Когда двери балагана отворились и пленные, как стадо баранов, давя друг друга, затеснились в выходе, Пьер пробился вперед их и подошел к тому самому капитану, который, по уверению капрала, готов был все сделать для Пьера. Капитан тоже был в походной форме, и из холодного лица его смотрело тоже «оно», которое Пьер узнал в словах капрала и в треске барабанов.
– Filez, filez, [Проходите, проходите.] – приговаривал капитан, строго хмурясь и глядя на толпившихся мимо него пленных. Пьер знал, что его попытка будет напрасна, но подошел к нему.
– Eh bien, qu'est ce qu'il y a? [Ну, что еще?] – холодно оглянувшись, как бы не узнав, сказал офицер. Пьер сказал про больного.
– Il pourra marcher, que diable! – сказал капитан. – Filez, filez, [Он пойдет, черт возьми! Проходите, проходите] – продолжал он приговаривать, не глядя на Пьера.
– Mais non, il est a l'agonie… [Да нет же, он умирает…] – начал было Пьер.
– Voulez vous bien?! [Пойди ты к…] – злобно нахмурившись, крикнул капитан.
Драм да да дам, дам, дам, трещали барабаны. И Пьер понял, что таинственная сила уже вполне овладела этими людьми и что теперь говорить еще что нибудь было бесполезно.
Пленных офицеров отделили от солдат и велели им идти впереди. Офицеров, в числе которых был Пьер, было человек тридцать, солдатов человек триста.
Пленные офицеры, выпущенные из других балаганов, были все чужие, были гораздо лучше одеты, чем Пьер, и смотрели на него, в его обуви, с недоверчивостью и отчужденностью. Недалеко от Пьера шел, видимо, пользующийся общим уважением своих товарищей пленных, толстый майор в казанском халате, подпоясанный полотенцем, с пухлым, желтым, сердитым лицом. Он одну руку с кисетом держал за пазухой, другою опирался на чубук. Майор, пыхтя и отдуваясь, ворчал и сердился на всех за то, что ему казалось, что его толкают и что все торопятся, когда торопиться некуда, все чему то удивляются, когда ни в чем ничего нет удивительного. Другой, маленький худой офицер, со всеми заговаривал, делая предположения о том, куда их ведут теперь и как далеко они успеют пройти нынешний день. Чиновник, в валеных сапогах и комиссариатской форме, забегал с разных сторон и высматривал сгоревшую Москву, громко сообщая свои наблюдения о том, что сгорело и какая была та или эта видневшаяся часть Москвы. Третий офицер, польского происхождения по акценту, спорил с комиссариатским чиновником, доказывая ему, что он ошибался в определении кварталов Москвы.
– О чем спорите? – сердито говорил майор. – Николы ли, Власа ли, все одно; видите, все сгорело, ну и конец… Что толкаетесь то, разве дороги мало, – обратился он сердито к шедшему сзади и вовсе не толкавшему его.
– Ай, ай, ай, что наделали! – слышались, однако, то с той, то с другой стороны голоса пленных, оглядывающих пожарища. – И Замоскворечье то, и Зубово, и в Кремле то, смотрите, половины нет… Да я вам говорил, что все Замоскворечье, вон так и есть.
– Ну, знаете, что сгорело, ну о чем же толковать! – говорил майор.
Проходя через Хамовники (один из немногих несгоревших кварталов Москвы) мимо церкви, вся толпа пленных вдруг пожалась к одной стороне, и послышались восклицания ужаса и омерзения.
– Ишь мерзавцы! То то нехристи! Да мертвый, мертвый и есть… Вымазали чем то.
Пьер тоже подвинулся к церкви, у которой было то, что вызывало восклицания, и смутно увидал что то, прислоненное к ограде церкви. Из слов товарищей, видевших лучше его, он узнал, что это что то был труп человека, поставленный стоймя у ограды и вымазанный в лице сажей…
– Marchez, sacre nom… Filez… trente mille diables… [Иди! иди! Черти! Дьяволы!] – послышались ругательства конвойных, и французские солдаты с новым озлоблением разогнали тесаками толпу пленных, смотревшую на мертвого человека.
По переулкам Хамовников пленные шли одни с своим конвоем и повозками и фурами, принадлежавшими конвойным и ехавшими сзади; но, выйдя к провиантским магазинам, они попали в середину огромного, тесно двигавшегося артиллерийского обоза, перемешанного с частными повозками.
У самого моста все остановились, дожидаясь того, чтобы продвинулись ехавшие впереди. С моста пленным открылись сзади и впереди бесконечные ряды других двигавшихся обозов. Направо, там, где загибалась Калужская дорога мимо Нескучного, пропадая вдали, тянулись бесконечные ряды войск и обозов. Это были вышедшие прежде всех войска корпуса Богарне; назади, по набережной и через Каменный мост, тянулись войска и обозы Нея.
Войска Даву, к которым принадлежали пленные, шли через Крымский брод и уже отчасти вступали в Калужскую улицу. Но обозы так растянулись, что последние обозы Богарне еще не вышли из Москвы в Калужскую улицу, а голова войск Нея уже выходила из Большой Ордынки.
Пройдя Крымский брод, пленные двигались по нескольку шагов и останавливались, и опять двигались, и со всех сторон экипажи и люди все больше и больше стеснялись. Пройдя более часа те несколько сот шагов, которые отделяют мост от Калужской улицы, и дойдя до площади, где сходятся Замоскворецкие улицы с Калужскою, пленные, сжатые в кучу, остановились и несколько часов простояли на этом перекрестке. Со всех сторон слышался неумолкаемый, как шум моря, грохот колес, и топот ног, и неумолкаемые сердитые крики и ругательства. Пьер стоял прижатый к стене обгорелого дома, слушая этот звук, сливавшийся в его воображении с звуками барабана.
Несколько пленных офицеров, чтобы лучше видеть, влезли на стену обгорелого дома, подле которого стоял Пьер.
– Народу то! Эка народу!.. И на пушках то навалили! Смотри: меха… – говорили они. – Вишь, стервецы, награбили… Вон у того то сзади, на телеге… Ведь это – с иконы, ей богу!.. Это немцы, должно быть. И наш мужик, ей богу!.. Ах, подлецы!.. Вишь, навьючился то, насилу идет! Вот те на, дрожки – и те захватили!.. Вишь, уселся на сундуках то. Батюшки!.. Подрались!..
– Так его по морде то, по морде! Этак до вечера не дождешься. Гляди, глядите… а это, верно, самого Наполеона. Видишь, лошади то какие! в вензелях с короной. Это дом складной. Уронил мешок, не видит. Опять подрались… Женщина с ребеночком, и недурна. Да, как же, так тебя и пропустят… Смотри, и конца нет. Девки русские, ей богу, девки! В колясках ведь как покойно уселись!
Опять волна общего любопытства, как и около церкви в Хамовниках, надвинула всех пленных к дороге, и Пьер благодаря своему росту через головы других увидал то, что так привлекло любопытство пленных. В трех колясках, замешавшихся между зарядными ящиками, ехали, тесно сидя друг на друге, разряженные, в ярких цветах, нарумяненные, что то кричащие пискливыми голосами женщины.
С той минуты как Пьер сознал появление таинственной силы, ничто не казалось ему странно или страшно: ни труп, вымазанный для забавы сажей, ни эти женщины, спешившие куда то, ни пожарища Москвы. Все, что видел теперь Пьер, не производило на него почти никакого впечатления – как будто душа его, готовясь к трудной борьбе, отказывалась принимать впечатления, которые могли ослабить ее.
Поезд женщин проехал. За ним тянулись опять телеги, солдаты, фуры, солдаты, палубы, кареты, солдаты, ящики, солдаты, изредка женщины.
Пьер не видал людей отдельно, а видел движение их.
Все эти люди, лошади как будто гнались какой то невидимою силою. Все они, в продолжение часа, во время которого их наблюдал Пьер, выплывали из разных улиц с одним и тем же желанием скорее пройти; все они одинаково, сталкиваясь с другими, начинали сердиться, драться; оскаливались белые зубы, хмурились брови, перебрасывались все одни и те же ругательства, и на всех лицах было одно и то же молодечески решительное и жестоко холодное выражение, которое поутру поразило Пьера при звуке барабана на лице капрала.
Уже перед вечером конвойный начальник собрал свою команду и с криком и спорами втеснился в обозы, и пленные, окруженные со всех сторон, вышли на Калужскую дорогу.
Шли очень скоро, не отдыхая, и остановились только, когда уже солнце стало садиться. Обозы надвинулись одни на других, и люди стали готовиться к ночлегу. Все казались сердиты и недовольны. Долго с разных сторон слышались ругательства, злобные крики и драки. Карета, ехавшая сзади конвойных, надвинулась на повозку конвойных и пробила ее дышлом. Несколько солдат с разных сторон сбежались к повозке; одни били по головам лошадей, запряженных в карете, сворачивая их, другие дрались между собой, и Пьер видел, что одного немца тяжело ранили тесаком в голову.
Казалось, все эти люди испытывали теперь, когда остановились посреди поля в холодных сумерках осеннего вечера, одно и то же чувство неприятного пробуждения от охватившей всех при выходе поспешности и стремительного куда то движения. Остановившись, все как будто поняли, что неизвестно еще, куда идут, и что на этом движении много будет тяжелого и трудного.
С пленными на этом привале конвойные обращались еще хуже, чем при выступлении. На этом привале в первый раз мясная пища пленных была выдана кониною.
От офицеров до последнего солдата было заметно в каждом как будто личное озлобление против каждого из пленных, так неожиданно заменившее прежде дружелюбные отношения.
Озлобление это еще более усилилось, когда при пересчитывании пленных оказалось, что во время суеты, выходя из Москвы, один русский солдат, притворявшийся больным от живота, – бежал. Пьер видел, как француз избил русского солдата за то, что тот отошел далеко от дороги, и слышал, как капитан, его приятель, выговаривал унтер офицеру за побег русского солдата и угрожал ему судом. На отговорку унтер офицера о том, что солдат был болен и не мог идти, офицер сказал, что велено пристреливать тех, кто будет отставать. Пьер чувствовал, что та роковая сила, которая смяла его во время казни и которая была незаметна во время плена, теперь опять овладела его существованием. Ему было страшно; но он чувствовал, как по мере усилий, которые делала роковая сила, чтобы раздавить его, в душе его вырастала и крепла независимая от нее сила жизни.
Пьер поужинал похлебкою из ржаной муки с лошадиным мясом и поговорил с товарищами.
Ни Пьер и никто из товарищей его не говорили ни о том, что они видели в Москве, ни о грубости обращения французов, ни о том распоряжении пристреливать, которое было объявлено им: все были, как бы в отпор ухудшающемуся положению, особенно оживлены и веселы. Говорили о личных воспоминаниях, о смешных сценах, виденных во время похода, и заминали разговоры о настоящем положении.
Солнце давно село. Яркие звезды зажглись кое где по небу; красное, подобное пожару, зарево встающего полного месяца разлилось по краю неба, и огромный красный шар удивительно колебался в сероватой мгле. Становилось светло. Вечер уже кончился, но ночь еще не начиналась. Пьер встал от своих новых товарищей и пошел между костров на другую сторону дороги, где, ему сказали, стояли пленные солдаты. Ему хотелось поговорить с ними. На дороге французский часовой остановил его и велел воротиться.
Пьер вернулся, но не к костру, к товарищам, а к отпряженной повозке, у которой никого не было. Он, поджав ноги и опустив голову, сел на холодную землю у колеса повозки и долго неподвижно сидел, думая. Прошло более часа. Никто не тревожил Пьера. Вдруг он захохотал своим толстым, добродушным смехом так громко, что с разных сторон с удивлением оглянулись люди на этот странный, очевидно, одинокий смех.
– Ха, ха, ха! – смеялся Пьер. И он проговорил вслух сам с собою: – Не пустил меня солдат. Поймали меня, заперли меня. В плену держат меня. Кого меня? Меня! Меня – мою бессмертную душу! Ха, ха, ха!.. Ха, ха, ха!.. – смеялся он с выступившими на глаза слезами.
Какой то человек встал и подошел посмотреть, о чем один смеется этот странный большой человек. Пьер перестал смеяться, встал, отошел подальше от любопытного и оглянулся вокруг себя.
Прежде громко шумевший треском костров и говором людей, огромный, нескончаемый бивак затихал; красные огни костров потухали и бледнели. Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! – думал Пьер. – И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам.
В первых числах октября к Кутузову приезжал еще парламентер с письмом от Наполеона и предложением мира, обманчиво означенным из Москвы, тогда как Наполеон уже был недалеко впереди Кутузова, на старой Калужской дороге. Кутузов отвечал на это письмо так же, как на первое, присланное с Лористоном: он сказал, что о мире речи быть не может.
Вскоре после этого из партизанского отряда Дорохова, ходившего налево от Тарутина, получено донесение о том, что в Фоминском показались войска, что войска эти состоят из дивизии Брусье и что дивизия эта, отделенная от других войск, легко может быть истреблена. Солдаты и офицеры опять требовали деятельности. Штабные генералы, возбужденные воспоминанием о легкости победы под Тарутиным, настаивали у Кутузова об исполнении предложения Дорохова. Кутузов не считал нужным никакого наступления. Вышло среднее, то, что должно было совершиться; послан был в Фоминское небольшой отряд, который должен был атаковать Брусье.
По странной случайности это назначение – самое трудное и самое важное, как оказалось впоследствии, – получил Дохтуров; тот самый скромный, маленький Дохтуров, которого никто не описывал нам составляющим планы сражений, летающим перед полками, кидающим кресты на батареи, и т. п., которого считали и называли нерешительным и непроницательным, но тот самый Дохтуров, которого во время всех войн русских с французами, с Аустерлица и до тринадцатого года, мы находим начальствующим везде, где только положение трудно. В Аустерлице он остается последним у плотины Аугеста, собирая полки, спасая, что можно, когда все бежит и гибнет и ни одного генерала нет в ариергарде. Он, больной в лихорадке, идет в Смоленск с двадцатью тысячами защищать город против всей наполеоновской армии. В Смоленске, едва задремал он на Молоховских воротах, в пароксизме лихорадки, его будит канонада по Смоленску, и Смоленск держится целый день. В Бородинский день, когда убит Багратион и войска нашего левого фланга перебиты в пропорции 9 к 1 и вся сила французской артиллерии направлена туда, – посылается никто другой, а именно нерешительный и непроницательный Дохтуров, и Кутузов торопится поправить свою ошибку, когда он послал было туда другого. И маленький, тихенький Дохтуров едет туда, и Бородино – лучшая слава русского войска. И много героев описано нам в стихах и прозе, но о Дохтурове почти ни слова.
Опять Дохтурова посылают туда в Фоминское и оттуда в Малый Ярославец, в то место, где было последнее сражение с французами, и в то место, с которого, очевидно, уже начинается погибель французов, и опять много гениев и героев описывают нам в этот период кампании, но о Дохтурове ни слова, или очень мало, или сомнительно. Это то умолчание о Дохтурове очевиднее всего доказывает его достоинства.
Естественно, что для человека, не понимающего хода машины, при виде ее действия кажется, что важнейшая часть этой машины есть та щепка, которая случайно попала в нее и, мешая ее ходу, треплется в ней. Человек, не знающий устройства машины, не может понять того, что не эта портящая и мешающая делу щепка, а та маленькая передаточная шестерня, которая неслышно вертится, есть одна из существеннейших частей машины.
10 го октября, в тот самый день, как Дохтуров прошел половину дороги до Фоминского и остановился в деревне Аристове, приготавливаясь в точности исполнить отданное приказание, все французское войско, в своем судорожном движении дойдя до позиции Мюрата, как казалось, для того, чтобы дать сражение, вдруг без причины повернуло влево на новую Калужскую дорогу и стало входить в Фоминское, в котором прежде стоял один Брусье. У Дохтурова под командою в это время были, кроме Дорохова, два небольших отряда Фигнера и Сеславина.
Вечером 11 го октября Сеславин приехал в Аристово к начальству с пойманным пленным французским гвардейцем. Пленный говорил, что войска, вошедшие нынче в Фоминское, составляли авангард всей большой армии, что Наполеон был тут же, что армия вся уже пятый день вышла из Москвы. В тот же вечер дворовый человек, пришедший из Боровска, рассказал, как он видел вступление огромного войска в город. Казаки из отряда Дорохова доносили, что они видели французскую гвардию, шедшую по дороге к Боровску. Из всех этих известий стало очевидно, что там, где думали найти одну дивизию, теперь была вся армия французов, шедшая из Москвы по неожиданному направлению – по старой Калужской дороге. Дохтуров ничего не хотел предпринимать, так как ему не ясно было теперь, в чем состоит его обязанность. Ему велено было атаковать Фоминское. Но в Фоминском прежде был один Брусье, теперь была вся французская армия. Ермолов хотел поступить по своему усмотрению, но Дохтуров настаивал на том, что ему нужно иметь приказание от светлейшего. Решено было послать донесение в штаб.
Для этого избран толковый офицер, Болховитинов, который, кроме письменного донесения, должен был на словах рассказать все дело. В двенадцатом часу ночи Болховитинов, получив конверт и словесное приказание, поскакал, сопутствуемый казаком, с запасными лошадьми в главный штаб.
Ночь была темная, теплая, осенняя. Шел дождик уже четвертый день. Два раза переменив лошадей и в полтора часа проскакав тридцать верст по грязной вязкой дороге, Болховитинов во втором часу ночи был в Леташевке. Слезши у избы, на плетневом заборе которой была вывеска: «Главный штаб», и бросив лошадь, он вошел в темные сени.
– Дежурного генерала скорее! Очень важное! – проговорил он кому то, поднимавшемуся и сопевшему в темноте сеней.
– С вечера нездоровы очень были, третью ночь не спят, – заступнически прошептал денщицкий голос. – Уж вы капитана разбудите сначала.
– Очень важное, от генерала Дохтурова, – сказал Болховитинов, входя в ощупанную им растворенную дверь. Денщик прошел вперед его и стал будить кого то:
– Ваше благородие, ваше благородие – кульер.
– Что, что? от кого? – проговорил чей то сонный голос.
– От Дохтурова и от Алексея Петровича. Наполеон в Фоминском, – сказал Болховитинов, не видя в темноте того, кто спрашивал его, но по звуку голоса предполагая, что это был не Коновницын.
Разбуженный человек зевал и тянулся.
– Будить то мне его не хочется, – сказал он, ощупывая что то. – Больнёшенек! Может, так, слухи.
– Вот донесение, – сказал Болховитинов, – велено сейчас же передать дежурному генералу.
– Постойте, огня зажгу. Куда ты, проклятый, всегда засунешь? – обращаясь к денщику, сказал тянувшийся человек. Это был Щербинин, адъютант Коновницына. – Нашел, нашел, – прибавил он.
Денщик рубил огонь, Щербинин ощупывал подсвечник.
– Ах, мерзкие, – с отвращением сказал он.
При свете искр Болховитинов увидел молодое лицо Щербинина со свечой и в переднем углу еще спящего человека. Это был Коновницын.
Когда сначала синим и потом красным пламенем загорелись серники о трут, Щербинин зажег сальную свечку, с подсвечника которой побежали обгладывавшие ее прусаки, и осмотрел вестника. Болховитинов был весь в грязи и, рукавом обтираясь, размазывал себе лицо.
– Да кто доносит? – сказал Щербинин, взяв конверт.
– Известие верное, – сказал Болховитинов. – И пленные, и казаки, и лазутчики – все единогласно показывают одно и то же.
– Нечего делать, надо будить, – сказал Щербинин, вставая и подходя к человеку в ночном колпаке, укрытому шинелью. – Петр Петрович! – проговорил он. Коновницын не шевелился. – В главный штаб! – проговорил он, улыбнувшись, зная, что эти слова наверное разбудят его. И действительно, голова в ночном колпаке поднялась тотчас же. На красивом, твердом лице Коновницына, с лихорадочно воспаленными щеками, на мгновение оставалось еще выражение далеких от настоящего положения мечтаний сна, но потом вдруг он вздрогнул: лицо его приняло обычно спокойное и твердое выражение.
– Ну, что такое? От кого? – неторопливо, но тотчас же спросил он, мигая от света. Слушая донесение офицера, Коновницын распечатал и прочел. Едва прочтя, он опустил ноги в шерстяных чулках на земляной пол и стал обуваться. Потом снял колпак и, причесав виски, надел фуражку.
– Ты скоро доехал? Пойдем к светлейшему.
Коновницын тотчас понял, что привезенное известие имело большую важность и что нельзя медлить. Хорошо ли, дурно ли это было, он не думал и не спрашивал себя. Его это не интересовало. На все дело войны он смотрел не умом, не рассуждением, а чем то другим. В душе его было глубокое, невысказанное убеждение, что все будет хорошо; но что этому верить не надо, и тем более не надо говорить этого, а надо делать только свое дело. И это свое дело он делал, отдавая ему все свои силы.
Петр Петрович Коновницын, так же как и Дохтуров, только как бы из приличия внесенный в список так называемых героев 12 го года – Барклаев, Раевских, Ермоловых, Платовых, Милорадовичей, так же как и Дохтуров, пользовался репутацией человека весьма ограниченных способностей и сведений, и, так же как и Дохтуров, Коновницын никогда не делал проектов сражений, но всегда находился там, где было труднее всего; спал всегда с раскрытой дверью с тех пор, как был назначен дежурным генералом, приказывая каждому посланному будить себя, всегда во время сраженья был под огнем, так что Кутузов упрекал его за то и боялся посылать, и был так же, как и Дохтуров, одной из тех незаметных шестерен, которые, не треща и не шумя, составляют самую существенную часть машины.
Выходя из избы в сырую, темную ночь, Коновницын нахмурился частью от головной усилившейся боли, частью от неприятной мысли, пришедшей ему в голову о том, как теперь взволнуется все это гнездо штабных, влиятельных людей при этом известии, в особенности Бенигсен, после Тарутина бывший на ножах с Кутузовым; как будут предлагать, спорить, приказывать, отменять. И это предчувствие неприятно ему было, хотя он и знал, что без этого нельзя.
Действительно, Толь, к которому он зашел сообщить новое известие, тотчас же стал излагать свои соображения генералу, жившему с ним, и Коновницын, молча и устало слушавший, напомнил ему, что надо идти к светлейшему.
Кутузов, как и все старые люди, мало спал по ночам. Он днем часто неожиданно задремывал; но ночью он, не раздеваясь, лежа на своей постели, большею частию не спал и думал.
Так он лежал и теперь на своей кровати, облокотив тяжелую, большую изуродованную голову на пухлую руку, и думал, открытым одним глазом присматриваясь к темноте.
С тех пор как Бенигсен, переписывавшийся с государем и имевший более всех силы в штабе, избегал его, Кутузов был спокойнее в том отношении, что его с войсками не заставят опять участвовать в бесполезных наступательных действиях. Урок Тарутинского сражения и кануна его, болезненно памятный Кутузову, тоже должен был подействовать, думал он.
«Они должны понять, что мы только можем проиграть, действуя наступательно. Терпение и время, вот мои воины богатыри!» – думал Кутузов. Он знал, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено. Оно само упадет, когда будет зрело, а сорвешь зелено, испортишь яблоко и дерево, и сам оскомину набьешь. Он, как опытный охотник, знал, что зверь ранен, ранен так, как только могла ранить вся русская сила, но смертельно или нет, это был еще не разъясненный вопрос. Теперь, по присылкам Лористона и Бертелеми и по донесениям партизанов, Кутузов почти знал, что он ранен смертельно. Но нужны были еще доказательства, надо было ждать.
«Им хочется бежать посмотреть, как они его убили. Подождите, увидите. Все маневры, все наступления! – думал он. – К чему? Все отличиться. Точно что то веселое есть в том, чтобы драться. Они точно дети, от которых не добьешься толку, как было дело, оттого что все хотят доказать, как они умеют драться. Да не в том теперь дело.
И какие искусные маневры предлагают мне все эти! Им кажется, что, когда они выдумали две три случайности (он вспомнил об общем плане из Петербурга), они выдумали их все. А им всем нет числа!»
Неразрешенный вопрос о том, смертельна или не смертельна ли была рана, нанесенная в Бородине, уже целый месяц висел над головой Кутузова. С одной стороны, французы заняли Москву. С другой стороны, несомненно всем существом своим Кутузов чувствовал, что тот страшный удар, в котором он вместе со всеми русскими людьми напряг все свои силы, должен был быть смертелен. Но во всяком случае нужны были доказательства, и он ждал их уже месяц, и чем дальше проходило время, тем нетерпеливее он становился. Лежа на своей постели в свои бессонные ночи, он делал то самое, что делала эта молодежь генералов, то самое, за что он упрекал их. Он придумывал все возможные случайности, в которых выразится эта верная, уже свершившаяся погибель Наполеона. Он придумывал эти случайности так же, как и молодежь, но только с той разницей, что он ничего не основывал на этих предположениях и что он видел их не две и три, а тысячи. Чем дальше он думал, тем больше их представлялось. Он придумывал всякого рода движения наполеоновской армии, всей или частей ее – к Петербургу, на него, в обход его, придумывал (чего он больше всего боялся) и ту случайность, что Наполеон станет бороться против него его же оружием, что он останется в Москве, выжидая его. Кутузов придумывал даже движение наполеоновской армии назад на Медынь и Юхнов, но одного, чего он не мог предвидеть, это того, что совершилось, того безумного, судорожного метания войска Наполеона в продолжение первых одиннадцати дней его выступления из Москвы, – метания, которое сделало возможным то, о чем все таки не смел еще тогда думать Кутузов: совершенное истребление французов. Донесения Дорохова о дивизии Брусье, известия от партизанов о бедствиях армии Наполеона, слухи о сборах к выступлению из Москвы – все подтверждало предположение, что французская армия разбита и сбирается бежать; но это были только предположения, казавшиеся важными для молодежи, но не для Кутузова. Он с своей шестидесятилетней опытностью знал, какой вес надо приписывать слухам, знал, как способны люди, желающие чего нибудь, группировать все известия так, что они как будто подтверждают желаемое, и знал, как в этом случае охотно упускают все противоречащее. И чем больше желал этого Кутузов, тем меньше он позволял себе этому верить. Вопрос этот занимал все его душевные силы. Все остальное было для него только привычным исполнением жизни. Таким привычным исполнением и подчинением жизни были его разговоры с штабными, письма к m me Stael, которые он писал из Тарутина, чтение романов, раздачи наград, переписка с Петербургом и т. п. Но погибель французов, предвиденная им одним, было его душевное, единственное желание.
В ночь 11 го октября он лежал, облокотившись на руку, и думал об этом.
В соседней комнате зашевелилось, и послышались шаги Толя, Коновницына и Болховитинова.
– Эй, кто там? Войдите, войди! Что новенького? – окликнул их фельдмаршал.
Пока лакей зажигал свечу, Толь рассказывал содержание известий.
– Кто привез? – спросил Кутузов с лицом, поразившим Толя, когда загорелась свеча, своей холодной строгостью.
– Не может быть сомнения, ваша светлость.
– Позови, позови его сюда!
Кутузов сидел, спустив одну ногу с кровати и навалившись большим животом на другую, согнутую ногу. Он щурил свой зрячий глаз, чтобы лучше рассмотреть посланного, как будто в его чертах он хотел прочесть то, что занимало его.
– Скажи, скажи, дружок, – сказал он Болховитинову своим тихим, старческим голосом, закрывая распахнувшуюся на груди рубашку. – Подойди, подойди поближе. Какие ты привез мне весточки? А? Наполеон из Москвы ушел? Воистину так? А?
Болховитинов подробно доносил сначала все то, что ему было приказано.
– Говори, говори скорее, не томи душу, – перебил его Кутузов.
Болховитинов рассказал все и замолчал, ожидая приказания. Толь начал было говорить что то, но Кутузов перебил его. Он хотел сказать что то, но вдруг лицо его сщурилось, сморщилось; он, махнув рукой на Толя, повернулся в противную сторону, к красному углу избы, черневшему от образов.
– Господи, создатель мой! Внял ты молитве нашей… – дрожащим голосом сказал он, сложив руки. – Спасена Россия. Благодарю тебя, господи! – И он заплакал.
Со времени этого известия и до конца кампании вся деятельность Кутузова заключается только в том, чтобы властью, хитростью, просьбами удерживать свои войска от бесполезных наступлений, маневров и столкновений с гибнущим врагом. Дохтуров идет к Малоярославцу, но Кутузов медлит со всей армией и отдает приказания об очищении Калуги, отступление за которую представляется ему весьма возможным.
Кутузов везде отступает, но неприятель, не дожидаясь его отступления, бежит назад, в противную сторону.
Историки Наполеона описывают нам искусный маневр его на Тарутино и Малоярославец и делают предположения о том, что бы было, если бы Наполеон успел проникнуть в богатые полуденные губернии.
Но не говоря о том, что ничто не мешало Наполеону идти в эти полуденные губернии (так как русская армия давала ему дорогу), историки забывают то, что армия Наполеона не могла быть спасена ничем, потому что она в самой себе несла уже тогда неизбежные условия гибели. Почему эта армия, нашедшая обильное продовольствие в Москве и не могшая удержать его, а стоптавшая его под ногами, эта армия, которая, придя в Смоленск, не разбирала продовольствия, а грабила его, почему эта армия могла бы поправиться в Калужской губернии, населенной теми же русскими, как и в Москве, и с тем же свойством огня сжигать то, что зажигают?
Армия не могла нигде поправиться. Она, с Бородинского сражения и грабежа Москвы, несла в себе уже как бы химические условия разложения.
Люди этой бывшей армии бежали с своими предводителями сами не зная куда, желая (Наполеон и каждый солдат) только одного: выпутаться лично как можно скорее из того безвыходного положения, которое, хотя и неясно, они все сознавали.
Только поэтому, на совете в Малоярославце, когда, притворяясь, что они, генералы, совещаются, подавая разные мнения, последнее мнение простодушного солдата Мутона, сказавшего то, что все думали, что надо только уйти как можно скорее, закрыло все рты, и никто, даже Наполеон, не мог сказать ничего против этой всеми сознаваемой истины.
Но хотя все и знали, что надо было уйти, оставался еще стыд сознания того, что надо бежать. И нужен был внешний толчок, который победил бы этот стыд. И толчок этот явился в нужное время. Это было так называемое у французов le Hourra de l'Empereur [императорское ура].
На другой день после совета Наполеон, рано утром, притворяясь, что хочет осматривать войска и поле прошедшего и будущего сражения, с свитой маршалов и конвоя ехал по середине линии расположения войск. Казаки, шнырявшие около добычи, наткнулись на самого императора и чуть чуть не поймали его. Ежели казаки не поймали в этот раз Наполеона, то спасло его то же, что губило французов: добыча, на которую и в Тарутине и здесь, оставляя людей, бросались казаки. Они, не обращая внимания на Наполеона, бросились на добычу, и Наполеон успел уйти.
Когда вот вот les enfants du Don [сыны Дона] могли поймать самого императора в середине его армии, ясно было, что нечего больше делать, как только бежать как можно скорее по ближайшей знакомой дороге. Наполеон, с своим сорокалетним брюшком, не чувствуя в себе уже прежней поворотливости и смелости, понял этот намек. И под влиянием страха, которого он набрался от казаков, тотчас же согласился с Мутоном и отдал, как говорят историки, приказание об отступлении назад на Смоленскую дорогу.
То, что Наполеон согласился с Мутоном и что войска пошли назад, не доказывает того, что он приказал это, но что силы, действовавшие на всю армию, в смысле направления ее по Можайской дороге, одновременно действовали и на Наполеона.
Когда человек находится в движении, он всегда придумывает себе цель этого движения. Для того чтобы идти тысячу верст, человеку необходимо думать, что что то хорошее есть за этими тысячью верст. Нужно представление об обетованной земле для того, чтобы иметь силы двигаться.
Обетованная земля при наступлении французов была Москва, при отступлении была родина. Но родина была слишком далеко, и для человека, идущего тысячу верст, непременно нужно сказать себе, забыв о конечной цели: «Нынче я приду за сорок верст на место отдыха и ночлега», и в первый переход это место отдыха заслоняет конечную цель и сосредоточивает на себе все желанья и надежды. Те стремления, которые выражаются в отдельном человеке, всегда увеличиваются в толпе.
Для французов, пошедших назад по старой Смоленской дороге, конечная цель родины была слишком отдалена, и ближайшая цель, та, к которой, в огромной пропорции усиливаясь в толпе, стремились все желанья и надежды, – была Смоленск. Не потому, чтобы люди знала, что в Смоленске было много провианту и свежих войск, не потому, чтобы им говорили это (напротив, высшие чины армии и сам Наполеон знали, что там мало провианта), но потому, что это одно могло им дать силу двигаться и переносить настоящие лишения. Они, и те, которые знали, и те, которые не знали, одинаково обманывая себя, как к обетованной земле, стремились к Смоленску.
Выйдя на большую дорогу, французы с поразительной энергией, с быстротою неслыханной побежали к своей выдуманной цели. Кроме этой причины общего стремления, связывавшей в одно целое толпы французов и придававшей им некоторую энергию, была еще другая причина, связывавшая их. Причина эта состояла в их количестве. Сама огромная масса их, как в физическом законе притяжения, притягивала к себе отдельные атомы людей. Они двигались своей стотысячной массой как целым государством.
Каждый человек из них желал только одного – отдаться в плен, избавиться от всех ужасов и несчастий. Но, с одной стороны, сила общего стремления к цели Смоленска увлекала каждою в одном и том же направлении; с другой стороны – нельзя было корпусу отдаться в плен роте, и, несмотря на то, что французы пользовались всяким удобным случаем для того, чтобы отделаться друг от друга и при малейшем приличном предлоге отдаваться в плен, предлоги эти не всегда случались. Самое число их и тесное, быстрое движение лишало их этой возможности и делало для русских не только трудным, но невозможным остановить это движение, на которое направлена была вся энергия массы французов. Механическое разрывание тела не могло ускорить дальше известного предела совершавшийся процесс разложения.
Ком снега невозможно растопить мгновенно. Существует известный предел времени, ранее которого никакие усилия тепла не могут растопить снега. Напротив, чем больше тепла, тем более крепнет остающийся снег.
Из русских военачальников никто, кроме Кутузова, не понимал этого. Когда определилось направление бегства французской армии по Смоленской дороге, тогда то, что предвидел Коновницын в ночь 11 го октября, начало сбываться. Все высшие чины армии хотели отличиться, отрезать, перехватить, полонить, опрокинуть французов, и все требовали наступления.
Кутузов один все силы свои (силы эти очень невелики у каждого главнокомандующего) употреблял на то, чтобы противодействовать наступлению.
Он не мог им сказать то, что мы говорим теперь: зачем сраженье, и загораживанье дороги, и потеря своих людей, и бесчеловечное добиванье несчастных? Зачем все это, когда от Москвы до Вязьмы без сражения растаяла одна треть этого войска? Но он говорил им, выводя из своей старческой мудрости то, что они могли бы понять, – он говорил им про золотой мост, и они смеялись над ним, клеветали его, и рвали, и метали, и куражились над убитым зверем.
Под Вязьмой Ермолов, Милорадович, Платов и другие, находясь в близости от французов, не могли воздержаться от желания отрезать и опрокинуть два французские корпуса. Кутузову, извещая его о своем намерении, они прислали в конверте, вместо донесения, лист белой бумаги.
И сколько ни старался Кутузов удержать войска, войска наши атаковали, стараясь загородить дорогу. Пехотные полки, как рассказывают, с музыкой и барабанным боем ходили в атаку и побили и потеряли тысячи людей.
Но отрезать – никого не отрезали и не опрокинули. И французское войско, стянувшись крепче от опасности, продолжало, равномерно тая, все тот же свой гибельный путь к Смоленску.
Бородинское сражение с последовавшими за ним занятием Москвы и бегством французов, без новых сражений, – есть одно из самых поучительных явлений истории.
Все историки согласны в том, что внешняя деятельность государств и народов, в их столкновениях между собой, выражается войнами; что непосредственно, вследствие больших или меньших успехов военных, увеличивается или уменьшается политическая сила государств и народов.
Как ни странны исторические описания того, как какой нибудь король или император, поссорившись с другим императором или королем, собрал войско, сразился с войском врага, одержал победу, убил три, пять, десять тысяч человек и вследствие того покорил государство и целый народ в несколько миллионов; как ни непонятно, почему поражение одной армии, одной сотой всех сил народа, заставило покориться народ, – все факты истории (насколько она нам известна) подтверждают справедливость того, что большие или меньшие успехи войска одного народа против войска другого народа суть причины или, по крайней мере, существенные признаки увеличения или уменьшения силы народов. Войско одержало победу, и тотчас же увеличились права победившего народа в ущерб побежденному. Войско понесло поражение, и тотчас же по степени поражения народ лишается прав, а при совершенном поражении своего войска совершенно покоряется.
Так было (по истории) с древнейших времен и до настоящего времени. Все войны Наполеона служат подтверждением этого правила. По степени поражения австрийских войск – Австрия лишается своих прав, и увеличиваются права и силы Франции. Победа французов под Иеной и Ауерштетом уничтожает самостоятельное существование Пруссии.
Но вдруг в 1812 м году французами одержана победа под Москвой, Москва взята, и вслед за тем, без новых сражений, не Россия перестала существовать, а перестала существовать шестисоттысячная армия, потом наполеоновская Франция. Натянуть факты на правила истории, сказать, что поле сражения в Бородине осталось за русскими, что после Москвы были сражения, уничтожившие армию Наполеона, – невозможно.
После Бородинской победы французов не было ни одного не только генерального, но сколько нибудь значительного сражения, и французская армия перестала существовать. Что это значит? Ежели бы это был пример из истории Китая, мы бы могли сказать, что это явление не историческое (лазейка историков, когда что не подходит под их мерку); ежели бы дело касалось столкновения непродолжительного, в котором участвовали бы малые количества войск, мы бы могли принять это явление за исключение; но событие это совершилось на глазах наших отцов, для которых решался вопрос жизни и смерти отечества, и война эта была величайшая из всех известных войн…
Период кампании 1812 года от Бородинского сражения до изгнания французов доказал, что выигранное сражение не только не есть причина завоевания, но даже и не постоянный признак завоевания; доказал, что сила, решающая участь народов, лежит не в завоевателях, даже на в армиях и сражениях, а в чем то другом.
Французские историки, описывая положение французского войска перед выходом из Москвы, утверждают, что все в Великой армии было в порядке, исключая кавалерии, артиллерии и обозов, да не было фуража для корма лошадей и рогатого скота. Этому бедствию не могло помочь ничто, потому что окрестные мужики жгли свое сено и не давали французам.
Выигранное сражение не принесло обычных результатов, потому что мужики Карп и Влас, которые после выступления французов приехали в Москву с подводами грабить город и вообще не выказывали лично геройских чувств, и все бесчисленное количество таких мужиков не везли сена в Москву за хорошие деньги, которые им предлагали, а жгли его.
Представим себе двух людей, вышедших на поединок с шпагами по всем правилам фехтовального искусства: фехтование продолжалось довольно долгое время; вдруг один из противников, почувствовав себя раненым – поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. Но представим себе, что противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели, вместе с тем воодушевленный преданиями рыцарства, захотел бы скрыть сущность дела и настаивал бы на том, что он по всем правилам искусства победил на шпагах. Можно себе представить, какая путаница и неясность произошла бы от такого описания происшедшего поединка.
Фехтовальщик, требовавший борьбы по правилам искусства, были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские; люди, старающиеся объяснить все по правилам фехтования, – историки, которые писали об этом событии.
Со времени пожара Смоленска началась война, не подходящая ни под какие прежние предания войн. Сожжение городов и деревень, отступление после сражений, удар Бородина и опять отступление, оставление и пожар Москвы, ловля мародеров, переимка транспортов, партизанская война – все это были отступления от правил.
Наполеон чувствовал это, и с самого того времени, когда он в правильной позе фехтовальщика остановился в Москве и вместо шпаги противника увидал поднятую над собой дубину, он не переставал жаловаться Кутузову и императору Александру на то, что война велась противно всем правилам (как будто существовали какие то правила для того, чтобы убивать людей). Несмотря на жалобы французов о неисполнении правил, несмотря на то, что русским, высшим по положению людям казалось почему то стыдным драться дубиной, а хотелось по всем правилам стать в позицию en quarte или en tierce [четвертую, третью], сделать искусное выпадение в prime [первую] и т. д., – дубина народной войны поднялась со всей своей грозной и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, с глупой простотой, но с целесообразностью, не разбирая ничего, поднималась, опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло все нашествие.
И благо тому народу, который не как французы в 1813 году, отсалютовав по всем правилам искусства и перевернув шпагу эфесом, грациозно и учтиво передает ее великодушному победителю, а благо тому народу, который в минуту испытания, не спрашивая о том, как по правилам поступали другие в подобных случаях, с простотою и легкостью поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменяется презрением и жалостью.
Одним из самых осязательных и выгодных отступлений от так называемых правил войны есть действие разрозненных людей против людей, жмущихся в кучу. Такого рода действия всегда проявляются в войне, принимающей народный характер. Действия эти состоят в том, что, вместо того чтобы становиться толпой против толпы, люди расходятся врозь, нападают поодиночке и тотчас же бегут, когда на них нападают большими силами, а потом опять нападают, когда представляется случай. Это делали гверильясы в Испании; это делали горцы на Кавказе; это делали русские в 1812 м году.
Войну такого рода назвали партизанскою и полагали, что, назвав ее так, объяснили ее значение. Между тем такого рода война не только не подходит ни под какие правила, но прямо противоположна известному и признанному за непогрешимое тактическому правилу. Правило это говорит, что атакующий должен сосредоточивать свои войска с тем, чтобы в момент боя быть сильнее противника.
Партизанская война (всегда успешная, как показывает история) прямо противуположна этому правилу.
Противоречие это происходит оттого, что военная наука принимает силу войск тождественною с их числительностию. Военная наука говорит, что чем больше войска, тем больше силы. Les gros bataillons ont toujours raison. [Право всегда на стороне больших армий.]
Говоря это, военная наука подобна той механике, которая, основываясь на рассмотрении сил только по отношению к их массам, сказала бы, что силы равны или не равны между собою, потому что равны или не равны их массы.
Сила (количество движения) есть произведение из массы на скорость.
В военном деле сила войска есть также произведение из массы на что то такое, на какое то неизвестное х.
Военная наука, видя в истории бесчисленное количество примеров того, что масса войск не совпадает с силой, что малые отряды побеждают большие, смутно признает существование этого неизвестного множителя и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то – самое обыкновенное – в гениальности полководцев. Но подстановление всех этих значений множителя не доставляет результатов, согласных с историческими фактами.
А между тем стоит только отрешиться от установившегося, в угоду героям, ложного взгляда на действительность распоряжений высших властей во время войны для того, чтобы отыскать этот неизвестный х.
Х этот есть дух войска, то есть большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасностям всех людей, составляющих войско, совершенно независимо от того, дерутся ли люди под командой гениев или не гениев, в трех или двух линиях, дубинами или ружьями, стреляющими тридцать раз в минуту. Люди, имеющие наибольшее желание драться, всегда поставят себя и в наивыгоднейшие условия для драки.
Дух войска – есть множитель на массу, дающий произведение силы. Определить и выразить значение духа войска, этого неизвестного множителя, есть задача науки.
Задача эта возможна только тогда, когда мы перестанем произвольно подставлять вместо значения всего неизвестного Х те условия, при которых проявляется сила, как то: распоряжения полководца, вооружение и т. д., принимая их за значение множителя, а признаем это неизвестное во всей его цельности, то есть как большее или меньшее желание драться и подвергать себя опасности. Тогда только, выражая уравнениями известные исторические факты, из сравнения относительного значения этого неизвестного можно надеяться на определение самого неизвестного.
Десять человек, батальонов или дивизий, сражаясь с пятнадцатью человеками, батальонами или дивизиями, победили пятнадцать, то есть убили и забрали в плен всех без остатка и сами потеряли четыре; стало быть, уничтожились с одной стороны четыре, с другой стороны пятнадцать. Следовательно, четыре были равны пятнадцати, и, следовательно, 4а:=15у. Следовательно, ж: г/==15:4. Уравнение это не дает значения неизвестного, но оно дает отношение между двумя неизвестными. И из подведения под таковые уравнения исторических различно взятых единиц (сражений, кампаний, периодов войн) получатся ряды чисел, в которых должны существовать и могут быть открыты законы.
Тактическое правило о том, что надо действовать массами при наступлении и разрозненно при отступлении, бессознательно подтверждает только ту истину, что сила войска зависит от его духа. Для того чтобы вести людей под ядра, нужно больше дисциплины, достигаемой только движением в массах, чем для того, чтобы отбиваться от нападающих. Но правило это, при котором упускается из вида дух войска, беспрестанно оказывается неверным и в особенности поразительно противоречит действительности там, где является сильный подъем или упадок духа войска, – во всех народных войнах.
Французы, отступая в 1812 м году, хотя и должны бы защищаться отдельно, по тактике, жмутся в кучу, потому что дух войска упал так, что только масса сдерживает войско вместе. Русские, напротив, по тактике должны бы были нападать массой, на деле же раздробляются, потому что дух поднят так, что отдельные лица бьют без приказания французов и не нуждаются в принуждении для того, чтобы подвергать себя трудам и опасностям.
Так называемая партизанская война началась со вступления неприятеля в Смоленск.
Прежде чем партизанская война была официально принята нашим правительством, уже тысячи людей неприятельской армии – отсталые мародеры, фуражиры – были истреблены казаками и мужиками, побивавшими этих людей так же бессознательно, как бессознательно собаки загрызают забеглую бешеную собаку. Денис Давыдов своим русским чутьем первый понял значение той страшной дубины, которая, не спрашивая правил военного искусства, уничтожала французов, и ему принадлежит слава первого шага для узаконения этого приема войны.
24 го августа был учрежден первый партизанский отряд Давыдова, и вслед за его отрядом стали учреждаться другие. Чем дальше подвигалась кампания, тем более увеличивалось число этих отрядов.
Партизаны уничтожали Великую армию по частям. Они подбирали те отпадавшие листья, которые сами собою сыпались с иссохшего дерева – французского войска, и иногда трясли это дерево. В октябре, в то время как французы бежали к Смоленску, этих партий различных величин и характеров были сотни. Были партии, перенимавшие все приемы армии, с пехотой, артиллерией, штабами, с удобствами жизни; были одни казачьи, кавалерийские; были мелкие, сборные, пешие и конные, были мужицкие и помещичьи, никому не известные. Был дьячок начальником партии, взявший в месяц несколько сот пленных. Была старостиха Василиса, побившая сотни французов.
Последние числа октября было время самого разгара партизанской войны. Тот первый период этой войны, во время которого партизаны, сами удивляясь своей дерзости, боялись всякую минуту быть пойманными и окруженными французами и, не расседлывая и почти не слезая с лошадей, прятались по лесам, ожидая всякую минуту погони, – уже прошел. Теперь уже война эта определилась, всем стало ясно, что можно было предпринять с французами и чего нельзя было предпринимать. Теперь уже только те начальники отрядов, которые с штабами, по правилам ходили вдали от французов, считали еще многое невозможным. Мелкие же партизаны, давно уже начавшие свое дело и близко высматривавшие французов, считали возможным то, о чем не смели и думать начальники больших отрядов. Казаки же и мужики, лазившие между французами, считали, что теперь уже все было возможно.
22 го октября Денисов, бывший одним из партизанов, находился с своей партией в самом разгаре партизанской страсти. С утра он с своей партией был на ходу. Он целый день по лесам, примыкавшим к большой дороге, следил за большим французским транспортом кавалерийских вещей и русских пленных, отделившимся от других войск и под сильным прикрытием, как это было известно от лазутчиков и пленных, направлявшимся к Смоленску. Про этот транспорт было известно не только Денисову и Долохову (тоже партизану с небольшой партией), ходившему близко от Денисова, но и начальникам больших отрядов с штабами: все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на него зубы. Двое из этих больших отрядных начальников – один поляк, другой немец – почти в одно и то же время прислали Денисову приглашение присоединиться каждый к своему отряду, с тем чтобы напасть на транспорт.
– Нет, бг'ат, я сам с усам, – сказал Денисов, прочтя эти бумаги, и написал немцу, что, несмотря на душевное желание, которое он имел служить под начальством столь доблестного и знаменитого генерала, он должен лишить себя этого счастья, потому что уже поступил под начальство генерала поляка. Генералу же поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил под начальство немца.
Распорядившись таким образом, Денисов намеревался, без донесения о том высшим начальникам, вместе с Долоховым атаковать и взять этот транспорт своими небольшими силами. Транспорт шел 22 октября от деревни Микулиной к деревне Шамшевой. С левой стороны дороги от Микулина к Шамшеву шли большие леса, местами подходившие к самой дороге, местами отдалявшиеся от дороги на версту и больше. По этим то лесам целый день, то углубляясь в середину их, то выезжая на опушку, ехал с партией Денисов, не выпуская из виду двигавшихся французов. С утра, недалеко от Микулина, там, где лес близко подходил к дороге, казаки из партии Денисова захватили две ставшие в грязи французские фуры с кавалерийскими седлами и увезли их в лес. С тех пор и до самого вечера партия, не нападая, следила за движением французов. Надо было, не испугав их, дать спокойно дойти до Шамшева и тогда, соединившись с Долоховым, который должен был к вечеру приехать на совещание к караулке в лесу (в версте от Шамшева), на рассвете пасть с двух сторон как снег на голову и побить и забрать всех разом.
Позади, в двух верстах от Микулина, там, где лес подходил к самой дороге, было оставлено шесть казаков, которые должны были донести сейчас же, как только покажутся новые колонны французов.
Впереди Шамшева точно так же Долохов должен был исследовать дорогу, чтобы знать, на каком расстоянии есть еще другие французские войска. При транспорте предполагалось тысяча пятьсот человек. У Денисова было двести человек, у Долохова могло быть столько же. Но превосходство числа не останавливало Денисова. Одно только, что еще нужно было знать ему, это то, какие именно были эти войска; и для этой цели Денисову нужно было взять языка (то есть человека из неприятельской колонны). В утреннее нападение на фуры дело сделалось с такою поспешностью, что бывших при фурах французов всех перебили и захватили живым только мальчишку барабанщика, который был отсталый и ничего не мог сказать положительно о том, какие были войска в колонне.
Нападать другой раз Денисов считал опасным, чтобы не встревожить всю колонну, и потому он послал вперед в Шамшево бывшего при его партии мужика Тихона Щербатого – захватить, ежели можно, хоть одного из бывших там французских передовых квартиргеров.
Был осенний, теплый, дождливый день. Небо и горизонт были одного и того же цвета мутной воды. То падал как будто туман, то вдруг припускал косой, крупный дождь.
На породистой, худой, с подтянутыми боками лошади, в бурке и папахе, с которых струилась вода, ехал Денисов. Он, так же как и его лошадь, косившая голову и поджимавшая уши, морщился от косого дождя и озабоченно присматривался вперед. Исхудавшее и обросшее густой, короткой, черной бородой лицо его казалось сердито.
Рядом с Денисовым, также в бурке и папахе, на сытом, крупном донце ехал казачий эсаул – сотрудник Денисова.
Эсаул Ловайский – третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек, с узкими светлыми глазками и спокойно самодовольным выражением и в лице и в посадке. Хотя и нельзя было сказать, в чем состояла особенность лошади и седока, но при первом взгляде на эсаула и Денисова видно было, что Денисову и мокро и неловко, – что Денисов человек, который сел на лошадь; тогда как, глядя на эсаула, видно было, что ему так же удобно и покойно, как и всегда, и что он не человек, который сел на лошадь, а человек вместе с лошадью одно, увеличенное двойною силою, существо.
Немного впереди их шел насквозь промокший мужичок проводник, в сером кафтане и белом колпаке.
Немного сзади, на худой, тонкой киргизской лошаденке с огромным хвостом и гривой и с продранными в кровь губами, ехал молодой офицер в синей французской шинели.
Рядом с ним ехал гусар, везя за собой на крупе лошади мальчика в французском оборванном мундире и синем колпаке. Мальчик держался красными от холода руками за гусара, пошевеливал, стараясь согреть их, свои босые ноги, и, подняв брови, удивленно оглядывался вокруг себя. Это был взятый утром французский барабанщик.
Сзади, по три, по четыре, по узкой, раскиснувшей и изъезженной лесной дороге, тянулись гусары, потом казаки, кто в бурке, кто во французской шинели, кто в попоне, накинутой на голову. Лошади, и рыжие и гнедые, все казались вороными от струившегося с них дождя. Шеи лошадей казались странно тонкими от смокшихся грив. От лошадей поднимался пар. И одежды, и седла, и поводья – все было мокро, склизко и раскисло, так же как и земля, и опавшие листья, которыми была уложена дорога. Люди сидели нахохлившись, стараясь не шевелиться, чтобы отогревать ту воду, которая пролилась до тела, и не пропускать новую холодную, подтекавшую под сиденья, колени и за шеи. В середине вытянувшихся казаков две фуры на французских и подпряженных в седлах казачьих лошадях громыхали по пням и сучьям и бурчали по наполненным водою колеям дороги.
Лошадь Денисова, обходя лужу, которая была на дороге, потянулась в сторону и толканула его коленкой о дерево.
– Э, чег'т! – злобно вскрикнул Денисов и, оскаливая зубы, плетью раза три ударил лошадь, забрызгав себя и товарищей грязью. Денисов был не в духе: и от дождя и от голода (с утра никто ничего не ел), и главное оттого, что от Долохова до сих пор не было известий и посланный взять языка не возвращался.
«Едва ли выйдет другой такой случай, как нынче, напасть на транспорт. Одному нападать слишком рискованно, а отложить до другого дня – из под носа захватит добычу кто нибудь из больших партизанов», – думал Денисов, беспрестанно взглядывая вперед, думая увидать ожидаемого посланного от Долохова.
Выехав на просеку, по которой видно было далеко направо, Денисов остановился.
– Едет кто то, – сказал он.
Эсаул посмотрел по направлению, указываемому Денисовым.
– Едут двое – офицер и казак. Только не предположительно, чтобы был сам подполковник, – сказал эсаул, любивший употреблять неизвестные казакам слова.
Ехавшие, спустившись под гору, скрылись из вида и через несколько минут опять показались. Впереди усталым галопом, погоняя нагайкой, ехал офицер – растрепанный, насквозь промокший и с взбившимися выше колен панталонами. За ним, стоя на стременах, рысил казак. Офицер этот, очень молоденький мальчик, с широким румяным лицом и быстрыми, веселыми глазами, подскакал к Денисову и подал ему промокший конверт.
– От генерала, – сказал офицер, – извините, что не совсем сухо…
Денисов, нахмурившись, взял конверт и стал распечатывать.
– Вот говорили всё, что опасно, опасно, – сказал офицер, обращаясь к эсаулу, в то время как Денисов читал поданный ему конверт. – Впрочем, мы с Комаровым, – он указал на казака, – приготовились. У нас по два писто… А это что ж? – спросил он, увидав французского барабанщика, – пленный? Вы уже в сраженье были? Можно с ним поговорить?
– Ростов! Петя! – крикнул в это время Денисов, пробежав поданный ему конверт. – Да как же ты не сказал, кто ты? – И Денисов с улыбкой, обернувшись, протянул руку офицеру.
Офицер этот был Петя Ростов.
Во всю дорогу Петя приготавливался к тому, как он, как следует большому и офицеру, не намекая на прежнее знакомство, будет держать себя с Денисовым. Но как только Денисов улыбнулся ему, Петя тотчас же просиял, покраснел от радости и, забыв приготовленную официальность, начал рассказывать о том, как он проехал мимо французов, и как он рад, что ему дано такое поручение, и что он был уже в сражении под Вязьмой, и что там отличился один гусар.
– Ну, я г'ад тебя видеть, – перебил его Денисов, и лицо его приняло опять озабоченное выражение.
– Михаил Феоклитыч, – обратился он к эсаулу, – ведь это опять от немца. Он пг'и нем состоит. – И Денисов рассказал эсаулу, что содержание бумаги, привезенной сейчас, состояло в повторенном требовании от генерала немца присоединиться для нападения на транспорт. – Ежели мы его завтг'а не возьмем, они у нас из под носа выг'вут, – заключил он.
В то время как Денисов говорил с эсаулом, Петя, сконфуженный холодным тоном Денисова и предполагая, что причиной этого тона было положение его панталон, так, чтобы никто этого не заметил, под шинелью поправлял взбившиеся панталоны, стараясь иметь вид как можно воинственнее.
– Будет какое нибудь приказание от вашего высокоблагородия? – сказал он Денисову, приставляя руку к козырьку и опять возвращаясь к игре в адъютанта и генерала, к которой он приготовился, – или должен я оставаться при вашем высокоблагородии?
– Приказания?.. – задумчиво сказал Денисов. – Да ты можешь ли остаться до завтрашнего дня?
– Ах, пожалуйста… Можно мне при вас остаться? – вскрикнул Петя.
– Да как тебе именно велено от генег'ала – сейчас вег'нуться? – спросил Денисов. Петя покраснел.
– Да он ничего не велел. Я думаю, можно? – сказал он вопросительно.
– Ну, ладно, – сказал Денисов. И, обратившись к своим подчиненным, он сделал распоряжения о том, чтоб партия шла к назначенному у караулки в лесу месту отдыха и чтобы офицер на киргизской лошади (офицер этот исполнял должность адъютанта) ехал отыскивать Долохова, узнать, где он и придет ли он вечером. Сам же Денисов с эсаулом и Петей намеревался подъехать к опушке леса, выходившей к Шамшеву, с тем, чтобы взглянуть на то место расположения французов, на которое должно было быть направлено завтрашнее нападение.
– Ну, бог'ода, – обратился он к мужику проводнику, – веди к Шамшеву.
Денисов, Петя и эсаул, сопутствуемые несколькими казаками и гусаром, который вез пленного, поехали влево через овраг, к опушке леса.
Дождик прошел, только падал туман и капли воды с веток деревьев. Денисов, эсаул и Петя молча ехали за мужиком в колпаке, который, легко и беззвучно ступая своими вывернутыми в лаптях ногами по кореньям и мокрым листьям, вел их к опушке леса.
Выйдя на изволок, мужик приостановился, огляделся и направился к редевшей стене деревьев. У большого дуба, еще не скинувшего листа, он остановился и таинственно поманил к себе рукою.
Денисов и Петя подъехали к нему. С того места, на котором остановился мужик, были видны французы. Сейчас за лесом шло вниз полубугром яровое поле. Вправо, через крутой овраг, виднелась небольшая деревушка и барский домик с разваленными крышами. В этой деревушке и в барском доме, и по всему бугру, в саду, у колодцев и пруда, и по всей дороге в гору от моста к деревне, не более как в двухстах саженях расстояния, виднелись в колеблющемся тумане толпы народа. Слышны были явственно их нерусские крики на выдиравшихся в гору лошадей в повозках и призывы друг другу.
– Пленного дайте сюда, – негромко сказал Денисоп, не спуская глаз с французов.
Казак слез с лошади, снял мальчика и вместе с ним подошел к Денисову. Денисов, указывая на французов, спрашивал, какие и какие это были войска. Мальчик, засунув свои озябшие руки в карманы и подняв брови, испуганно смотрел на Денисова и, несмотря на видимое желание сказать все, что он знал, путался в своих ответах и только подтверждал то, что спрашивал Денисов. Денисов, нахмурившись, отвернулся от него и обратился к эсаулу, сообщая ему свои соображения.
Петя, быстрыми движениями поворачивая голову, оглядывался то на барабанщика, то на Денисова, то на эсаула, то на французов в деревне и на дороге, стараясь не пропустить чего нибудь важного.
– Пг'идет, не пг'идет Долохов, надо бг'ать!.. А? – сказал Денисов, весело блеснув глазами.
– Место удобное, – сказал эсаул.
– Пехоту низом пошлем – болотами, – продолжал Денисов, – они подлезут к саду; вы заедете с казаками оттуда, – Денисов указал на лес за деревней, – а я отсюда, с своими гусаг'ами. И по выстг'елу…
– Лощиной нельзя будет – трясина, – сказал эсаул. – Коней увязишь, надо объезжать полевее…
В то время как они вполголоса говорили таким образом, внизу, в лощине от пруда, щелкнул один выстрел, забелелся дымок, другой и послышался дружный, как будто веселый крик сотен голосов французов, бывших на полугоре. В первую минуту и Денисов и эсаул подались назад. Они были так близко, что им показалось, что они были причиной этих выстрелов и криков. Но выстрелы и крики не относились к ним. Низом, по болотам, бежал человек в чем то красном. Очевидно, по нем стреляли и на него кричали французы.
– Ведь это Тихон наш, – сказал эсаул.
– Он! он и есть!
– Эка шельма, – сказал Денисов.
– Уйдет! – щуря глаза, сказал эсаул.
Человек, которого они называли Тихоном, подбежав к речке, бултыхнулся в нее так, что брызги полетели, и, скрывшись на мгновенье, весь черный от воды, выбрался на четвереньках и побежал дальше. Французы, бежавшие за ним, остановились.
– Ну ловок, – сказал эсаул.
– Экая бестия! – с тем же выражением досады проговорил Денисов. – И что он делал до сих пор?
– Это кто? – спросил Петя.
– Это наш пластун. Я его посылал языка взять.
– Ах, да, – сказал Петя с первого слова Денисова, кивая головой, как будто он все понял, хотя он решительно не понял ни одного слова.
Тихон Щербатый был один из самых нужных людей в партии. Он был мужик из Покровского под Гжатью. Когда, при начале своих действий, Денисов пришел в Покровское и, как всегда, призвав старосту, спросил о том, что им известно про французов, староста отвечал, как отвечали и все старосты, как бы защищаясь, что они ничего знать не знают, ведать не ведают. Но когда Денисов объяснил им, что его цель бить французов, и когда он спросил, не забредали ли к ним французы, то староста сказал, что мародеры бывали точно, но что у них в деревне только один Тишка Щербатый занимался этими делами. Денисов велел позвать к себе Тихона и, похвалив его за его деятельность, сказал при старосте несколько слов о той верности царю и отечеству и ненависти к французам, которую должны блюсти сыны отечества.
– Мы французам худого не делаем, – сказал Тихон, видимо оробев при этих словах Денисова. – Мы только так, значит, по охоте баловались с ребятами. Миродеров точно десятка два побили, а то мы худого не делали… – На другой день, когда Денисов, совершенно забыв про этого мужика, вышел из Покровского, ему доложили, что Тихон пристал к партии и просился, чтобы его при ней оставили. Денисов велел оставить его.
Тихон, сначала исправлявший черную работу раскладки костров, доставления воды, обдирания лошадей и т. п., скоро оказал большую охоту и способность к партизанской войне. Он по ночам уходил на добычу и всякий раз приносил с собой платье и оружие французское, а когда ему приказывали, то приводил и пленных. Денисов отставил Тихона от работ, стал брать его с собою в разъезды и зачислил в казаки.
Тихон не любил ездить верхом и всегда ходил пешком, никогда не отставая от кавалерии. Оружие его составляли мушкетон, который он носил больше для смеха, пика и топор, которым он владел, как волк владеет зубами, одинаково легко выбирая ими блох из шерсти и перекусывая толстые кости. Тихон одинаково верно, со всего размаха, раскалывал топором бревна и, взяв топор за обух, выстрагивал им тонкие колышки и вырезывал ложки. В партии Денисова Тихон занимал свое особенное, исключительное место. Когда надо было сделать что нибудь особенно трудное и гадкое – выворотить плечом в грязи повозку, за хвост вытащить из болота лошадь, ободрать ее, залезть в самую середину французов, пройти в день по пятьдесят верст, – все указывали, посмеиваясь, на Тихона.
– Что ему, черту, делается, меренина здоровенный, – говорили про него.
Один раз француз, которого брал Тихон, выстрелил в него из пистолета и попал ему в мякоть спины. Рана эта, от которой Тихон лечился только водкой, внутренне и наружно, была предметом самых веселых шуток во всем отряде и шуток, которым охотно поддавался Тихон.
– Что, брат, не будешь? Али скрючило? – смеялись ему казаки, и Тихон, нарочно скорчившись и делая рожи, притворяясь, что он сердится, самыми смешными ругательствами бранил французов. Случай этот имел на Тихона только то влияние, что после своей раны он редко приводил пленных.
Тихон был самый полезный и храбрый человек в партии. Никто больше его не открыл случаев нападения, никто больше его не побрал и не побил французов; и вследствие этого он был шут всех казаков, гусаров и сам охотно поддавался этому чину. Теперь Тихон был послан Денисовым, в ночь еще, в Шамшево для того, чтобы взять языка. Но, или потому, что он не удовлетворился одним французом, или потому, что он проспал ночь, он днем залез в кусты, в самую середину французов и, как видел с горы Денисов, был открыт ими.
Поговорив еще несколько времени с эсаулом о завтрашнем нападении, которое теперь, глядя на близость французов, Денисов, казалось, окончательно решил, он повернул лошадь и поехал назад.
– Ну, бг'ат, тепег'ь поедем обсушимся, – сказал он Пете.
Подъезжая к лесной караулке, Денисов остановился, вглядываясь в лес. По лесу, между деревьев, большими легкими шагами шел на длинных ногах, с длинными мотающимися руками, человек в куртке, лаптях и казанской шляпе, с ружьем через плечо и топором за поясом. Увидав Денисова, человек этот поспешно швырнул что то в куст и, сняв с отвисшими полями мокрую шляпу, подошел к начальнику. Это был Тихон. Изрытое оспой и морщинами лицо его с маленькими узкими глазами сияло самодовольным весельем. Он, высоко подняв голову и как будто удерживаясь от смеха, уставился на Денисова.
– Ну где пг'опадал? – сказал Денисов.
– Где пропадал? За французами ходил, – смело и поспешно отвечал Тихон хриплым, но певучим басом.
– Зачем же ты днем полез? Скотина! Ну что ж, не взял?..
– Взять то взял, – сказал Тихон.
– Где ж он?
– Да я его взял сперва наперво на зорьке еще, – продолжал Тихон, переставляя пошире плоские, вывернутые в лаптях ноги, – да и свел в лес. Вижу, не ладен. Думаю, дай схожу, другого поаккуратнее какого возьму.
– Ишь, шельма, так и есть, – сказал Денисов эсаулу. – Зачем же ты этого не пг'ивел?
– Да что ж его водить то, – сердито и поспешно перебил Тихон, – не гожающий. Разве я не знаю, каких вам надо?
– Эка бестия!.. Ну?..
– Пошел за другим, – продолжал Тихон, – подполоз я таким манером в лес, да и лег. – Тихон неожиданно и гибко лег на брюхо, представляя в лицах, как он это сделал. – Один и навернись, – продолжал он. – Я его таким манером и сграбь. – Тихон быстро, легко вскочил. – Пойдем, говорю, к полковнику. Как загалдит. А их тут четверо. Бросились на меня с шпажками. Я на них таким манером топором: что вы, мол, Христос с вами, – вскрикнул Тихон, размахнув руками и грозно хмурясь, выставляя грудь.
– То то мы с горы видели, как ты стречка задавал через лужи то, – сказал эсаул, суживая свои блестящие глаза.
Пете очень хотелось смеяться, но он видел, что все удерживались от смеха. Он быстро переводил глаза с лица Тихона на лицо эсаула и Денисова, не понимая того, что все это значило.
– Ты дуг'ака то не представляй, – сказал Денисов, сердито покашливая. – Зачем пег'вого не пг'ивел?
Тихон стал чесать одной рукой спину, другой голову, и вдруг вся рожа его растянулась в сияющую глупую улыбку, открывшую недостаток зуба (за что он и прозван Щербатый). Денисов улыбнулся, и Петя залился веселым смехом, к которому присоединился и сам Тихон.
– Да что, совсем несправный, – сказал Тихон. – Одежонка плохенькая на нем, куда же его водить то. Да и грубиян, ваше благородие. Как же, говорит, я сам анаральский сын, не пойду, говорит.
– Экая скотина! – сказал Денисов. – Мне расспросить надо…
– Да я его спрашивал, – сказал Тихон. – Он говорит: плохо зн аком. Наших, говорит, и много, да всё плохие; только, говорит, одна названия. Ахнете, говорит, хорошенько, всех заберете, – заключил Тихон, весело и решительно взглянув в глаза Денисова.
– Вот я те всыплю сотню гог'ячих, ты и будешь дуг'ака то ког'чить, – сказал Денисов строго.
– Да что же серчать то, – сказал Тихон, – что ж, я не видал французов ваших? Вот дай позатемняет, я табе каких хошь, хоть троих приведу.
– Ну, поедем, – сказал Денисов, и до самой караулки он ехал, сердито нахмурившись и молча.
Тихон зашел сзади, и Петя слышал, как смеялись с ним и над ним казаки о каких то сапогах, которые он бросил в куст.
Когда прошел тот овладевший им смех при словах и улыбке Тихона, и Петя понял на мгновенье, что Тихон этот убил человека, ему сделалось неловко. Он оглянулся на пленного барабанщика, и что то кольнуло его в сердце. Но эта неловкость продолжалась только одно мгновенье. Он почувствовал необходимость повыше поднять голову, подбодриться и расспросить эсаула с значительным видом о завтрашнем предприятии, с тем чтобы не быть недостойным того общества, в котором он находился.
Посланный офицер встретил Денисова на дороге с известием, что Долохов сам сейчас приедет и что с его стороны все благополучно.
Денисов вдруг повеселел и подозвал к себе Петю.
– Ну, г'асскажи ты мне пг'о себя, – сказал он.
Петя при выезде из Москвы, оставив своих родных, присоединился к своему полку и скоро после этого был взят ординарцем к генералу, командовавшему большим отрядом. Со времени своего производства в офицеры, и в особенности с поступления в действующую армию, где он участвовал в Вяземском сражении, Петя находился в постоянно счастливо возбужденном состоянии радости на то, что он большой, и в постоянно восторженной поспешности не пропустить какого нибудь случая настоящего геройства. Он был очень счастлив тем, что он видел и испытал в армии, но вместе с тем ему все казалось, что там, где его нет, там то теперь и совершается самое настоящее, геройское. И он торопился поспеть туда, где его не было.
Когда 21 го октября его генерал выразил желание послать кого нибудь в отряд Денисова, Петя так жалостно просил, чтобы послать его, что генерал не мог отказать. Но, отправляя его, генерал, поминая безумный поступок Пети в Вяземском сражении, где Петя, вместо того чтобы ехать дорогой туда, куда он был послан, поскакал в цепь под огонь французов и выстрелил там два раза из своего пистолета, – отправляя его, генерал именно запретил Пете участвовать в каких бы то ни было действиях Денисова. От этого то Петя покраснел и смешался, когда Денисов спросил, можно ли ему остаться. До выезда на опушку леса Петя считал, что ему надобно, строго исполняя свой долг, сейчас же вернуться. Но когда он увидал французов, увидал Тихона, узнал, что в ночь непременно атакуют, он, с быстротою переходов молодых людей от одного взгляда к другому, решил сам с собою, что генерал его, которого он до сих пор очень уважал, – дрянь, немец, что Денисов герой, и эсаул герой, и что Тихон герой, и что ему было бы стыдно уехать от них в трудную минуту.
Уже смеркалось, когда Денисов с Петей и эсаулом подъехали к караулке. В полутьме виднелись лошади в седлах, казаки, гусары, прилаживавшие шалашики на поляне и (чтобы не видели дыма французы) разводившие красневший огонь в лесном овраге. В сенях маленькой избушки казак, засучив рукава, рубил баранину. В самой избе были три офицера из партии Денисова, устроивавшие стол из двери. Петя снял, отдав сушить, свое мокрое платье и тотчас принялся содействовать офицерам в устройстве обеденного стола.
Через десять минут был готов стол, покрытый салфеткой. На столе была водка, ром в фляжке, белый хлеб и жареная баранина с солью.
Сидя вместе с офицерами за столом и разрывая руками, по которым текло сало, жирную душистую баранину, Петя находился в восторженном детском состоянии нежной любви ко всем людям и вследствие того уверенности в такой же любви к себе других людей.
– Так что же вы думаете, Василий Федорович, – обратился он к Денисову, – ничего, что я с вами останусь на денек? – И, не дожидаясь ответа, он сам отвечал себе: – Ведь мне велено узнать, ну вот я и узнаю… Только вы меня пустите в самую… в главную. Мне не нужно наград… А мне хочется… – Петя стиснул зубы и оглянулся, подергивая кверху поднятой головой и размахивая рукой.
– В самую главную… – повторил Денисов, улыбаясь.
– Только уж, пожалуйста, мне дайте команду совсем, чтобы я командовал, – продолжал Петя, – ну что вам стоит? Ах, вам ножик? – обратился он к офицеру, хотевшему отрезать баранины. И он подал свой складной ножик.
Офицер похвалил ножик.
– Возьмите, пожалуйста, себе. У меня много таких… – покраснев, сказал Петя. – Батюшки! Я и забыл совсем, – вдруг вскрикнул он. – У меня изюм чудесный, знаете, такой, без косточек. У нас маркитант новый – и такие прекрасные вещи. Я купил десять фунтов. Я привык что нибудь сладкое. Хотите?.. – И Петя побежал в сени к своему казаку, принес торбы, в которых было фунтов пять изюму. – Кушайте, господа, кушайте.
– А то не нужно ли вам кофейник? – обратился он к эсаулу. – Я у нашего маркитанта купил, чудесный! У него прекрасные вещи. И он честный очень. Это главное. Я вам пришлю непременно. А может быть еще, у вас вышли, обились кремни, – ведь это бывает. Я взял с собою, у меня вот тут… – он показал на торбы, – сто кремней. Я очень дешево купил. Возьмите, пожалуйста, сколько нужно, а то и все… – И вдруг, испугавшись, не заврался ли он, Петя остановился и покраснел.
Он стал вспоминать, не сделал ли он еще каких нибудь глупостей. И, перебирая воспоминания нынешнего дня, воспоминание о французе барабанщике представилось ему. «Нам то отлично, а ему каково? Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли?» – подумал он. Но заметив, что он заврался о кремнях, он теперь боялся.
«Спросить бы можно, – думал он, – да скажут: сам мальчик и мальчика пожалел. Я им покажу завтра, какой я мальчик! Стыдно будет, если я спрошу? – думал Петя. – Ну, да все равно!» – и тотчас же, покраснев и испуганно глядя на офицеров, не будет ли в их лицах насмешки, он сказал:
– А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен? дать ему чего нибудь поесть… может…
– Да, жалкий мальчишка, – сказал Денисов, видимо, не найдя ничего стыдного в этом напоминании. – Позвать его сюда. Vincent Bosse его зовут. Позвать.
– Я позову, – сказал Петя.
– Позови, позови. Жалкий мальчишка, – повторил Денисов.
Петя стоял у двери, когда Денисов сказал это. Петя пролез между офицерами и близко подошел к Денисову.
– Позвольте вас поцеловать, голубчик, – сказал он. – Ах, как отлично! как хорошо! – И, поцеловав Денисова, он побежал на двор.
– Bosse! Vincent! – прокричал Петя, остановясь у двери.
– Вам кого, сударь, надо? – сказал голос из темноты. Петя отвечал, что того мальчика француза, которого взяли нынче.
– А! Весеннего? – сказал казак.
Имя его Vincent уже переделали: казаки – в Весеннего, а мужики и солдаты – в Висеню. В обеих переделках это напоминание о весне сходилось с представлением о молоденьком мальчике.
– Он там у костра грелся. Эй, Висеня! Висеня! Весенний! – послышались в темноте передающиеся голоса и смех.
– А мальчонок шустрый, – сказал гусар, стоявший подле Пети. – Мы его покормили давеча. Страсть голодный был!
В темноте послышались шаги и, шлепая босыми ногами по грязи, барабанщик подошел к двери.
– Ah, c'est vous! – сказал Петя. – Voulez vous manger? N'ayez pas peur, on ne vous fera pas de mal, – прибавил он, робко и ласково дотрогиваясь до его руки. – Entrez, entrez. [Ах, это вы! Хотите есть? Не бойтесь, вам ничего не сделают. Войдите, войдите.]
– Merci, monsieur, [Благодарю, господин.] – отвечал барабанщик дрожащим, почти детским голосом и стал обтирать о порог свои грязные ноги. Пете многое хотелось сказать барабанщику, но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле него в сенях. Потом в темноте взял его за руку и пожал ее.
– Entrez, entrez, – повторил он только нежным шепотом.
«Ах, что бы мне ему сделать!» – проговорил сам с собою Петя и, отворив дверь, пропустил мимо себя мальчика.
Когда барабанщик вошел в избушку, Петя сел подальше от него, считая для себя унизительным обращать на него внимание. Он только ощупывал в кармане деньги и был в сомненье, не стыдно ли будет дать их барабанщику.
От барабанщика, которому по приказанию Денисова дали водки, баранины и которого Денисов велел одеть в русский кафтан, с тем, чтобы, не отсылая с пленными, оставить его при партии, внимание Пети было отвлечено приездом Долохова. Петя в армии слышал много рассказов про необычайные храбрость и жестокость Долохова с французами, и потому с тех пор, как Долохов вошел в избу, Петя, не спуская глаз, смотрел на него и все больше подбадривался, подергивая поднятой головой, с тем чтобы не быть недостойным даже и такого общества, как Долохов.
Наружность Долохова странно поразила Петю своей простотой.
Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая чудотворца и в манере говорить, во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же, напротив, прежде, в Москве, носивший персидский костюм, теперь имел вид самого чопорного гвардейского офицера. Лицо его было чисто выбрито, одет он был в гвардейский ваточный сюртук с Георгием в петлице и в прямо надетой простой фуражке. Он снял в углу мокрую бурку и, подойдя к Денисову, не здороваясь ни с кем, тотчас же стал расспрашивать о деле. Денисов рассказывал ему про замыслы, которые имели на их транспорт большие отряды, и про присылку Пети, и про то, как он отвечал обоим генералам. Потом Денисов рассказал все, что он знал про положение французского отряда.
– Это так, но надо знать, какие и сколько войск, – сказал Долохов, – надо будет съездить. Не зная верно, сколько их, пускаться в дело нельзя. Я люблю аккуратно дело делать. Вот, не хочет ли кто из господ съездить со мной в их лагерь. У меня мундиры с собою.
– Я, я… я поеду с вами! – вскрикнул Петя.
– Совсем и тебе не нужно ездить, – сказал Денисов, обращаясь к Долохову, – а уж его я ни за что не пущу.
– Вот прекрасно! – вскрикнул Петя, – отчего же мне не ехать?..
– Да оттого, что незачем.
– Ну, уж вы меня извините, потому что… потому что… я поеду, вот и все. Вы возьмете меня? – обратился он к Долохову.
– Отчего ж… – рассеянно отвечал Долохов, вглядываясь в лицо французского барабанщика.
– Давно у тебя молодчик этот? – спросил он у Денисова.
– Нынче взяли, да ничего не знает. Я оставил его пг'и себе.
– Ну, а остальных ты куда деваешь? – сказал Долохов.
– Как куда? Отсылаю под г'асписки! – вдруг покраснев, вскрикнул Денисов. – И смело скажу, что на моей совести нет ни одного человека. Разве тебе тг'удно отослать тг'идцать ли, тг'иста ли человек под конвоем в гог'од, чем маг'ать, я пг'ямо скажу, честь солдата.
– Вот молоденькому графчику в шестнадцать лет говорить эти любезности прилично, – с холодной усмешкой сказал Долохов, – а тебе то уж это оставить пора.
– Что ж, я ничего не говорю, я только говорю, что я непременно поеду с вами, – робко сказал Петя.
– А нам с тобой пора, брат, бросить эти любезности, – продолжал Долохов, как будто он находил особенное удовольствие говорить об этом предмете, раздражавшем Денисова. – Ну этого ты зачем взял к себе? – сказал он, покачивая головой. – Затем, что тебе его жалко? Ведь мы знаем эти твои расписки. Ты пошлешь их сто человек, а придут тридцать. Помрут с голоду или побьют. Так не все ли равно их и не брать?
Эсаул, щуря светлые глаза, одобрительно кивал головой.
– Это все г'авно, тут Рассуждать нечего. Я на свою душу взять не хочу. Ты говог'ишь – помг'ут. Ну, хог'ошо. Только бы не от меня.
Долохов засмеялся.
– Кто же им не велел меня двадцать раз поймать? А ведь поймают – меня и тебя, с твоим рыцарством, все равно на осинку. – Он помолчал. – Однако надо дело делать. Послать моего казака с вьюком! У меня два французских мундира. Что ж, едем со мной? – спросил он у Пети.
– Я? Да, да, непременно, – покраснев почти до слез, вскрикнул Петя, взглядывая на Денисова.
Опять в то время, как Долохов заспорил с Денисовым о том, что надо делать с пленными, Петя почувствовал неловкость и торопливость; но опять не успел понять хорошенько того, о чем они говорили. «Ежели так думают большие, известные, стало быть, так надо, стало быть, это хорошо, – думал он. – А главное, надо, чтобы Денисов не смел думать, что я послушаюсь его, что он может мной командовать. Непременно поеду с Долоховым во французский лагерь. Он может, и я могу».
На все убеждения Денисова не ездить Петя отвечал, что он тоже привык все делать аккуратно, а не наобум Лазаря, и что он об опасности себе никогда не думает.
– Потому что, – согласитесь сами, – если не знать верно, сколько там, от этого зависит жизнь, может быть, сотен, а тут мы одни, и потом мне очень этого хочется, и непременно, непременно поеду, вы уж меня не удержите, – говорил он, – только хуже будет…
Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом.
– Если попадемся, я живым не отдамся, у меня пистолет, – прошептал Петя.
– Не говори по русски, – быстрым шепотом сказал Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик: «Qui vive?» [Кто идет?] и звон ружья.
Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет.
– Lanciers du sixieme, [Уланы шестого полка.] – проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту.
– Mot d'ordre? [Отзыв?] – Долохов придержал лошадь и поехал шагом.
– Dites donc, le colonel Gerard est ici? [Скажи, здесь ли полковник Жерар?] – сказал он.
– Mot d'ordre! – не отвечая, сказал часовой, загораживая дорогу.
– Quand un officier fait sa ronde, les sentinelles ne demandent pas le mot d'ordre… – крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая лошадью на часового. – Je vous demande si le colonel est ici? [Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают отзыва… Я спрашиваю, тут ли полковник?]
И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору.
Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командир и офицеры? Человек этот, с мешком на плече, солдат, остановился, близко подошел к лошади Долохова, дотрогиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командир и офицеры были выше на горе, с правой стороны, на дворе фермы (так он называл господскую усадьбу).
Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом.
– Oh, c'est un dur a cuire, [С этим чертом не сладишь.] – говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра.
– Il les fera marcher les lapins… [Он их проберет…] – со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру с своими лошадьми.
– Bonjour, messieurs! [Здравствуйте, господа!] – громко, отчетливо выговорил Долохов.
Офицеры зашевелились в тени костра, и один, высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову.
– C'est vous, Clement? – сказал он. – D'ou, diable… [Это вы, Клеман? Откуда, черт…] – но он не докончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего нибудь о шестом полку. Никто ничего не знал; и Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали.
– Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard, [Если вы рассчитываете на ужин, то вы опоздали.] – сказал с сдержанным смехом голос из за костра.
Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше.
Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз: какого он был полка? Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицеров о том, в какой степени безопасна дорога от казаков впереди их.
– Les brigands sont partout, [Эти разбойники везде.] – отвечал офицер из за костра.
Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать, прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил.
«Ну, теперь он уедет», – всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор.
Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал:
– La vilaine affaire de trainer ces cadavres apres soi. Vaudrait mieux fusiller cette canaille, [Скверное дело таскать за собой эти трупы. Лучше бы расстрелять эту сволочь.] – и громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было (он лежал, укутавшись шинелью), приподнялся и прошептал что то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми.
«Подадут или нет лошадей?» – думал Петя, невольно приближаясь к Долохову.
Лошадей подали.
– Bonjour, messieurs, [Здесь: прощайте, господа.] – сказал Долохов.
Петя хотел сказать bonsoir [добрый вечер] и не мог договорить слова. Офицеры что то шепотом говорили между собою. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла; потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтоб увидать, бегут или не бегут за ними французы.
Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь.
– Слышишь? – сказал он.
Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки.
– Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре, по первому выстрелу, – сказал Долохов и хотел ехать, но Петя схватился за него рукою.
– Нет! – вскрикнул он, – вы такой герой. Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю.
– Хорошо, хорошо, – сказал Долохов, но Петя не отпускал его, и в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.
Х
Вернувшись к караулке, Петя застал Денисова в сенях. Денисов в волнении, беспокойстве и досаде на себя, что отпустил Петю, ожидал его.
– Слава богу! – крикнул он. – Ну, слава богу! – повторял он, слушая восторженный рассказ Пети. – И чег'т тебя возьми, из за тебя не спал! – проговорил Денисов. – Ну, слава богу, тепег'ь ложись спать. Еще вздг'емнем до утг'а.
– Да… Нет, – сказал Петя. – Мне еще не хочется спать. Да я и себя знаю, ежели засну, так уж кончено. И потом я привык не спать перед сражением.
Петя посидел несколько времени в избе, радостно вспоминая подробности своей поездки и живо представляя себе то, что будет завтра. Потом, заметив, что Денисов заснул, он встал и пошел на двор.
На дворе еще было совсем темно. Дождик прошел, но капли еще падали с деревьев. Вблизи от караулки виднелись черные фигуры казачьих шалашей и связанных вместе лошадей. За избушкой чернелись две фуры, у которых стояли лошади, и в овраге краснелся догоравший огонь. Казаки и гусары не все спали: кое где слышались, вместе с звуком падающих капель и близкого звука жевания лошадей, негромкие, как бы шепчущиеся голоса.
Петя вышел из сеней, огляделся в темноте и подошел к фурам. Под фурами храпел кто то, и вокруг них стояли, жуя овес, оседланные лошади. В темноте Петя узнал свою лошадь, которую он называл Карабахом, хотя она была малороссийская лошадь, и подошел к ней.
– Ну, Карабах, завтра послужим, – сказал он, нюхая ее ноздри и целуя ее.
– Что, барин, не спите? – сказал казак, сидевший под фурой.
– Нет; а… Лихачев, кажется, тебя звать? Ведь я сейчас только приехал. Мы ездили к французам. – И Петя подробно рассказал казаку не только свою поездку, но и то, почему он ездил и почему он считает, что лучше рисковать своей жизнью, чем делать наобум Лазаря.
– Что же, соснули бы, – сказал казак.
– Нет, я привык, – отвечал Петя. – А что, у вас кремни в пистолетах не обились? Я привез с собою. Не нужно ли? Ты возьми.
Казак высунулся из под фуры, чтобы поближе рассмотреть Петю.
– Оттого, что я привык все делать аккуратно, – сказал Петя. – Иные так, кое как, не приготовятся, потом и жалеют. Я так не люблю.
– Это точно, – сказал казак.
– Да еще вот что, пожалуйста, голубчик, наточи мне саблю; затупи… (но Петя боялся солгать) она никогда отточена не была. Можно это сделать?
– Отчего ж, можно.
Лихачев встал, порылся в вьюках, и Петя скоро услыхал воинственный звук стали о брусок. Он влез на фуру и сел на край ее. Казак под фурой точил саблю.
– А что же, спят молодцы? – сказал Петя.
– Кто спит, а кто так вот.
– Ну, а мальчик что?
– Весенний то? Он там, в сенцах, завалился. Со страху спится. Уж рад то был.
Долго после этого Петя молчал, прислушиваясь к звукам. В темноте послышались шаги и показалась черная фигура.
– Что точишь? – спросил человек, подходя к фуре.
– А вот барину наточить саблю.
– Хорошее дело, – сказал человек, который показался Пете гусаром. – У вас, что ли, чашка осталась?
– А вон у колеса.
Гусар взял чашку.
– Небось скоро свет, – проговорил он, зевая, и прошел куда то.
Петя должен бы был знать, что он в лесу, в партии Денисова, в версте от дороги, что он сидит на фуре, отбитой у французов, около которой привязаны лошади, что под ним сидит казак Лихачев и натачивает ему саблю, что большое черное пятно направо – караулка, и красное яркое пятно внизу налево – догоравший костер, что человек, приходивший за чашкой, – гусар, который хотел пить; но он ничего не знал и не хотел знать этого. Он был в волшебном царстве, в котором ничего не было похожего на действительность. Большое черное пятно, может быть, точно была караулка, а может быть, была пещера, которая вела в самую глубь земли. Красное пятно, может быть, был огонь, а может быть – глаз огромного чудовища. Может быть, он точно сидит теперь на фуре, а очень может быть, что он сидит не на фуре, а на страшно высокой башне, с которой ежели упасть, то лететь бы до земли целый день, целый месяц – все лететь и никогда не долетишь. Может быть, что под фурой сидит просто казак Лихачев, а очень может быть, что это – самый добрый, храбрый, самый чудесный, самый превосходный человек на свете, которого никто не знает. Может быть, это точно проходил гусар за водой и пошел в лощину, а может быть, он только что исчез из виду и совсем исчез, и его не было.
Что бы ни увидал теперь Петя, ничто бы не удивило его. Он был в волшебном царстве, в котором все было возможно.
Он поглядел на небо. И небо было такое же волшебное, как и земля. На небе расчищало, и над вершинами дерев быстро бежали облака, как будто открывая звезды. Иногда казалось, что на небе расчищало и показывалось черное, чистое небо. Иногда казалось, что эти черные пятна были тучки. Иногда казалось, что небо высоко, высоко поднимается над головой; иногда небо спускалось совсем, так что рукой можно было достать его.
Петя стал закрывать глаза и покачиваться.
Капли капали. Шел тихий говор. Лошади заржали и подрались. Храпел кто то.
– Ожиг, жиг, ожиг, жиг… – свистела натачиваемая сабля. И вдруг Петя услыхал стройный хор музыки, игравшей какой то неизвестный, торжественно сладкий гимн. Петя был музыкален, так же как Наташа, и больше Николая, но он никогда не учился музыке, не думал о музыке, и потому мотивы, неожиданно приходившие ему в голову, были для него особенно новы и привлекательны. Музыка играла все слышнее и слышнее. Напев разрастался, переходил из одного инструмента в другой. Происходило то, что называется фугой, хотя Петя не имел ни малейшего понятия о том, что такое фуга. Каждый инструмент, то похожий на скрипку, то на трубы – но лучше и чище, чем скрипки и трубы, – каждый инструмент играл свое и, не доиграв еще мотива, сливался с другим, начинавшим почти то же, и с третьим, и с четвертым, и все они сливались в одно и опять разбегались, и опять сливались то в торжественно церковное, то в ярко блестящее и победное.
«Ах, да, ведь это я во сне, – качнувшись наперед, сказал себе Петя. – Это у меня в ушах. А может быть, это моя музыка. Ну, опять. Валяй моя музыка! Ну!..»
Он закрыл глаза. И с разных сторон, как будто издалека, затрепетали звуки, стали слаживаться, разбегаться, сливаться, и опять все соединилось в тот же сладкий и торжественный гимн. «Ах, это прелесть что такое! Сколько хочу и как хочу», – сказал себе Петя. Он попробовал руководить этим огромным хором инструментов.
«Ну, тише, тише, замирайте теперь. – И звуки слушались его. – Ну, теперь полнее, веселее. Еще, еще радостнее. – И из неизвестной глубины поднимались усиливающиеся, торжественные звуки. – Ну, голоса, приставайте!» – приказал Петя. И сначала издалека послышались голоса мужские, потом женские. Голоса росли, росли в равномерном торжественном усилии. Пете страшно и радостно было внимать их необычайной красоте.
С торжественным победным маршем сливалась песня, и капли капали, и вжиг, жиг, жиг… свистела сабля, и опять подрались и заржали лошади, не нарушая хора, а входя в него.
Петя не знал, как долго это продолжалось: он наслаждался, все время удивлялся своему наслаждению и жалел, что некому сообщить его. Его разбудил ласковый голос Лихачева.
– Готово, ваше благородие, надвое хранцуза распластаете.
Петя очнулся.
– Уж светает, право, светает! – вскрикнул он.
Невидные прежде лошади стали видны до хвостов, и сквозь оголенные ветки виднелся водянистый свет. Петя встряхнулся, вскочил, достал из кармана целковый и дал Лихачеву, махнув, попробовал шашку и положил ее в ножны. Казаки отвязывали лошадей и подтягивали подпруги.
– Вот и командир, – сказал Лихачев. Из караулки вышел Денисов и, окликнув Петю, приказал собираться.
Быстро в полутьме разобрали лошадей, подтянули подпруги и разобрались по командам. Денисов стоял у караулки, отдавая последние приказания. Пехота партии, шлепая сотней ног, прошла вперед по дороге и быстро скрылась между деревьев в предрассветном тумане. Эсаул что то приказывал казакам. Петя держал свою лошадь в поводу, с нетерпением ожидая приказания садиться. Обмытое холодной водой, лицо его, в особенности глаза горели огнем, озноб пробегал по спине, и во всем теле что то быстро и равномерно дрожало.
– Ну, готово у вас все? – сказал Денисов. – Давай лошадей.
Лошадей подали. Денисов рассердился на казака за то, что подпруги были слабы, и, разбранив его, сел. Петя взялся за стремя. Лошадь, по привычке, хотела куснуть его за ногу, но Петя, не чувствуя своей тяжести, быстро вскочил в седло и, оглядываясь на тронувшихся сзади в темноте гусар, подъехал к Денисову.
– Василий Федорович, вы мне поручите что нибудь? Пожалуйста… ради бога… – сказал он. Денисов, казалось, забыл про существование Пети. Он оглянулся на него.
– Об одном тебя пг'ошу, – сказал он строго, – слушаться меня и никуда не соваться.
Во все время переезда Денисов ни слова не говорил больше с Петей и ехал молча. Когда подъехали к опушке леса, в поле заметно уже стало светлеть. Денисов поговорил что то шепотом с эсаулом, и казаки стали проезжать мимо Пети и Денисова. Когда они все проехали, Денисов тронул свою лошадь и поехал под гору. Садясь на зады и скользя, лошади спускались с своими седоками в лощину. Петя ехал рядом с Денисовым. Дрожь во всем его теле все усиливалась. Становилось все светлее и светлее, только туман скрывал отдаленные предметы. Съехав вниз и оглянувшись назад, Денисов кивнул головой казаку, стоявшему подле него.
– Сигнал! – проговорил он.
Казак поднял руку, раздался выстрел. И в то же мгновение послышался топот впереди поскакавших лошадей, крики с разных сторон и еще выстрелы.
В то же мгновение, как раздались первые звуки топота и крика, Петя, ударив свою лошадь и выпустив поводья, не слушая Денисова, кричавшего на него, поскакал вперед. Пете показалось, что вдруг совершенно, как середь дня, ярко рассвело в ту минуту, как послышался выстрел. Он подскакал к мосту. Впереди по дороге скакали казаки. На мосту он столкнулся с отставшим казаком и поскакал дальше. Впереди какие то люди, – должно быть, это были французы, – бежали с правой стороны дороги на левую. Один упал в грязь под ногами Петиной лошади.
У одной избы столпились казаки, что то делая. Из середины толпы послышался страшный крик. Петя подскакал к этой толпе, и первое, что он увидал, было бледное, с трясущейся нижней челюстью лицо француза, державшегося за древко направленной на него пики.
– Ура!.. Ребята… наши… – прокричал Петя и, дав поводья разгорячившейся лошади, поскакал вперед по улице.
Впереди слышны были выстрелы. Казаки, гусары и русские оборванные пленные, бежавшие с обеих сторон дороги, все громко и нескладно кричали что то. Молодцеватый, без шапки, с красным нахмуренным лицом, француз в синей шинели отбивался штыком от гусаров. Когда Петя подскакал, француз уже упал. Опять опоздал, мелькнуло в голове Пети, и он поскакал туда, откуда слышались частые выстрелы. Выстрелы раздавались на дворе того барского дома, на котором он был вчера ночью с Долоховым. Французы засели там за плетнем в густом, заросшем кустами саду и стреляли по казакам, столпившимся у ворот. Подъезжая к воротам, Петя в пороховом дыму увидал Долохова с бледным, зеленоватым лицом, кричавшего что то людям. «В объезд! Пехоту подождать!» – кричал он, в то время как Петя подъехал к нему.
– Подождать?.. Ураааа!.. – закричал Петя и, не медля ни одной минуты, поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым. Послышался залп, провизжали пустые и во что то шлепнувшие пули. Казаки и Долохов вскакали вслед за Петей в ворота дома. Французы в колеблющемся густом дыме одни бросали оружие и выбегали из кустов навстречу казакам, другие бежали под гору к пруду. Петя скакал на своей лошади вдоль по барскому двору и, вместо того чтобы держать поводья, странно и быстро махал обеими руками и все дальше и дальше сбивался с седла на одну сторону. Лошадь, набежав на тлевший в утреннем свето костер, уперлась, и Петя тяжело упал на мокрую землю. Казаки видели, как быстро задергались его руки и ноги, несмотря на то, что голова его не шевелилась. Пуля пробила ему голову.
Переговоривши с старшим французским офицером, который вышел к нему из за дома с платком на шпаге и объявил, что они сдаются, Долохов слез с лошади и подошел к неподвижно, с раскинутыми руками, лежавшему Пете.
– Готов, – сказал он, нахмурившись, и пошел в ворота навстречу ехавшему к нему Денисову.
– Убит?! – вскрикнул Денисов, увидав еще издалека то знакомое ему, несомненно безжизненное положение, в котором лежало тело Пети.
– Готов, – повторил Долохов, как будто выговаривание этого слова доставляло ему удовольствие, и быстро пошел к пленным, которых окружили спешившиеся казаки. – Брать не будем! – крикнул он Денисову.
Денисов не отвечал; он подъехал к Пете, слез с лошади и дрожащими руками повернул к себе запачканное кровью и грязью, уже побледневшее лицо Пети.
«Я привык что нибудь сладкое. Отличный изюм, берите весь», – вспомнилось ему. И казаки с удивлением оглянулись на звуки, похожие на собачий лай, с которыми Денисов быстро отвернулся, подошел к плетню и схватился за него.
В числе отбитых Денисовым и Долоховым русских пленных был Пьер Безухов.
О той партии пленных, в которой был Пьер, во время всего своего движения от Москвы, не было от французского начальства никакого нового распоряжения. Партия эта 22 го октября находилась уже не с теми войсками и обозами, с которыми она вышла из Москвы. Половина обоза с сухарями, который шел за ними первые переходы, была отбита казаками, другая половина уехала вперед; пеших кавалеристов, которые шли впереди, не было ни одного больше; они все исчезли. Артиллерия, которая первые переходы виднелась впереди, заменилась теперь огромным обозом маршала Жюно, конвоируемого вестфальцами. Сзади пленных ехал обоз кавалерийских вещей.
От Вязьмы французские войска, прежде шедшие тремя колоннами, шли теперь одной кучей. Те признаки беспорядка, которые заметил Пьер на первом привале из Москвы, теперь дошли до последней степени.
Дорога, по которой они шли, с обеих сторон была уложена мертвыми лошадьми; оборванные люди, отсталые от разных команд, беспрестанно переменяясь, то присоединялись, то опять отставали от шедшей колонны.
Несколько раз во время похода бывали фальшивые тревоги, и солдаты конвоя поднимали ружья, стреляли и бежали стремглав, давя друг друга, но потом опять собирались и бранили друг друга за напрасный страх.
Эти три сборища, шедшие вместе, – кавалерийское депо, депо пленных и обоз Жюно, – все еще составляли что то отдельное и цельное, хотя и то, и другое, и третье быстро таяло.
В депо, в котором было сто двадцать повозок сначала, теперь оставалось не больше шестидесяти; остальные были отбиты или брошены. Из обоза Жюно тоже было оставлено и отбито несколько повозок. Три повозки были разграблены набежавшими отсталыми солдатами из корпуса Даву. Из разговоров немцев Пьер слышал, что к этому обозу ставили караул больше, чем к пленным, и что один из их товарищей, солдат немец, был расстрелян по приказанию самого маршала за то, что у солдата нашли серебряную ложку, принадлежавшую маршалу.
Больше же всего из этих трех сборищ растаяло депо пленных. Из трехсот тридцати человек, вышедших из Москвы, теперь оставалось меньше ста. Пленные еще более, чем седла кавалерийского депо и чем обоз Жюно, тяготили конвоирующих солдат. Седла и ложки Жюно, они понимали, что могли для чего нибудь пригодиться, но для чего было голодным и холодным солдатам конвоя стоять на карауле и стеречь таких же холодных и голодных русских, которые мерли и отставали дорогой, которых было велено пристреливать, – это было не только непонятно, но и противно. И конвойные, как бы боясь в том горестном положении, в котором они сами находились, не отдаться бывшему в них чувству жалости к пленным и тем ухудшить свое положение, особенно мрачно и строго обращались с ними.
В Дорогобуже, в то время как, заперев пленных в конюшню, конвойные солдаты ушли грабить свои же магазины, несколько человек пленных солдат подкопались под стену и убежали, но были захвачены французами и расстреляны.
Прежний, введенный при выходе из Москвы, порядок, чтобы пленные офицеры шли отдельно от солдат, уже давно был уничтожен; все те, которые могли идти, шли вместе, и Пьер с третьего перехода уже соединился опять с Каратаевым и лиловой кривоногой собакой, которая избрала себе хозяином Каратаева.
С Каратаевым, на третий день выхода из Москвы, сделалась та лихорадка, от которой он лежал в московском гошпитале, и по мере того как Каратаев ослабевал, Пьер отдалялся от него. Пьер не знал отчего, но, с тех пор как Каратаев стал слабеть, Пьер должен был делать усилие над собой, чтобы подойти к нему. И подходя к нему и слушая те тихие стоны, с которыми Каратаев обыкновенно на привалах ложился, и чувствуя усилившийся теперь запах, который издавал от себя Каратаев, Пьер отходил от него подальше и не думал о нем.
В плену, в балагане, Пьер узнал не умом, а всем существом своим, жизнью, что человек сотворен для счастья, что счастье в нем самом, в удовлетворении естественных человеческих потребностей, и что все несчастье происходит не от недостатка, а от излишка; но теперь, в эти последние три недели похода, он узнал еще новую, утешительную истину – он узнал, что на свете нет ничего страшного. Он узнал, что так как нет положения, в котором бы человек был счастлив и вполне свободен, так и нет положения, в котором бы он был бы несчастлив и несвободен. Он узнал, что есть граница страданий и граница свободы и что эта граница очень близка; что тот человек, который страдал оттого, что в розовой постели его завернулся один листок, точно так же страдал, как страдал он теперь, засыпая на голой, сырой земле, остужая одну сторону и пригревая другую; что, когда он, бывало, надевал свои бальные узкие башмаки, он точно так же страдал, как теперь, когда он шел уже босой совсем (обувь его давно растрепалась), ногами, покрытыми болячками. Он узнал, что, когда он, как ему казалось, по собственной своей воле женился на своей жене, он был не более свободен, чем теперь, когда его запирали на ночь в конюшню. Из всего того, что потом и он называл страданием, но которое он тогда почти не чувствовал, главное были босые, стертые, заструпелые ноги. (Лошадиное мясо было вкусно и питательно, селитренный букет пороха, употребляемого вместо соли, был даже приятен, холода большого не было, и днем на ходу всегда бывало жарко, а ночью были костры; вши, евшие тело, приятно согревали.) Одно было тяжело в первое время – это ноги.
Во второй день перехода, осмотрев у костра свои болячки, Пьер думал невозможным ступить на них; но когда все поднялись, он пошел, прихрамывая, и потом, когда разогрелся, пошел без боли, хотя к вечеру страшнее еще было смотреть на ноги. Но он не смотрел на них и думал о другом.
Теперь только Пьер понял всю силу жизненности человека и спасительную силу перемещения внимания, вложенную в человека, подобную тому спасительному клапану в паровиках, который выпускает лишний пар, как только плотность его превышает известную норму.
Он не видал и не слыхал, как пристреливали отсталых пленных, хотя более сотни из них уже погибли таким образом. Он не думал о Каратаеве, который слабел с каждым днем и, очевидно, скоро должен был подвергнуться той же участи. Еще менее Пьер думал о себе. Чем труднее становилось его положение, чем страшнее была будущность, тем независимее от того положения, в котором он находился, приходили ему радостные и успокоительные мысли, воспоминания и представления.
22 го числа, в полдень, Пьер шел в гору по грязной, скользкой дороге, глядя на свои ноги и на неровности пути. Изредка он взглядывал на знакомую толпу, окружающую его, и опять на свои ноги. И то и другое было одинаково свое и знакомое ему. Лиловый кривоногий Серый весело бежал стороной дороги, изредка, в доказательство своей ловкости и довольства, поджимая заднюю лапу и прыгая на трех и потом опять на всех четырех бросаясь с лаем на вороньев, которые сидели на падали. Серый был веселее и глаже, чем в Москве. Со всех сторон лежало мясо различных животных – от человеческого до лошадиного, в различных степенях разложения; и волков не подпускали шедшие люди, так что Серый мог наедаться сколько угодно.
Дождик шел с утра, и казалось, что вот вот он пройдет и на небе расчистит, как вслед за непродолжительной остановкой припускал дождик еще сильнее. Напитанная дождем дорога уже не принимала в себя воды, и ручьи текли по колеям.
Пьер шел, оглядываясь по сторонам, считая шаги по три, и загибал на пальцах. Обращаясь к дождю, он внутренне приговаривал: ну ка, ну ка, еще, еще наддай.
Ему казалось, что он ни о чем не думает; но далеко и глубоко где то что то важное и утешительное думала его душа. Это что то было тончайшее духовное извлечение из вчерашнего его разговора с Каратаевым.
Вчера, на ночном привале, озябнув у потухшего огня, Пьер встал и перешел к ближайшему, лучше горящему костру. У костра, к которому он подошел, сидел Платон, укрывшись, как ризой, с головой шинелью, и рассказывал солдатам своим спорым, приятным, но слабым, болезненным голосом знакомую Пьеру историю. Было уже за полночь. Это было то время, в которое Каратаев обыкновенно оживал от лихорадочного припадка и бывал особенно оживлен. Подойдя к костру и услыхав слабый, болезненный голос Платона и увидав его ярко освещенное огнем жалкое лицо, Пьера что то неприятно кольнуло в сердце. Он испугался своей жалости к этому человеку и хотел уйти, но другого костра не было, и Пьер, стараясь не глядеть на Платона, подсел к костру.
– Что, как твое здоровье? – спросил он.
– Что здоровье? На болезнь плакаться – бог смерти не даст, – сказал Каратаев и тотчас же возвратился к начатому рассказу.
– …И вот, братец ты мой, – продолжал Платон с улыбкой на худом, бледном лице и с особенным, радостным блеском в глазах, – вот, братец ты мой…
Пьер знал эту историю давно, Каратаев раз шесть ему одному рассказывал эту историю, и всегда с особенным, радостным чувством. Но как ни хорошо знал Пьер эту историю, он теперь прислушался к ней, как к чему то новому, и тот тихий восторг, который, рассказывая, видимо, испытывал Каратаев, сообщился и Пьеру. История эта была о старом купце, благообразно и богобоязненно жившем с семьей и поехавшем однажды с товарищем, богатым купцом, к Макарью.
Остановившись на постоялом дворе, оба купца заснули, и на другой день товарищ купца был найден зарезанным и ограбленным. Окровавленный нож найден был под подушкой старого купца. Купца судили, наказали кнутом и, выдернув ноздри, – как следует по порядку, говорил Каратаев, – сослали в каторгу.
– И вот, братец ты мой (на этом месте Пьер застал рассказ Каратаева), проходит тому делу годов десять или больше того. Живет старичок на каторге. Как следовает, покоряется, худого не делает. Только у бога смерти просит. – Хорошо. И соберись они, ночным делом, каторжные то, так же вот как мы с тобой, и старичок с ними. И зашел разговор, кто за что страдает, в чем богу виноват. Стали сказывать, тот душу загубил, тот две, тот поджег, тот беглый, так ни за что. Стали старичка спрашивать: ты за что, мол, дедушка, страдаешь? Я, братцы мои миленькие, говорит, за свои да за людские грехи страдаю. А я ни душ не губил, ни чужого не брал, акромя что нищую братию оделял. Я, братцы мои миленькие, купец; и богатство большое имел. Так и так, говорит. И рассказал им, значит, как все дело было, по порядку. Я, говорит, о себе не тужу. Меня, значит, бог сыскал. Одно, говорит, мне свою старуху и деток жаль. И так то заплакал старичок. Случись в их компании тот самый человек, значит, что купца убил. Где, говорит, дедушка, было? Когда, в каком месяце? все расспросил. Заболело у него сердце. Подходит таким манером к старичку – хлоп в ноги. За меня ты, говорит, старичок, пропадаешь. Правда истинная; безвинно напрасно, говорит, ребятушки, человек этот мучится. Я, говорит, то самое дело сделал и нож тебе под голова сонному подложил. Прости, говорит, дедушка, меня ты ради Христа.
Каратаев замолчал, радостно улыбаясь, глядя на огонь, и поправил поленья.
– Старичок и говорит: бог, мол, тебя простит, а мы все, говорит, богу грешны, я за свои грехи страдаю. Сам заплакал горючьми слезьми. Что же думаешь, соколик, – все светлее и светлее сияя восторженной улыбкой, говорил Каратаев, как будто в том, что он имел теперь рассказать, заключалась главная прелесть и все значение рассказа, – что же думаешь, соколик, объявился этот убийца самый по начальству. Я, говорит, шесть душ загубил (большой злодей был), но всего мне жальче старичка этого. Пускай же он на меня не плачется. Объявился: списали, послали бумагу, как следовает. Место дальнее, пока суд да дело, пока все бумаги списали как должно, по начальствам, значит. До царя доходило. Пока что, пришел царский указ: выпустить купца, дать ему награждения, сколько там присудили. Пришла бумага, стали старичка разыскивать. Где такой старичок безвинно напрасно страдал? От царя бумага вышла. Стали искать. – Нижняя челюсть Каратаева дрогнула. – А его уж бог простил – помер. Так то, соколик, – закончил Каратаев и долго, молча улыбаясь, смотрел перед собой.
Не самый рассказ этот, но таинственный смысл его, та восторженная радость, которая сияла в лице Каратаева при этом рассказе, таинственное значение этой радости, это то смутно и радостно наполняло теперь душу Пьера.
– A vos places! [По местам!] – вдруг закричал голос.
Между пленными и конвойными произошло радостное смятение и ожидание чего то счастливого и торжественного. Со всех сторон послышались крики команды, и с левой стороны, рысью объезжая пленных, показались кавалеристы, хорошо одетые, на хороших лошадях. На всех лицах было выражение напряженности, которая бывает у людей при близости высших властей. Пленные сбились в кучу, их столкнули с дороги; конвойные построились.
– L'Empereur! L'Empereur! Le marechal! Le duc! [Император! Император! Маршал! Герцог!] – и только что проехали сытые конвойные, как прогремела карета цугом, на серых лошадях. Пьер мельком увидал спокойное, красивое, толстое и белое лицо человека в треугольной шляпе. Это был один из маршалов. Взгляд маршала обратился на крупную, заметную фигуру Пьера, и в том выражении, с которым маршал этот нахмурился и отвернул лицо, Пьеру показалось сострадание и желание скрыть его.
- Родившиеся 14 января
- Родившиеся в 83 году до н. э.
- Умершие 1 августа
- Умершие в 30 году до н. э.
- Персоналии по алфавиту
- Умершие в Александрии
- Начальники конницы I века до н. э.
- Консулы Римской республики I века до н. э.
- Военачальники по алфавиту
- Военачальники Древнего Рима
- Римляне, участвовавшие в Галльской войне
- Юлии-Клавдии
- Антонии
- Консулы-десигнаты
- Зарезавшиеся
